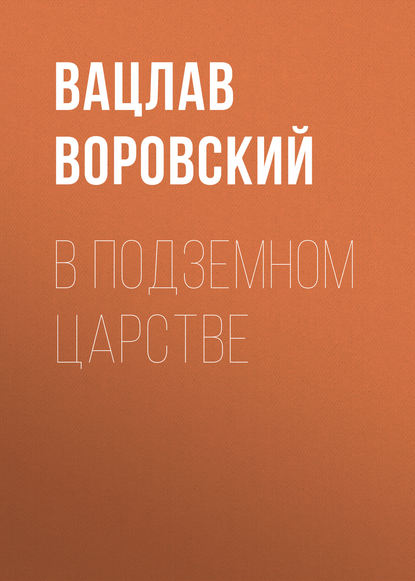 Полная версия
Полная версияВ подземном царстве
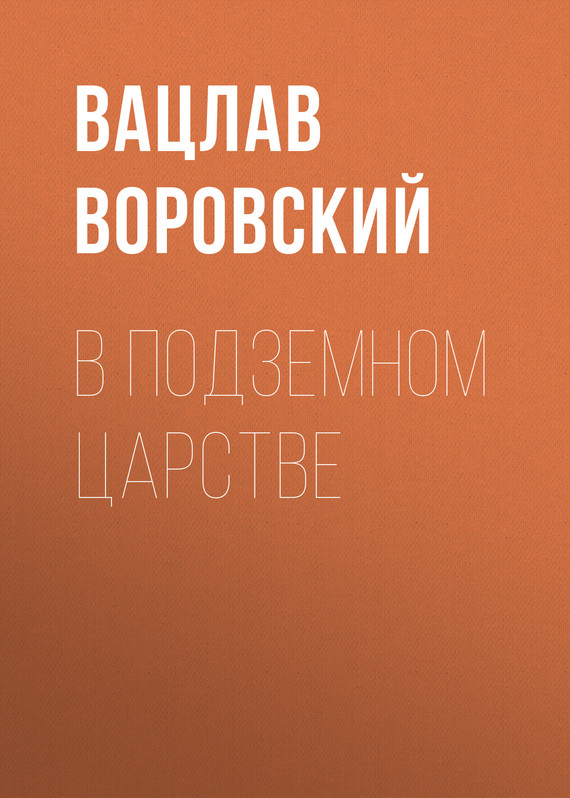
Вацлав Воровский
В подземном царстве
Мрак подземного царства озаряется кровавыми огнями светильников, в которых горит человеческий жир.
За длинным столом, обтянутым кожей левых депутатов, сидят страшные судьи Аида: Минос, Радаман и Эак[1].
Справа от них прокурор – кровожадный Цербер.
У него три головы: одна голова – Пуришкевича, другая – Буренина[2], третья – Меньшикова.
Тело у него короткое и жирное, как у черноземного помещика, а хвост похож на нагайку.
Пуришкевичевская голова все время беспокойно вертится, по временам извергает ругательства или показывает язык.
Буренинская голова старчески трясется, беспрерывно ворчит и брызжет слюной.
Меньшиковская голова слегка приподнята и молитвенно наклонена на бок, глаза закачены, губы шевелятся, что-то шепчут, а из угла рта беспрерывно течет какая-то зеленая жидкость.
Налево от стола судей место защитника.
И – о, диавольское наваждение! – здесь сидит тоже Меньшиков. Тот же самый Меньшиков, с тою же молитвенно-лицемерно-предательской рожицей. Сидит, перебирает четки, и губы его так же тихо шевелятся, нашептывая не то молитву, не то донос.
Два молодца с резинами за поясом, отмеченные клеймом, вводят подсудимого.
Это известный им понаслышке еретик, продавшийся антихристу, какой-то граф Лев Толстой из Ясной Поляны.
– Господа судьи и адский народ, – сказал торжественным голосом Минос, – ввиду восьмидесятилетия подсудимого, мы должны взвесить на весах правосудия…
– Военного! – крикнула голова Пуришкевича.
– Конечно… конечно, – поправился Минос.
В глубине раздалось рукоплескание трех миллионов пар рук[3].
– Итак, – продолжал Минос, – мы должны взвесить на весах военного правосудия добродетели и пороки подсудимого, дабы решить, введем ли мы его в национальный пантеон…
В глубине крики негодования, свист, угрозы, щелкания взводимых курков.
– …Или же отдадим на растерзание Смердякову.
Гром аплодисментов. Цербер кланяется всеми тремя головами. Встает на задние лапы Цербер и начинает обвинительную речь головою Буренина.
– Неисчислимы, как число членов нашей партии, грехи и преступления сего человека. Но один великий грех покрывает все: это измена отечеству в горестную минуту победоносной войны с Японией…[4]
– Распни его, распни (три миллиона голосов).
– В тот момент, когда расстроенные ряды японской армии в беспорядке бежали от Порт-Артура к Гирину[5], он – этот человек, предавший отечество космополитической идее мира…
– Вы говорите, надеюсь, не об идее мира проф. Мартенса?[6]
– О, конечно, нет. Я говорю об идее мира, стремящейся уничтожить войну. Итак, этот человек находился в дружеской переписке с японским писателем Изоабе. Благодаря этому, мы лишены были возможности присоединить всю Японию и должны были удовлетвориться только северной половиной острова Сахалина. Я ограничиваюсь лишь этим пунктом обвинения и требую для виновного отдачи его пожизненно в собственность Пуришкевичу. В качестве вещественных доказательств представляю номер газеты «Свет»[7] от 15 марта и подлинную личность японца Изоабе, плененного нами при взятии Порт-Артура и подаренного генералом Стесселем, вместе с двумя коровами и пробитым пулями генеральским мундиром, порт-артурскому музею.
Гром аплодисментов. Эксперты осматривают японца и подтверждают его подлинность.
Но вот встает защитник – Меньшиков.
И тотчас же голова Меньшикова-Цербера обращается к нему и начинает повторять всю его мимику.
– Справедливые и неподкупные, как я, судьи, – говорит он. Велик грех этого старца. Что может быть ужаснее, как сговариваться с японцем о мире, когда наша победоносная армия завтракает у ворот Токио? И язык патриота не повернется на защиту этой измены. Но, братие! Иногда одна ложка дегтя может испортить бочку меда, одна гнусность может загадить многолетнее безгрешное житие. И я хочу привести одну ложку дегтя в защиту бочки меда преступлений этого человека. Братие! Когда я однажды плакал в умилении крокодиловыми слезами над березками Нестерова, из которых сотни поколений вязали веники розог, – этот старец пришел и братски облобызал меня… слезы душат меня… я не могу говорить…
Он плачет. Плачет и другой Меньшиков.
Три миллиона пар глаз не знают, плакать ли им или бить.
Судьи шепчутся – совещаются.
Потом встает Минос и говорит:
– О милые исчадия адовы! Да будем милостивы. За этот евангельский поцелуй отпущаем мы старца с миром. Но творения его предаем сожжению. Все, что написал он со дня зачатия своего, да погибнет в огне адовом. Только одно письмо к Меньшикову да уцелеет. И это письмо отпечатать с портретом Иудушки в 125 миллионах экземпляров, чтобы получили его всяк муж, и всяка жена, и всяко детище!
Крик, вопль, рев восторга. Старца бросают в вулкан, извергающий его на землю. Меньшикова целует три миллиона губ (после каждых ста поцелуев его ведут в баню). Со всех концов сносят груды сочинений Л. Толстого, которые бросают в костер. Вокруг костра начинается свистопляска. Церберу скармливают трех евреев, уличенных в неимении права жительства в аду. Братья Пате[8] торопятся воспринять это на ленту кинематографа.
Фавн«Одесское обозрение»,18 марта 1908 г.Сноски
1
Минос – в греческой мифологии царь острова Крита. Радаман – брат Миноса. Эак – сын Зевса и Эгины. Богами и людьми был избран третейским судьей. После смерти был в преисподней судьей и привратником.
2
Буренин сотрудничал в 60-х-начале 70-х годов в революционно-демократических журналах «Современник» и «Отечественные записки», к концу 70-х гидов переходит в лагерь реакции, становится одним из ведущих фельетонистов суворинской газеты «Новое время», где зарекомендовал себя как ярый враг революции и прогрессивного искусства, махровый реакционер и антисемит.
3
Намек на черносотенцев – членов «Союза русского народа».
4
Черносотенцы вменяли Л. Толстому в вину его переписку с японским писателем Изоабе во время русско-японской войны.
5
Здесь ирония: у Порт-Артура и Гирина, как известно, потерпели поражение не японские, а русские войска.
6
Мартенс, Федор Федорович (1845-1909) – русский буржуазный дипломат, юрист, специалист по международному праву.
7
15 марта 1908 г. реакционная петербургская газета «Свет» опубликовала статью в связи со слухами об отказе Л. Н. Толстого праздновать свой юбилей.
Л. Н. Толстой, говорилось в ней, искал широкой известности больше всего не в России. В последнем случае он иногда делал шаги, довольно рискованные для отечественных симпатий, если бы к ним стали относиться критически. Так, теперь стало известно, что в разгар русско-японской войны граф Л. Н. Толстой обменивался весьма любезными письмами с японскими журналистами и снискал себе популярность в неприятельской стране…
8
Братья Пате – известные кинематографисты, снимавшие для демонстрации в кино хронику повседневной жизни («Пате-журнал»).



