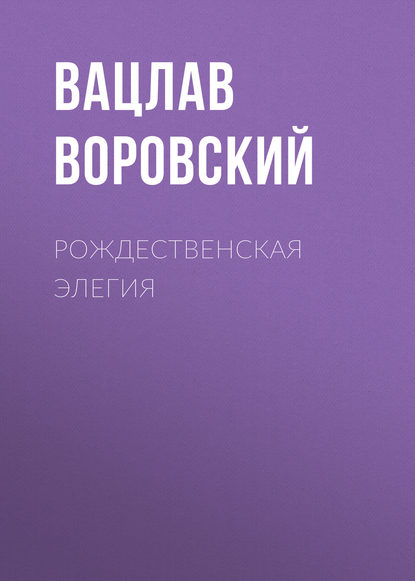 Полная версия
Полная версияРождественская элегия

Вацлав Воровский
Рождественская элегия
Наступили сумерки. На небе одна за другой зажглись и замигали звездочки. Наверху стало торжественно и молитвенно.
И город словно подражал небесам. Зажигали фонари на улицах. В окнах домов начал вспыхивать уютный свет.
Но вот, то здесь, то там замигали и заискрились огоньки – начали зажигать елки.
И стало так маняще-тепло в домах и так одиноко-холодно на улице…
Улицы опустели. Торопясь, мчались последние извозчики. Пешеходы спешили и толкались, даже не извиняясь.
Я остался один-одинешенек на осиротелой улице.
Стало мне тоскливо и грустно. Захотелось туда, в эти уютные «внутри», где так весело искрятся елки, где беззаботно веселятся дети, а взрослые делают вид, что они добры, невинны и счастливы.
И до слез захотелось тоже почувствовать себя добрым, невинным и счастливым.
Я подошел к одному из окон. Там было заразительно весело. Хлопали пробки, раздавался смех, звенела посуда.
О счастье! Да там знакомые мне лица! Вот тот толстый, почтенный господин – ведь я его прекрасно знаю! А этот – он ведь мой школьный товарищ! А тот, а тот, – сколько мы с ним часов проспорили!
Знакомых оказалась целая куча. Я невольно оживился. Чувство тоскливого одиночества начало развеиваться, и я решительным шагом направился к подъезду.
Но на подъезде меня остановила высокая фигура в тулупе, с большой белой бородой, с бляхой на лбу и толстой, палкой в руке – ни дать ни взять генерал деревянной гвардии.
Я было принял его за ночного сторожа и хотел отстранить, но, всмотревшись, к ужасу увидел, что это сам Мороз-Красный нос.
Он властным жестом остановил меня и торжественно рек:
– Сюда может войти только чистый сердцем. На этом празднике может веселиться только невинный мыслью. А ты, – прибавил он вопросительно, – ты чувствуешь себя чистым сердцем и невинным духом?
Я невольно побледнел, и у меня затряслись колени.
– Но, ваше морозище, – попробовал я обойти старика, – я видел там через окно людей далеко не чистых и не невинных…
– Кого же? – сурово спросил тот.
– Я… я… видел, например, гласных думы…
– Но разве ты не знаешь, что никто из гласных ни к какой ответственности не привлекался?
– Я…, я… видел там консула одной из восточных держав.
– Но разве ты забыл, что этот консул никого никогда не обидел, а сам пал жертвой насилия со стороны пятилетней изуверки?[1]
– Я… я… видел там человека, продавшего врагам план крепости…
– Но отчего ты промолчал, что этот человек искупил свою ошибку изданием антисемитской бумаги для мест уединения…
– Я видел там человека, уличенного во взяточничестве и лихоимстве!
– Не о том ли ты говоришь, – строго спросил Мороз, – который успокоил остров Шпицберген и насадил там виноградные лозы народного довольства?
– Но я видел там сотрудников газет, – ехидно вставил я.
– И Крушеван сотрудник газеты. И Пуришкевич сотрудник газеты, – спокойно возразил старик.
Тогда в отчаянии я крикнул:
– Но я видел там редактора «левой» газеты!
Мороз мрачно посмотрел на меня и строго заметил:
– Ты не мог там видеть редактора левой газеты. Тот, кого ты принял за редактора левой газеты, не более, как редактор органа «Чего изволите-с»[2].
Я был разбит и молчал.
Тогда Мороз-Красный нос перешел в наступление.
– А ты, что видишь в чужом глазу взятки и предательство, а в своем ничего не замечаешь, – скажи, кто ты таков?
– Фельетонист, – робко пробормотал я.
– То-то, фельетонист! – клевещешь на людей; осмеиваешь достойное уважения. Скажи, за свою клевету получаешь деньги?
– Не особенно исправно, но получаю, – тихо прошептал я.
– Продажное существо! – гремел старик. – Власти предержащей повинуешься как – за страх только или за совесть?
Я молчал, понурив голову.
– То-то, молчишь! А к добровольному патриотизму как относишься?
Я вспомнил за весь год мои фельетоны и оробел.
– Всяко бывало, – пролепетал я.
– Ага, всяко бывало! А в осуждение экспроприации писал?
– Писал, дедушка, ей-богу, раз писал.
– Писал! – передразнил он меня. – А кого ты виновником их называл – революционеров?
Я опять молчал.
– Уж лучше молчи. – Ну, а брата своего газетчика, по крайней мере, щадил? – уже более тепло спросил меня старик.
Я обрадовался; говоря между нами, я очень хороший товарищ, а поэтому сразу понял, что этим искуплю все прочие грехи.
Но, порывшись в памяти, я пришел в ужас. Нет, и своего брата не щадил.
При всякой возможности пакостил я собрату.
И, понурив голову, я грустно сказал:
– Великий я грешник, и нет мне спасенья, и вечно закрыт для меня доступ в тихий уют обывательского довольства, и не примет меня в свое лоно благовоспитанное общество, и отвергнет меня и либерал, и консерватор, ибо дерзил я и мерзопакостил я и тому и другому. А не дерзить и не мерзопакостить, дедушка, не могу, не в моей власти, ибо от природы шершав душой и царапист мыслью. Известно, что «маленький фельетонист – летучая мышь»; по народному сказанию, кому летучая мышь след на голове оставит, тот тут же облысеет. А разве не наслаждение, дедушка, превратить косматого в лысого, когда знаешь, что внутренне он давно уже облез, а только снаружи рядится в густую шевелюру?
Я уже приготовился говорить по меньшей мере двухчасовую речь, но Мороз-Красный нос грустно отвернулся и тихо исчез в подъезде.
Я остался один, и снова безотчетная печаль одиночества заполонила мое сердце.
Тихо мигали наверху звездочки, холодные, одинокие в эту морозную ночь. Изредка слышались шаги запоздалого прохожего или далекий грохот экипажа.
Еще сияли и искрились за окнами яркие елки, но меня уже не тянуло туда. Это были мертвые деревья, разукрашенные и увешанные, как маскарадные паяцы, и души этих елок со слезами вздыхали по родной роще, откуда их вырвали на потеху скучных, холодных обывателей.
Фавн«Одесское обозрение»,28 декабря 1908 г.Сноски
1
Намек на персидского консула в Одессе черносотенца Зайченко, уличенного в растлении несовершеннолетних.
2
«Чего изволите-с?» – выражение, которым M. E. Салтыков-Щедрин заклеймил продажность, торгашество, беспринципность буржуазных газет.

