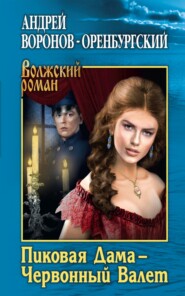скачать книгу бесплатно
Сколько часов после отбоя носились первогодки с кухни на кухню, из бытовки в сушилку, никто не считал. Да если и взяться, вряд ли учесть возможно. Случалось мелким штопать, ваксить и стирать до зари, а там уж пожалуйте в классы, где мастаки с указками и розгами. Попробуй не сдать урок – педагогические меры воздействия были куда как просты… Учитель, давно привыкнув, что если вместо толкового ответа «мекала» да «блекала» бестолковая чушь, тут же прекращал добиваться ответа и спокойно предлагал выбор: либо удары аршинной линейкой по рукам, либо лишение обеда. Первогодок уже после первого месяца учебы, как пить дать, протягивал руки и получал свою пайку ударов, только чтобы сохранить за собой обед. «Оно и понятно, где нашему братцу-савраске еще и без еды выдюжить? Сдохнешь на экзерсисах, и “а-ля-улю” – накрылась твоя учеба медным тазом».
– Оно вдвойне обидно, потешные, – по ночам плакались в минуты отчаянья перволетки друг другу, нафабривая на «свиданку» иль на «вольную» голубой вицмундир «старика». – В трактире наши погодки хоть антерес имеют, пусть малый, а все же копейка. Оно тогда, братцы, не так обидно, не так клещами за «яблочко» берет, ежели копейку в карман свой кладешь.
– Верно гутаришь, Борцов, твоя правда… – натирая суконкой чьи-то «порученные» выходные сапоги до зеркального блеску, с малороссийским колоритом вторил Гусарь. – Не бачу тут справедливости, хоть помри… Я кажу, дурять нас тут, як лопухов, хлопци.
– А то! – пуще возмущался Борцов. – Вечно до тебя, Гусарь, как до жирафу, доходит!
– А це що ж за животина буде такая? Як на манер будэнка?[24 - Будэнок – теленок, теля? (укр.).] И сало поди ж то жреть?
– Сам ты будэнок! У вас чо ли все таки, Гусарь, в Хохляндии? Али ты один такой заточенный да вострый? Жирафа, дурья твоя башка, – это есть зверюга такая огромная… В Априке, говорят, живеть, шастает по лесам ихним… Шея у нее – во! – Борцов, забыв на время об утюге, разбросил руки, точно показывая сажень. – Ну, что пожарная каланча у церкви, а ум, как у тебя, – с горошину.
– Сам ты дурый, Юрок, ох дурний, як твоя жирафа, – хитро улыбаясь красивыми глазами, прыснул хохол и подмигнул Кречетову, ровно сказывал: «Как я его разыграл?»
– А много ль в трактире на разноске заработать способно? – не поддерживая Сашку, Алешка вновь обратился к Борцову.
Юрка хмыкнул со знанием дела, надул для серьезности щеки и с гордостью выдал:
– А что тут гадать? У меня братан в звание полового вышел! У самого Виноградова в услужении. В его трактир, известное дело, с голой ж… не залетишь, мимо скворечника будет. То-то! Глядишь, так дело пойдет, через годок-другой жди от хозяина повышенья. Он у нас из шести братьев самый способливый будет, даром, что рифметике, как мы, не учен, но про ум читает и множит не хуже нашего Сухаря… Эт я, дурак, здесь с вами время убиваю, козлом учусь прыгать да скакать… но на то воля была батюшки, а супротив ее не попрешь, плетью обуха, сами знаете…
– Так все-таки сколько? – настырно, уж боле не только ради любопытства, повторил вопрос Алексей.
– Ну, сам смекай, Кречет.
И тут Борцов, окрыленный сложившимся мотивом, сел на своего «конька» и поведал полусонным приятелям о трактирной карьере.
– Сперва малолетку ставят на год судомойкой, ну, чтобы приглазиться, кто самый шустрый да грамотный. Потом, ежли найдут его понятливым, переводят на кухню, ознакомить с подачкой кушаний. Тут тебя принуждают зубрить названия… всяких там «фоли-жоли» да «фрикасе-курасе»… На это, как Ерофейка, брат мой, сказывал, полгода отдай, не греши – тоже наука! Ну а когда малой навострится, вот тады на него и взденут белу рубаху, но ни секундом раньше. «Все соуса, шельмец, постиг!» – выступает за него ихний главный повар, хлопочет, значит, перед хозяином… Это опять же, ежели ты ему по сердцу пришелся, а так, – Борцов даже махнул рукой, будто сам прошел всю эту каторгу, – на мойке так и сгниешь, покуда пальцы до костей не сотрешь…
– Ну а дальше-то что? – Мальчишки придвинулись ближе, сна в глазах как не бывало.
– А дальше ты не менее четырех лет лопатишься в подручных, таскаешь туда-сюда блюда, смахиваешь со стола и учишься принимать заказы… И где-то на пятом году, ежели оправдал надёжу, тебе сунут лопатник[25 - Лопатник – кошелек.] для марок и шелковый пояс, за который его затыкаешь, и ты начинаешь служить в зале. К сему сроку, Ерошка говаривал, ты обязан иметь полдюжины белых мадаполамовых, а краше – голландского полотна, рубах и штанов, всегда свежих и не дай бог помятых.
Юрка ненадолго прервался: быстро стащил на чугунную подставку тяжелый, на древесных углях, утюг, сложил по бритвенным стрелкам брючины и устроил их на специальной подвеске.
– Ну так вот, – с нетерпеливым зудом затарахтел он, – каждый из половых с утра получает из кассы на двадцать пять целковых медных марок, от трех рублёв до пяти копеек за штуку. По заказу и расчет, но ты уже берешь с гостя наличностью. Опосля деньжата, данные «на чаишко», все сносят в буфет и уж потом делют по-братски.
– Да ну?
– Вот тебе и ну!
– Врешь, поди, за троих!
– За семерых! Накось, выкуси!
– Да неужто все так и сдают до копейки? – подивился Гусарь.
– То-то, что нет! – цокнул, как белка, языком Борцов. – Братан хвастал, что дюжую долю все тырят и прячут, сунув куда подальше. Эти кровные называются у них подвенечные.
– Ух ты, а почему?
– Деды объясняли, дескать, сие испокон веку ведется. Бывалоча, сопляки в деревне полушки от родичей в избе хоронили, совали в пазы да щели под венцы, отсель и названье.
– Ловко, однако! – качнул головой Алешка.
За окном уже начинал бродить серый рассвет. Холодный туман частью поднимался, оголяя почерневшие от сырости крыши построек, частью превращался в серую паранджу росы, покрывая пустынный двор и лохматую траву вдоль ограды. С улицы в приоткрытую фрамугу бытовки тянуло кисловатым дымком кочегарки, у дровяного сарая слышен был звон топора Федора и сухой потреск расколотых чурбаков.
Алешка сидел на низкой, прижившейся у стены лавке и тупо глазел на свои до крови исколотые портняжной иглой пальцы. Все пуговицы на мундире «старика» были перешиты и ладно надраены до ярчайшего блеску. Его собственная казенная куртка была мята, пуговицы и пряжки на туфлях тусклы, из-за ворота торчал сбитый набок кончик белого бумазейного воротничка. Валившаяся от усталости троица более не вертелась и не трещала историями… Все тихо сидели напротив друг друга, и каждый думал о чем-то своем… Их хмурые от бессонницы лица были сонливы и апатичны, и тонкие, будто трещинки на стекле, морщинки, совсем как у взрослых людей, ютились около глаз и между насупленных бровей.
– Тьфу, черт! Заболтался с вами, – вдруг спохватился Юрка. – Ключи-то я от бытовки забыл в дежурку сдать. Без меня не уходите… Щас я мигом!
Звякнув ключами, Борцов хлопнул дверью, его бойкая рысца гулко прозвучала по спящему коридору училища.
– Как думаешь, Кречетов, Юрок заливает? Брешет, поди?
– А шут его знает… – Алешка недоуменно дернул плечом. – Этот может загнуть, чего не бывает, чего никто никогда не видел и не слышал.
Гусарь, почесав в раздумье щеку, плюнул на сапожную щетку и взялся нагонять блеск на новую пару сапог. Кречетов, следуя примеру товарища, заправил иглу синей ниткой и продолжил пришивать вертлявое ушко медной пуговицы. «Однако как все в сноп да в горсть у Борцова выходит, – с крупным зерном сомнения поджал губы Алексей. – Митя мой тоже прежде вкалывал на Лопаткина в булочной, так золотым дождем не был умыт. Да и сам я не раз видел, что за жизнь у сих “побегушек”… Случалось и мне с отцом заходить в трактир испить чаю. Носятся они, черти, как при поносе. Тому кипятку с двумя кусками сахару, другому рубца на двугривенный с гороховым киселем, третьему с морозу да холоду изволь щец пожирнее, водки, каленых яиц, жаркого калача или ситничков подовых на отрубях… И все бегом, с обидным матюгом в спину: “Живей, сопля, булками шевели, мать твою раз-тар-тах!” Вот и лавируй угрем между пьяными рожами, прогибайся и жонглируй над макушкой подносом. А на том подносе порой два чайника с крутым кипятком – обвариться можно. Что я, не знаю, слепой, что ли? – Алешка еще раз усмехнулся складности и восторгам Юрки. – Оно завсегда так получается: хорошо там, где нас нет. Ведь даже “на чай” гостеньки, требовавшие только кипятку, удавятся, но руку в карман не запустят, так, разве что две-три копейки сунут, да и то за особую заслугу… Ну, если, скажем, ты в лютый мороз, накинув на шею только салфетишку, слётаешь в одной рубашонке на двор да найдешь среди сотни лошадей извозчичьего двора “саврасую с плешью за ухом” и искомую “махорку под облучком”. Нет, я бы не потянул! – сам для себя поставил точку Алешка. – Сколько их мрет от простуды – страсть! А попробуй с пьяного получить монету? Это – что подвиг совершить! Полчаса держит, пьяная харя, и медведем ревет, пока ему, забубенному, протолкуешь да проталдыкаешь. Уж лучше в потешных год без копейки в “лакеях” прошмыгать, чем костьми лечь в вонючем трактире…»
– Ну, что, заждались, братцы? – Коротко стриженная голова Борцова показалась в дверях. – Кажись, отпахали… До подъема еще два часа есть… Айдате, портняжки, поспим.
Глава 3
Но как бы ни была тяжела и обидна жизнь первогодка, сколько бы он ни получал подзатыльников, шишек и щелбанов от «стариков», репетиции в театре, среди настоящих актеров, расцвечивали серую, однообразную жизнь.
Алешка и Сашка, на зависть другим, почти всякий раз отбирались в вечернем построении накануне и забирались мастаками. Красивые внешне, стройные, гибкие, легкие на шаг, а прежде даровитее остальных в танце, они выгодно отличались от своих сверстников.
– Вот и зима стоит за окном, – философски заметил Кречетов. – Рождество уж прошло… а жалко… Когда теперь родители заберут?..
Перед глазами подтаяла картинка месячной давности: праздничный стол с белой скатертью, со свечами, с огромным волжским рыбным пирогом в центре; славный говяжий студень с горчицей и уксусом. Милые сердцу солености: капуста, огурчики, помидоры… Запеченная утка в латке с гречневой афанасьевской кашей, душистый чай с молоком, с пышной кухаркиной выпечкой, и вволю конфет…
– Эх, и погань была нынче на завтрак. – Ровно читая мысли Алексея, Гусарь беспокойно стрельнул взглядом на запертую дверь спальной палаты, достал из ночного столика завернутый в льняную тряпицу кусок черного хлеба, круто посыпанный солью, и, разломив его, протянул половину товарищу. – На вот, подкрепись. Гарное все же дело иметь своего земляка в хлеборезке.
– «Завтрак», «завтрак», – сглатывая слюну, буркнул Алешка, с готовностью принимая нежданную пайку. – Можно подумать, обед дадут лучше… суп, что коза нассала, мяса с твой кукиш и каша на воде, как в тюрьме, от соуса только запах.
– Ладно, не горюй, в театре на кухне пожируем… Там тетка Глафира сегодня заправляет, а уж она завсегда нашего брата подхарчует, жалостливая…
– Бездетная она, вот и жалостливая, – впиваясь белыми крепкими зубами в хрустящую, еще теплую горбушку, поправил Алешка.
– Що-то долго за нами не едут. – Сашка вновь, уж в который раз нетерпеливо уставился своими голубыми, как полтавское небо, глазами в схваченное искристым инеем окно.
– Приедут, куда денутся, – важно заверил приятеля Кречетов. – Нынче у них прогон «Мнимой Фанни»[26 - «Мнимая Фанни Эльслер» – название модного в те годы водевиля.], а мы там танцуем качучу. Да и рано ты навострил лыжи. Нас ждут к двум, а сейчас и часу еще нет.
Однако на удивление скоро под окном заскрипели, завизжали полозья, торцуя алмазный снежок, нестройно бряцнули и замолкли колокольцы под дугой.
– Дорофей приехал! Ура-а!
Кречетов наперегонки с Гусарем бросились вон. В гардеробной, размещавшейся бок о бок с «пенатами» Гвоздева, они шуганули дрыхнувшего на печи сдобным калачом местного обжору кота Марселя. Распушив трубой хвост, вечный лентяй и дармоед ошалело шмыгнул под лавку, клацнув на повороте о доски когтями.
– У-у, барин чертов! Чучело-мяучело… Чтоб тебя взяло поперек живота! Хоть бы мышь одну задавил, блудень, куда там!
Толкаясь и смеясь, выворачивая руки, они влетели в колючие шерстяные шинельцы, скроенные по образцу кадетских, впрыгнули в черные, до блеску надраенные, тяжелые казенные башмаки, нахлобучили кое-как шапки, рванули из гардеробной. Всё на улице, всё по пути.
В коридоре, тускло освещенном желтушным светом двух масляных фонарей, они чуть не сбили с ног лысого Петра Александровича, занимавшегося приемкой чистого белья из прачечной.
– Я вот вам! – погрозил своей вездесущей гремливой связкой ключей Гвоздь и крикнул вдогонку: – Носы не отморозьте! Студёно на дворе!
Но мальчишки уже бухнули дверьми, рассыпав горох каблуков по ступеням.
– Эх, бесовское племя! – запоздало одернул сорванцов Петр Александрович. – Ну что ты будешь с ними делать?.. Одно слово – черти! А вы что стоите, в штаны наложили, мать вашу так? Пошли! Пошли! – гыкнул он на притихших, с высокими пачками отглаженных простыней, пододеяльников и наволочек, дежурных. – Ужли первый раз принимаем-сдаем! Эй, Филатов, Огурцов, Сойкин! Живо к банщику! Мыло время получить и мочалки…
Гвоздь, чтобы добавить радуги в серую монотонность каждодневных забот и хлопот, воткнул еще пару крепких солдатских словечек, хранившихся на полке его памяти. Приунывшие было юнцы ответили веселым беззлобным смехом, таким же, пожалуй, как их предшественники отвечали своим прежним учителям. И в этом, на беглый взгляд, казарменном, где-то даже грубоватом юморе и проявлялась одна из истинных, не фальшивых нот той неписаной гармонии, которая называлась дружбой между зеленой юностью и умудренной сединами зрелостью. Конечно, в истории училища случалось разное… Но в нем никогда не было места издевательствам, злобе, преследованию и травле учеников, как не было и оплаченного рублем благоволения или каких других особых поблажек любимчикам. Да, были таланты и были посредственности, были трудяги и были лодыри, но при всем этом дирекция училища и, в частности, воспитатели понимали большое, важное значение такого строгого и мягкого, серьезного и веселого, семейного, дружеского театрального воспитания и не ставили ему никаких препон.
* * *
Гнедая кобыла Дорофея, рослая в холке, ходко, будто шутя, несла пошевни – низкие лубочные сани – к Театральной площади. Мимо проплывали присыпанные снегом крыши домов, ясные голубые купола церквушек с золотенькими крестами и встречные экипажи. Возок тесный, но потешные утряслись, угнездились по дороге, и стало даже будто «слободно», как говорил Дорофей. Взятый по найму театром для развозу воспитанников и служителей, он чванился своим местом, хоть и не с чего, и на манер бывалых лихачей затыкал в лохматую собачью шапку перья. Однако на добрые «павлинки»[27 - «Павлинки» – имеются в виду павлиньи перья, которые были в моде у столичных ямщиков.] деньжат было явно маловато, и потому на морозном ветру задиристо трепетали петушиные.
– Ну-у, будя форкать, залетныя-а! – отпрукивал и временами под ядреный матерок вытягивал кнутом молодую кобылу ямщик и вполоборота к мальчишкам, со скуки или по доброте душевной, делился соображениями: – Я-ть, клопы-сударики, свою прежню-то лошаденку на мясо татарам продал… гнилая, никудышна была, шельма, даром что масти буланой, да гривой пышна, чисто баба, когда та волосья начешет… А эта, матушка! – Дорофей радостно вложил чертей в кнут, подрезвляя гнедую. – Одно загляденье! Эта не зря овес жрёть! Просто сердце в грудях заходится. Тпр-ру-у, ведьма! Куды разнеслась? Рано к смертушке на живодерку рвешьси! Эй, слышь, сударики, – кучер, с утра чуть навеселе, перегнулся с козел и заботливо одернул сбившуюся волчью полость, – эту заразу я третьего дня на Конной у Заварзина сторговал за двадцать семь рублёв! Добрая киргизка. Токмо четыре года. Износу ей не будет… Опять же жерёбой еще не была. Вот погоди, покрывать ее, стерву, будем. Есть у меня на примете вороной удалец, не конь, а чистая тигра! А то что за жизнь без кормилицы? Вона, на той неделе обоз с зерном из-за Волги пришел. Ну-т, барышники, известное дело, у них всех лошадей укупили, а с нашего брата принялись вдвое драть. Правда, зато в долг. Каждый понедельник трешку вынь да положь. А где ж ее взять? Легко, чо ли? Сибиряки скоро вот-вот привезут товар в Саратов и половину, как есть, лошадушек распродадуть нашим… Так и живем…
Миновали Старо-Покровскую церковь. У Гостиного двора – вдруг суматоха и гам. Дорофей натянул круто вожжи, прижимаясь к обочине, недовольно зашевелил серебряными от инея усами.
Позади возка заслышалось громкое фырканье и храп напиравших лошадей. Кречетов крутнулся: за спиной нетерпеливо ледорубили мостовую подковами разгоряченные быстрой ездой жеребцы барской тройки. Белый пар так и валил из раздутых, трепетливых ноздрей, от сырых потников и разметанных грив. Восхищенного тройкой Алешку окутало облако теплого, влажного вздошья и терпкого конского запаха.
– Эй, какого лешего! – зычно и зло слетело со щеголеватого облучка. – Заснул, гужеед? Съезжай, пока жив!
– Супонь! – рычливо огрызнулся Дорофей на мордатого барского кучера. – Шары-то разинь, чай, не видишь?!
Мальчишки жадно прилипли к левой стороне, вовсю распахнув изумленные глаза. По улицам и проулкам извозчики, ямщики, ломовики лихорадочно нахлестывали лошадей и лепились к дощатым тротуарам.
– О, мать честная! – Дорофей, медленно стягивая косматый треух, набожно осенил себя скорым крестом.
Впереди залились тревожным, колючим звоном бубенцы.
– Никак кульеры, родимые… И впрямь… сударики! – испуганным полушепотом охнул ямщик.
А колокольцы надрывались все ближе, неотвратимее, нагоняя в душах льдистый озноб… Послышался гулкий топот летящих в карьер коней и властные, грозные окрики:
– Поб-береги-ись! С доро-оги! Затопчу-уу!!
– Я кажу, вон они! Вон! – Гусарь, забыв обо всем на свете, больно вцепился ногтями в пальцы Алешки, завороженно тыкая другой рукой пред собою.
Вдоль бульвара, со стороны торговых рядов, в искрящейся вуали взорванного снега бешено мчались одна за другой две прекрасные, ладные, одинаковые, как близняшки, дымчатые в яблоках тройки. На той и другой – ражие ямщики с гиканьем и свистом жарили кнутами. В первой тройке с поднятым воротом, при башлыке, сидел офицер и двое солдат, в другой – в окружении мрачных жандармов в серых шинелях с саблями наголо – молодой человек в штатском.
Промелькнули, прогрохотали лихие тройки, и улица, выйдя из краткого столбняка, медленно приняла обычный вид.
– Кто это, дядя? – осипшим вдруг голосом полюбопытствовал Кречетов.
– «Кто, кто»? Вестимо, кто… – с чувством превосходства передразнил Дорофей, затем привычно разобрал вожжи, еще разок ерзнул задом на обитой войлоком сидушке и, слегка повернув голову, внушительно протянул: – Жанда-армы! От нас на Урал или в Сибирь повезли на каторгу… Это тех, кто супротив царя идёть. У нас ведь, окромя дураков да дорог, в Россее ешо беда: дураки, указывающие, каким путем народу иттить… Вот власть-то законная и указала сему чахоточному пряму дороженьку на гиблый острог… То правильно, другим наука… Пошто людей зря мутить?.. Да уж больно легок он на кость, как я погляжу, как есть помрёть в дороге… Оно, конечно, тоже человек Божий, жалко, а как иначе? Иначе нельзя! Но-о, милая! Но-о, дуроухая!! А ентот гусь, должно быть, из важнецких каких. На первой сам пристав Голядкин ехал. Я уж его зараз приметил. Енто евось самолучшая тройка. Как есть кульерская! – с опасливым почтением продолжал Дорофей, настегивая свою киргизку. – Я рядёхонько с господином Голядкиным на дворе стою, насмотрелся.
Мимо опять замелькали купеческие дома, будки городовых, фонарные столбы, деревья, люди. На площади возле Митрофановской церкви мерзли десятки линеек с облезлыми, заиндевевшими лошадьми. Рядом толкались всуе обтрепанные кучера и их хозяева. Кто рядился с несговорчивыми нанимателями, кто усаживал седоков: до Соколиной горы, за городскую заставу, на другой берег Волги, куда линейки совершали регулярные рейсы. Одну из таких повозок облепила большущая армянская семья, чернявые торгаши без умолку кричали свою тарабарщину, заглушая всю площадь.
Но Алексей как будто этого не замечал, перед его взором еще долго стояло бледное, что платок, молодое, с едва наметившимися усиками, лицо того штатского. Странная посадка головы, неестественно поднятые плечи и остановившийся, утративший все живое, будто замороженный взгляд. Виделась Кречетову и косматая, высоко задранная морда ощерившегося коренника курьерской тройки, и левая пристяжная, изогнувшая кренделем, низко к земле, свою гибкую длинную шею, и даже ее кровавый агатовый глаз с тупой и злой белизной белка.
Глава 4
– Однако не опоздаем ли к сроку, дядя? – зароптал Гусарь, прислушиваясь к величественному голосу колокола.
– Какой там, сударики! Не извольте сумлеваться, – усмехнулся Дорофей и опытным движением вожжей заставил возок съехать с дороги, осадив киргизку в аккурат у трактира под вывеской с аршинными буквами «Вечный зов». – Да разви-ть я без понятиев? Разве Дорофей не понимат? Я ж нонче за цельный час угораздил выцепить вас.
– А что так? – искренне подивился Алексей.
– А то, чтобы и вам послабку, и мне хорошо сделать. Тпру-у, крылатая! На-кось вот… подержи, актер. – Ямщик соскользнул с низкого облучка и весело бросил тяжелые грубые вожжи Алешке. – И буде, буде! Не тревожьтесь сердцем. Успеем мы к вашему мусьё. Я мигом.
– Ну и ну!
Мальчишки только пожали плечами, с любопытством поглядывая на запотевшие низкие стекла распивочной, за которыми скакали и шарахались большущие тени, слышен был широкий распах гармони и глухой надсадный топот сапог. «…А что ты хочешь, мать, от извозчика? – вспомнились сами собой Алексею прежние рассуждения отца. – Это лошадиное племя в трактире и питается, и угревается. Сама рассуди, Людмила Лексевна, у извозчика другого роздыха и еды нет… Вся жизнь всухомятку. Чай да требуха с огурцами. Ну-с, не так разве? Изредка стаканчик водки, ну, черть с ним, согласен, другой, но пьянства – никогда! Извозчик, он ведь как: раза два в день поест, обогреется зимой… по осени высушит на себе мокрую одёвку, и все сие удовольствие выходит ему в шестнадцать копеек: пять на чай, на гривенник снеди, ну-с, и копеечку дворнику дай за то, что “гнедка” напоит да у колоды приглядит. Вот так-то, Лексевна, извозчик рабочий народ, а ты все “пьянь” да “пьянь”…»
– Як бы вправду не опознить? Не запьет ли Дорофей, как наш Чих-Пых? – с малороссийской оглядчивостью боднул опасением Сашка. – Ежели що, Дарий три шкуры сдерет… як с той шелудивой козы.
– «Як» да «як»! Что ты заякал, Гусарь? Буде, буде тебе, – копируя интонации извозчика, пробасил Кречетов. – Чай, с Дорофеем едем, а не с помойным котом.
Сашка отчасти надулся на дружеский «отлуп», но Алешка умело сделал вид, ровно не заметил сей малости. Задрав голову, он смотрел на церковное воронье, что черной метелью трещало крыльями в зимней, чистой синеве неба, щедро рассыпая хриплое карканье.
– Гусарь, что наворожат нам эти гадалки?
Сашка, забыв про обиду, тоже воззрился на метливое, черное, шумное облако, лирично задумался. Морозец был ласковый и не щипал, лишь нежно наводя своей свежей кистью румянец на щеки.
О чем думали, о чем мечтали их юные сердца в эти хрустальные минуты?.. Может быть…
– Эй, сопливые! Почем призадумались? Ишь, губищу растянули. Бога решили за бороду поймать? Ха-ха! Ой, да вы никак потешные? Ах, режь меня! Точно – они! Ножонками, поди, ловко сучите, вот бы заценить!
Друзья, позабыв про небо, спорхнули на землю и разинули рты. Перед ними стояло нечто невообразимое – нагруженное с ног до головы всяким старьем, с навьюченными друг на дружку шляпами, гирляндами цветных клубков и прочим, – кажущееся от всего этого «вавилона» безобразно огромным.
– Чаво клювами щелкаете? Торговку впервось увидали?
Из-за пестрого тряпья наконец показалось пробитое крепким зимне-водочным загаром мужиковатое лицо бабы. Поросячьи глаза смеялись, ноги-тумбы, вдеванные в подшитые валенки, стукали друг о дружку, словно приплясывали.
Саратовская торговка – тип замечательный во всех отношениях, насколько оригинальный, настолько и любопытный. В трескучие морозы, в отчаянный зной вечно одна и та же: все так же увешанная, закутанная выше глаз, с медленной важной поступью и зычно-крикливою речью… При случае тут же готовая отстреляться перченой руганью. Эту огрубелую бой-бабу не проймет ни вопиющая по своему цинизму сцена, ни скотоподобный волжский бурлак, какой-нибудь вятич или пермяк. В речи человеческой нет выражений, а в поведении поступков, которые могли бы смутить саратовскую бабу-торговку: на своем «коммерческом» веку она нагляделась будь-будь, и при всякой оказии уж найдется, не потеряется. Как ни верти, а торговка эта – королева рынка… Пусть она не m-me Анго, но постоит за себя не хуже парижской рыночной героини. Ни пьяный варнак, ни придирчивый полицейский, ни бойкий браток – никто сей «пройде» не указ: она родилась на «толчке», взросла на нем и, конечно, помрет среди его шума, слякотной вони, мух и толкотни; всякий, кто дорожит спокойствием и достоинством своей личности, – обойди за версту эту скандальную язву: имей он даже не язык, а бритву, ему один черт не совладать с «козырями» доморощенной m-me Анго.
– Так я угадала? Потешные вы? А где ваш возила? Тутось небось? – Тетка, задорно хохотнув, ткнула грязным, красным от морозу пальцем на вывеску кабака. – Он, поди ж то, нарубил уже тяпку с утра. Ясно дело, заточил жало водкой, а еще дятёв ему, обормоту, доверили.
Мальчишки не успели пискнуть в ответ, как скрипучая низкая дверь распивочной распахнулась, и в облаке вьющегося угарного пара, табачного дыма, пенья и звона показалась борода Дорофея.
– У-у, нализался, блудень! Кобылу-то хоть не пролупишь? – без всяких-яких спустила на него собак баба.
– А ну, вали, вали на свой Толкун, ведьма! – забирая обледенелые вожжи из рук Алешки, не особенно грозно гаркнул извозчик. – Мы пьем да посуду бьем. А кому не мило, тому в рыло.
Однако та не отступилась от мужика и заголосила на всю-то улицу:
– Ах ты, черт кривой, задрыга навозная! Не тыкай, не запряг! В кармане солома с кукишем, а дует, гляньте, как фартовый! Шмякай, шмякай на своей кляче, пока цел!