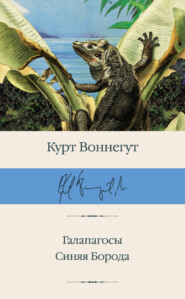
Полная версия:
Галапагосы. Синяя Борода
Итак, эти две порции бифштекса дали прекрасную пищу для большого мозга Ортиса, покуда тот забирал их на кухне, поднимался на лифте и шел по коридору к номеру Селены и ее отца. До сих пор служащие отеля не позволяли себе есть и воровать столь вкусную пищу. И гордились этим. Самое лучшее они хранили для «сеньоры Кеннеди» – то есть госпожи Онассис, – как они обобщенно именовали всю знаменитую, богатую и влиятельную публику, прибытие которой еще ожидалось для участия в круизе.
Мозг Ортиса был столь разросшимся, что в голове его прокручивались целые киноленты, в которых он и его близкие играли роли миллионеров. И этот человек, почти юноша, был так простодушен, что верил, будто мечта его может сбыться, – ибо он не имел дурных привычек и был готов трудиться не покладая рук, получи он хоть какой-то намек на возможный жизненный успех от тех, кто уже стал миллионером.
Он попытался, правда, без особого результата, вытянуть полезный совет из Джеймса Уэйта, который, несмотря на маловпечатляющий вид, являлся, как с уважением заметил в баре Ортис, обладателем бумажника, набитого кредитными карточками и двадцатидолларовыми банкнотами.
Подобные же мысли роились у него в голове в связи с двумя бифштексами, когда он стучался в дверь номера Селены и ее отца: люди, находившиеся там, внутри, заслуживали этих деликатесов – и он тоже будет заслуживать, став миллионером. А был он молодым человеком, смышленым и предприимчивым. Работая в разных отелях Гуаякиля с десятилетнего возраста, он научился бегло изъясняться на шести языках – что превышало половину языков, известных «Гокуби», было вшестеро больше, чем знали Джеймс Уэйт и Мэри Хепберн, втрое больше, чем знали супруги Хирогуши, и вдвое – чем Селена и ее отец. Он умел также хорошо готовить и печь и окончил курс бухгалтерского учета и делового законодательства в вечерней школе.
Так что, когда Селена открыла ему, он был склонен восхищаться всем, что увидит и услышит внутри. Ортису было уже известно, что зеленые глаза Селены слепы, а то нетрудно было бы обмануться. Ничто ни в ее поведении, ни во взгляде не выдавало слепоты. Она была так прекрасна, что под влиянием своего разросшегося мозга Ортис влюбился в нее.
*Эндрю Макинтош стоял перед просторным, во всю стену номера, окном, глядя поверх хлябей и трущоб на «Bahia de Darwin» – судно, которое, по его ожиданиям, еще до захода солнца должно было перейти в собственность к нему, Селене или, возможно, супругам Хирогуши. Человеком, который должен был позвонить ему в полшестого, был Готтфрид фон Кляйст, президент правления крупнейшего эквадорского банка, дядя управляющего «Эльдорадо» и капитана «Bahia de Darwin», совладелец – на паях со своим братом Вильгельмом – и корабля, и отеля.
Когда Ортис вошел с двумя порциями филе, *Макинтош обернулся, продолжая репетировать в уме фразу, которую он первым делом собирался сказать по-испански Готтфриду фон Кляйсту: «Дорогой коллега, прежде чем вы сообщите мне остальные приятные известия, дайте ваше честное слово, что сейчас я любуюсь моим собственным кораблем с верхнего этажа своего собственного отеля».
*Макинтош был разут, и на нем не было ничего, кроме шортов цвета хаки, ширинка которых была расстегнута и под которыми больше ничего не было – так что член его являл собою не большую тайну, чем маятник на дедушкиных часах.
Да, здесь я позволю себе прерваться, чтобы подивиться тому, как мало был этот человек заинтересован в продолжении рода – будучи при этом великолепным образцом в биологическом отношении, – несмотря на свою эксгибиционистскую сексуальность и маниакальное стремление овладевать как можно большим количеством систем жизнеобеспечения на планете. Самые знаменитые накопители средств выживания в те времена, что характерно, имели весьма немногочисленное потомство. Разумеется, были и исключения. Те же, кто имел много отпрысков и кто, как можно было бы ожидать, стремился накопить побольше собственности для их благополучия, обыкновенно выращивали детей психическими уродами. Наследники их по большей части оказывались некими зомби, которых с легкостью обирали другие мужчины и женщины, столь же алчные, как родитель первых, оставивший своим чадам слишком много всего, в чем только может когда-нибудь нуждаться человеческая особь.
*Эндрю Макинтошу безразлична была даже его собственная жизнь – свидетельством чему является его увлечение парашютным спортом, гонками на скоростных автомобилях и тому подобным.
То есть я хочу сказать, что человеческий мозг стал в ту эпоху фонтанирующим и безответственным генератором предположений относительно того, что можно сделать с собственной жизнью. В итоге забота о благе будущих поколений стала восприниматься как одна из множества произвольных игр для больших энтузиастов – вроде покера, поло, игр на рынке ценных бумаг или писания научно-фантастических романов.
Все большее число людей в ту пору – не только *Эндрю Макинтош – стали находить заботу о выживании человеческого рода смертельной тоской.
Гораздо увлекательнее было, так сказать, лупить и лупить по теннисному мячу.
Зрячая собака Селены, Казах, сидела возле тумбочки в ногах просторной кровати своей хозяйки. Это была немецкая овчарка. Она была настроена благодушно и могла чувствовать себя самой собою, поскольку ее не стесняли ошейник, поводок или намордник. Ее маленький мозг, следуя за запахом мяса, заставил ее взглянуть с надеждой коричневыми глазами на Ортиса и завилять хвостом.
В те времена собаки намного превосходили людей умением различать запахи. Благодаря открытому Дарвином закону естественного отбора ныне обоняние людей столь же остро, как было у Казаха. А в одном отношении оно даже превосходит собачье: люди чуют под водою.
Собаки же не умеют даже плавать под водою, хотя могли бы научиться этому за истекший миллион лет. Они умеют лишь по-прежнему валять дурака. Не научились даже ловить рыбу. И, вынужден признать, остальные представители животного мира также крайне незначительно продвинулись за все это время в смысле совершенствования тактики выживания – за исключением человека.
16
То, что *Эндрю Макинтош произнес при появлении Хесуса Ортиса, было столь оскорбительным и, на фоне распространяющихся по всему Эквадору голодных спазмов, столь опасным, что большой мозг американца и впрямь, очевидно, поражен был каким-то серьезным недугом – если только вообще наплевательское отношение к тому, что может произойти в следующий миг, можно считать признаком душевного здоровья. Тем показательнее, что жестокое оскорбление, адресованное им этому дружелюбному и добросердечному служащему отеля, не было преднамеренным.
*Макинтош был квадратным, среднего роста мужчиной. Голова его – коробка меньших размеров – покоилась на более крупногабаритной, а руки и ноги впечатляли своей толщиной. Он был таким же здоровяком, способным подолгу находиться вне дома, как и покойный муж Мэри Хепберн, однако в отличие от Роя был еще и большим охотником испытывать судьбу. Зубы у него были столь крупными и идеально белыми и он взглянул на вошедшего с такой улыбкой, что Ортису на ум тут же пришли белые клавиши рояля.
И с тою же белозубой улыбкой *Макинтош по-испански обратился к Ортису: «Снимите с тарелок крышки, поставьте бифштексы на пол для собаки и убирайтесь».
Кстати, о зубах: ни на Санта-Росалии, ни в других человеческих колониях на Галапагосах сроду не водилось дантистов. Миллион лет назад обычного поселенца ожидала перспектива обеззубеть годам к тридцати, перенеся на этом пути не один головодробительный приступ зубной боли. А это, разумеется, ударяло не только по его (или ее) самолюбию – ибо с некоторых пор зубы, сидящие в челюстях, стали единственным орудием, оставшимся в распоряжении человека.
В самом деле. Ныне люди не располагают никакими иными орудиями, кроме собственных зубов.
У Мэри Хепберн и капитана, когда они очутились на Санта-Росалии, зубы, несмотря на то что обоим давно перевалило за тридцать, были в хорошем состоянии – благодаря регулярным визитам к стоматологу, который высверливал гниль, вычищал абсцессы и тому подобное. Однако умирали они уже беззубыми. Селена Макинтош, когда она, по соглашению с Хисако Хирогуши, покончила с собой, была еще так молода, что у нее сохранялось много зубов – хотя далеко не все. Хисако же к тому времени потеряла все свои зубы.
И если бы мне довелось дать критический отзыв о человеческом организме, каким он был миллион лет назад – в том числе и у меня, – словно речь идет о машинах, которые некто вознамерился выпустить на рынок, то у меня было бы два основных замечания. Одно из них я, несомненно, уже не раз делал на протяжении своего рассказа: «Мозг чересчур велик, чтобы быть практичным в использовании». Второе же я бы сформулировал следующим образом: «Вечно что-то не ладится с нашими зубами. Обычно их не хватает на срок, сопоставимый с продолжительностью жизни. Каким событиям в ходе эволюции должны мы быть благодарны за то, что вынуждены ходить с полным ртом крошащихся черепков?»
Было бы чудесно, если бы я мог сказать, что закон естественного отбора, оказавший человечеству столько услуг за весьма короткое время, позаботился о решении и этой проблемы. В некотором смысле так оно и произошло, однако решение это оказалось драконовским. Человеческие зубы не стали более долговечными. Просто средняя продолжительность жизни людей сократилась до тридцати лет.
А теперь вернемся в Гуаякиль, к тому мгновению, когда *Эндрю Макинтош велел Хесусу Ортису поставить на пол тарелки с мясом.
– Простите, что вы сказали, сэр? – переспросил Ортис по-английски.
– Поставьте их перед собакой, – повторил *Макинтош.
Тот повиновался – при этом большой мозг его пребывал в полном смятении, в корне пересматривая мнение Ортиса о себе самом, человечестве, прошлом и будущем, да и самой природе мироздания.
И не успел Ортис, обслужив собаку, распрямиться, как *Макинтош скомандовал снова:
– Теперь убирайтесь.
* * *Даже сейчас, миллион лет спустя, мне больно писать о столь жестоких человеческих поступках. Миллион лет спустя мне все еще хочется извиниться за все человечество. Это все, что я могу сказать.
Если Селена была для Природы экспериментом в области слепоты, то ее отец являлся подобным же экспериментом в области бессердечия. Равно как Хесус Ортис – экспериментом в области преклонения перед богачами, я – экспериментом в области неутомимого соглядатайства, мой отец – экспериментом в области цинизма, моя мать – экспериментом в области оптимизма, капитан «Bahia de Darwin» – экспериментом в области безосновательной самоуверенности, Джеймс Уэйт – экспериментом в области бесцельной алчности, Хисако Хирогуши – экспериментом в области депрессии, Акико – экспериментом в области шерстистости и так далее.
Это напоминает мне один из романов моего отца, «Эра многообещающих монстров». В нем повествовалось о планете, населенной гуманоидами, которые до самого последнего мгновения игнорировали порожденные ими же самими угрозы их существованию. Так продолжалось до тех пор, пока – после изничтожения всех лесов, отравления водоемов кислотными дождями, а грунтовых вод промышленными отходами – у гуманоидов не начали рождаться дети с крыльями, рогами, плавниками, сотней глаз, вообще без глаз, с гипертрофированным головным мозгом, без мозга и так далее. То были эксперименты Природы по созданию существ, которые, при должном везении, могли бы оказаться лучшими хозяевами планеты, чем гуманоиды. Большинство этих существ погибли, были застрелены или еще что-нибудь в этом роде, однако некоторые оказались поистине многообещающими, спарились между собою и дали подобное же потомство.
Я, в свою очередь, назвал бы «эрой многообещающих монстров» ту эпоху, в которую мне довелось жить миллион лет тому назад – со всеми чудовищными атрибутами этого романа, переведенными из плоскости телесной в моральную. В настоящее время подобных экспериментов – будь то с телами или душами – больше не ведется.
Переразвитый мозг людей той эпохи был способен не только на жестокость во имя жестокости. Благодаря ему они также могли ощущать любого рода боль, к которой низшие животные были абсолютно нечувствительны. Представитель никакой другой породы животных не мог чувствовать себя – как то чувствовал, спускаясь на лифте в вестибюль отеля, Хесус Ортис – покалеченным словами, которые произнес *Эндрю Макинтош. Ортис с трудом даже отдавал себе отчет, достаточно ли того, что от него осталось, для осмысленности его дальнейшего существования.
При этом мозг его был устроен так сложно, что внутри его черепа, перед мысленным взором вставали всевозможные картины, каких не дано было видеть низшим животным, – столь же чистые плоды человеческого воображения, как и те пятьдесят миллионов долларов, которые *Эндрю Макинтош готов был мгновенно перевести из манхэттенского банка в Эквадор, как только нужные ему слова прозвучат в телефонной трубке. Фантазия рисовала ему портрет сеньоры Кеннеди – Жаклин Кеннеди Онассис, – неотличимый от виденных им не раз изображений Девы Марии. Ортис был католиком. В Эквадоре все были католики. Католиками поголовно были фон Кляйсты. Даже каннибалы, жившие в экваториальных влажных лесах, неуловимые канка-боно, и те были католики.
Сеньора Кеннеди представлялась ему прекрасной, печальной, чистой, доброй и всемогущей. В воображении Ортиса, однако, она возглавляла сонм более мелких божеств, которые также должны были принять участие в «Естествоиспытательском круизе века», включая шестерых постояльцев, уже проживавших в гостинице. От любого из них Ортис ожидал только блага и предвкушал – как и большинство его соотечественников, покуда в стране не воцарился голод, – что приезд подобных гостей станет славной страницей в истории Эквадора. И потому их следует окружить всяческой роскошью, какая только вообразима.
И вот вдруг истинный облик одного из этих предположительно чудесных визитеров, *Эндрю Макинтоша, осквернил сложившийся в голове Ортиса мысленный портрет не только других младших божеств, но и самой сеньоры Кеннеди.
Теперь у этого поясного портрета выросли клыки, как у вампира, кожа слезла с лица, хотя волосы и сохранились, – и вместо Пресвятой Девы ему предстал ухмыляющийся череп, жаждущий чумы и погибели для маленького Эквадора.
Ортис никак не мог прогнать прочь эту леденящую кровь картину. Решив, что, быть может, ему удастся стряхнуть с себя жуткое видение выйдя на улицу, в ее палящий зной, он направился через вестибюль к выходу, не слыша обращенных к нему окриков *Зигфрида фон Кляйста, который находился в баре. Тот спрашивал подчиненного, что произошло, куда он идет и так далее. Ортис был лучшим служащим отеля, самым верным, находчивым и неизменно жизнерадостным, и *фон Кляйст им очень дорожил.
Детей у управляющего, кстати сказать, не было, хотя он и не был гомосексуалистом, сперма его выглядела под микроскопом замечательно и так далее. И вот почему: на пятьдесят процентов существовала вероятность, что он является носителем наследственной неисцелимой болезни головного мозга, неизвестной в наши дни и называвшейся хореей Хантингтона. Это был один из тысячи наиболее распространенных в те времена недугов, которые умел распознавать «Мандаракс».
Чистой воды везение картежника, что сегодня среди людей не осталось ни одного больного хореей Хантингтона. Подобной же случайности обязан был *Зигфрид фон Кляйст тем, что стал в свое время ее потенциальным носителем. Отец его узнал, что болен, лишь к середине своей жизни, когда уже успел породить двух отпрысков.
Это, разумеется, означало, что и старший, более высокий и импозантный брат *Зигфрида, Адольф, капитан «Bahia de Darwin», мог быть носителем недуга. Поэтому как *Зигфрид, который должен был уйти, не оставив по себе потомства, так и Адольф, которому предстояло впоследствии стать прародителем всего человеческого рода, – оба исходя из восхитительно бескорыстных побуждений – отказались участвовать миллион лет назад в биологически важном акте спаривания.
* * **Зигфрид и Адольф хранили в тайне возможный свой генетический дефект. Это умолчание, конечно, избавляло их от ненужных личных осложнений, но в то же время призвано было оградить их близких. Получи огласку то обстоятельство, что братья могут передать по наследству эту болезнь своим потомкам – всем остальным фон Кляйстам вряд ли можно было надеяться на удачный брак, несмотря на то что вероятность их заболевания была вовсе нулевой.
Дело заключалось в том, что недуг, если только они вообще носили его в себе, был унаследован братьями от их бабушки по отцовской линии, второй жены их деда, родившей единственного сына – их отца, эквадорского скульптора и архитектора Себастьяна фон Кляйста.
Насколько тяжелым было это заболевание? Ну, достаточно сказать, что это было хуже, чем родить ребенка, сплошь покрытого шерстью.
Более того: из всех ужасных болезней, известных «Мандараксу», хорея Хантингтона, возможно, была наихудшей. Она, несомненно, являла собой самый предательский и отвратительный сюрприз для человека. Обычно она тихо дожидалась своего часа, не поддаваясь выявлению никакими известными анализами, покуда несчастный, получивший ее по наследству, не достигал зрелого возраста. Отец братьев, к примеру, вел безоблачную производительную жизнь до пятидесяти четырех лет, когда он вдруг начал невольно приплясывать и ему стали являться видения. А затем он убил свою жену – факт, преданный замалчиванию. Полиция, получив сообщение об этом убийстве, замяла дело, списав все на бытовой несчастный случай.
* * *Итак, двое братьев вот уже двадцать пять лет как ожидали, что в любой момент могут тронуться рассудком, пуститься в пляс и начать галлюцинировать. Шансов, что такое может произойти, у обоих было пятьдесят на пятьдесят. Случись такое хотя бы с одним из них – это послужило бы доказательством того, что недуг их может перейти по наследству к новому поколению. Если же любой из них дожил бы до преклонных лет так и не свихнувшись, это подтвердило бы, что он не является носителем болезни и что его потомки также избавлены от нее. В этом случае оказалось бы, что он давно мог бы безбоязненно размножаться.
Однако судьбе было угодно распорядиться так, что капитан оказался здоров, тогда как его брат – болен. По крайней мере бедному *Зигфриду хотя бы предстояло страдать недолго. Помешательство его началось, когда ему оставалось всего несколько часов жизни: в четверг, 27 ноября 1986 года. Он стоял за стойкой бара в «Эльдорадо», перед ним сидел Джеймс Уэйт, а за спиной у него висел портрет Чарльза Дарвина, когда его самый надежный служащий, Хесус Ортис, прошел мимо бара к выходу, чем-то страшно расстроенный.
Именно в этот момент большой мозг *Зигфрида на миг погрузился в безумие, после чего опять вернулся к прежнему, нормальному состоянию.
На ранней стадии этой болезни – единственной, которую суждено было пережить несчастному, – он еще мог осознать в душе, что мозг его становится опасен, и усилием воли поддерживать видимость психического здоровья. Поэтому он не подал виду и попытался вернуться к своим обычным делам, завязав беседу с Уэйтом.
– Какова ваша профессия, мистер Флемминг? – спросил он. Слова эти, произнесенные *Зигфридом, мучительно отдались у него в ушах, точно он прокричал их во всю глотку в пустую железную трубу. Слух его стал болезненно чувствителен к звукам.
Ответ Уэйта, произнесенный мягким голосом, также резанул ему слух.
– Я служил инженером, – проговорил Уэйт, – но после смерти жены потерял интерес к этому занятию, да и вообще ко всему, по правде сказать. Полагаю, теперь можно сказать, что моя профессия – выживание.
Между тем Хесус Ортис, смертельно оскорбленный *Эндрю Макинтошем, вышел из отеля, намереваясь побродить по окрестностям, пока немного не успокоится. Однако вскоре он обнаружил, что благодаря солдатам и колючей проволоке весь прилегающий к отелю район превратился в санитарный кордон. Необходимость такого барьера, впрочем, была очевидна. Толпы людей всех возрастов по ту сторону ограждения не сводили с него глаз – столь же проникновенных, как у Казаха, – совершенно напрасно надеясь, что у него может найтись для них еда.
Оставшись внутри ограждения, он вновь и вновь обходил вокруг отеля, всякий раз при этом минуя открытую дверь прачечной. Там, внутри, на стене укреплена была серая стальная коробка. Он знал, что в ней: коммутатор, соединяющий телефоны отеля с внешним миром. Добропорядочный гражданин той эпохи, миллион лет назад, при виде такой коробки мог бы подумать: «Что соединено телефонной компанией, не имеет права разъединять ни один человек».
Именно это соображение возникало в мозгу Хесуса Ортиса. Никогда бы он не смог повредить коробку, столь важную для множества людей. Но человеческие мозги в ту пору были так велики, что стали поистине способны обманывать своих владельцев. Мозг Ортиса подстрекал его отключить все телефоны, еще когда он в первый раз проходил мимо двери прачечной. Мозг знал, что в душе его обладатель – убежденный противник антиобщественного поведения. Поэтому, дабы того не парализовало, мозг твердил ему: «Нет-нет, что ты, мы, конечно же, ни за что на это не пойдем».
На четвертом витке мозг Ортиса подтолкнул его пройти в прачечную, позаботившись при этом изобрести легенду на тот случай, если того спросят, что он там делает. Будучи добропорядочным гражданином, он пришел искать зеленые брюки одной из постоялиц, Мэри Хепберн, канувшие накануне вечером, по всей видимости, в иную галактику.
Он открыл коробку и порвал все провода. Всего за несколько секунд типичный для той эпохи человеческий мозг превратил лучшего гражданина Гуаякиля в безумного террориста.
17
На острове Манхэттен рекламщик-профессионал среднего возраста созерцал крах своего шедевра – «Естествоиспытательского круиза века». Он только что переехал в свой новый офис в опустевшем помещении под самым сводом здания Крайслера, где ранее размещался выставочный зал фирмы по изготовлению арф, которая обанкротилась, как Илиум и Эквадор, Филиппины и Турция и так далее. Звали его Бобби Кинг.
Он находился в том же часовом поясе, что и Гуаякиль, и линия, опущенная строго на юг из глубокой складки на его брови, уперлась бы в еще более глубокую складку, рассекшую бровь *Эндрю Макинтоша. Тот в Гуаякиле пытался криком вдохнуть жизнь в отключенный телефон. С равным успехом *Макинтош мог бы прижимать к своей квадратной голове чучело галапагосской морской игуаны и все требовательней орать: «Алло! Алло!»
У Бобби Кинга же на столе и впрямь стояло чучело игуаны, и он не раз развлекал того или иного посетителя тем, что, притворившись, будто перепутал чучело с телефоном, подносил его к уху и произносил: «Алло! Алло!»
Однако теперь ему, конечно, было не до шуток. По-своему он сделал не меньше, чем Чарльз Дарвин, для прославления Галапагосских островов – ведя на протяжении десяти месяцев пропагандистскую и рекламную кампанию, которая сумела убедить людей в том, что первому плаванию «Bahia de Darwin» предстоит стать в самом деле «Естествоиспытательским круизом века». В ходе этой кампании он сделал знаменитостями различных обитателей архипелага: бескрылых бакланов, синелапых олуш, вороватых птиц-фрегатов и еще и еще многих.
Заказчиками кампании были министерство туризма Эквадора, авиакомпания «Экваториана эйрлайнз» и владельцы отеля «Эльдорадо» и «Bahia de Darwin» – дядья по отцовской линии *Зигфрида и Адольфа фон Кляйст. Ни управляющему отеля, ни капитану, впрочем, не приходилось заботиться о хлебе насущном. Они, благодаря наследству, и без того были сказочно богаты, но считали, что все равно должны чем-то заниматься.
Теперь Кингу представлялось очевидным, хотя никто ему еще ничего не сообщал, что все труды его пропали впустую и «Естествоиспытательскому круизу века» состояться не суждено.
Что касается чучела морской игуаны на его столе, то он сделал эту рептилию тотемическим символом круиза, поместив ее изображение по обе стороны от носа «Bahia de Darwin» и, в качестве эмблемы, на всех объявлениях и рекламных листовках.
В действительности же это была тварь, достигавшая порою в длину метра с лишним и выглядевшая не менее пугающе, чем китайский дракон. Однако на деле она была для любых форм жизни – не считая водорослей – не опаснее ливерной колбасы. Сегодня она ведет тот же образ жизни, что и миллион лет тому назад, а именно: у нее нет врагов, поэтому она сидит на месте, вперясь в никуда, ничего не желая, ни о чем не беспокоясь – пока не проголодается. Тогда она сползает к океанской воде и пускается вплавь, медленно и не слишком умело. Удалившись от берега на несколько метров, она погружается, как подводная лодка, и набивает брюхо водорослями, пока еще непригодными для пищеварения и требующими обработки.
Потом игуана выныривает, плывет на берег и снова усаживается на застывшей лаве, под солнцем. Используя себя в качестве кастрюли для тушения, она раскаляется все жарче в солнечных лучах – в то время как водоросли тушатся у нее внутри. При этом она, как и прежде, продолжает глядеть прямо перед собой, в никуда – с той единственной разницей, что теперь изо рта ее время от времени выплескивается нагревающаяся морская вода.



