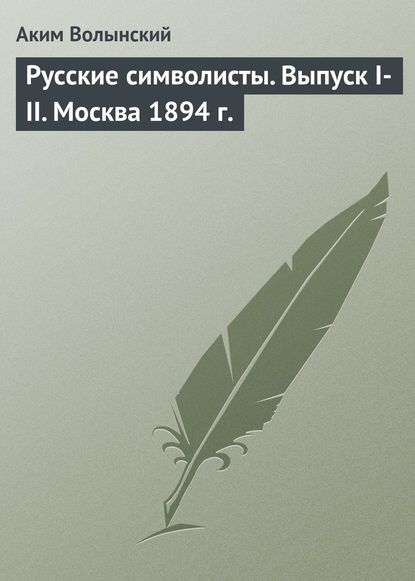 Полная версия
Полная версияРусские символисты. Выпуск I-II. Москва 1894 г.

Аким Волынский
Русские символисты. Выпуск I–II. Москва 1894 г.
Новые течения в литературе, новые разговоры об искусстве не всегда сопровождаются появлением крупных и свежих поэтических талантов. Как-бы ни были оригинальны те или другие идеи, волнующие молодые поколения литературных работников, художественное творчество может стоять на очень низком уровне, если на помощь живой потребности новых выражений, красок и оттенков, новых образов не придет способность воплощать в ясных, простых формах, доступных пониманию, трогающих душу, волнующих и увлекающих воображение. Искусство никогда не может превратиться в механическую передачу определенной мысли или настроения. Между моментом, когда идея впервые блеснула в сознании, и выражением этой идеи должна совершиться некоторая таинственная работа, которая в результате и дает настоящие слова, смелые уподобления, фразы, рисующие цельные поэтические картины или движение лирического чувства. Именно в этой работе, скрытой от сознания, невидимой для самого художника, представляющей для истинного таланта живую импровизацию, и проявляется творящая сила искусства. В ком эта работа слаба, бледна, лишена самобытности, в ком впечатления жизни не возбуждают глубоких, и тревожных брожений, в том, при всех напряжениях ума, при самых пламенных желаниях следовать за веком, мы никогда не найдем таланта, который в самом деле выводит искусство на новые пути. Все дело в таланте. Возбуждая в людях с художественным призванием игру сил и способностей, страстное движение к идеальным целям, вдохновенное желание осмыслить новые человеческие задачи, веяния эпохи бессильно волнуют людей бездарных или, при некоторой даровитости, лишенных настоящей умственной оригинальности. В литературную сферу вносятся с этими веяниями идеи, производящие некоторое замешательство среди работников старого склада, но только немногие, только самые избранные натуры действительно расцветают в свежем воздухе новых настроений и поднимаются до их полного и яркого воплощения.
С падением старого тенденциозного искусства, в глазах молодого поколения, в общество стали проникать более верные и более смелые мысли, которые не могли не отразиться на всех нервных и чутких деятелях печати. Искание красоты в поэзии сделалось в литературе последнего десятилетия заметным явлением. Писатели, одаренные поэтическим талантом, прежде уступавшие давлению утилитарных требований и со стороны общества, и со стороны его прогрессивных вождей, стали один за другим переходить на новую дорогу, открывающую большой простор их истинным влечениям и артистическому темпераменту. Надсон может считаться последним выразителем старой традиции с её однообразными мотивами, искусственно приподнятой и тенденциозно подчеркнутой гражданственности. Его шумный успех в средних слоях русского общества был как-бы прощальным взрывом прежних литературных симпатий и вкусов. После Надсона молодое поколение писателей быстро стряхнуло с себя прах мертвящих журнальных предписаний, которые держали их на службе у публицистических задач. Но поддавшись новым настроениям, молодые писатели еще не овладели тем, что бессознательно шевелит в них потребность в более совершенном и глубоком поэтическом выражении вечных идей и целей искусства. Мы не можем не сочувствовать этим искренним стремлениям заглянуть в ту таинственную область, из которой выходит творческая работа – в настоящую глубь психической жизни, с её неясными, но волнующими мечтаниями о совершенной красоте, с её фантастическими настроениями, неуловимыми для мысли, как музыкальный мотив. Однако, мы должны при этом сказать, что самое творчество этих писателей в новом направлении отличается то наивной зависимостью от популярных в настоящую минуту, громких западно-европейских имен, то деланностью и риторичностью в погоне за внешними эффектами. Нащупывая пути в тумане своих неясных и сбивчивых понятий, они, быть может, еще долго не внесут в литературу ничего истинно значительного, составляющего момент в истории искусства, знаменующего истинно новую эпоху в умственной жизни общества. Поэзия наших дней, в лице её наиболее упорных, наиболее мужественных и наиболее интеллигентных работников, каковы напр. Минский и Мережковский, только еще пробует свои силы, и должно пройти, не мало времени, пока их искусство преодолеет болезненный процесс искания верных слов и художественных образов для передачи их внутренних тревог и томлений.
Рядом с этими новыми попытками в центре литературы, стали обнаруживаться в последнее время новаторские стремления и со стороны людей, пока еще не вошедших в литературу, но очевидным образом льнущих к тому, что происходит в ней свежего, современного. Появилось несколько тощеньких сборников с очевидной претензией представить самое оригинальное явление в новейшем русском искусстве, но увы! сборники эти не отличаются никакими серьезными поэтическими достоинствами. Они переполнены бессмыслицами, для которых нельзя подобрать ключа ни в каких живых человеческих настроениях, или такими стихами, в которых, при поразительной нищете воображения, убогой рифме и хромающем размере, особенно бьет в глаза банальность и даже пошловатость основных сюжетов. Таковы два московских сборника под названием «Русские символисты», таков-же и вышедший на днях, худенький, как общипанный цыпленок, сборник одного интеллигентного и начитанного юноши, Александра Добролюбова, любезно доставившего нам свою книжку для «беспристрастного» отзыва. Все названные сборники не заслуживают никакого серьезного разбора. Если бы это явление не стало повторяться с некоторым постоянством и если бы жажда оригинальности и новаторства не переходила порою в комическую погоню за небывалыми выражениями и до дикости странными образами, мы не сказали-бы об этих сборниках ни единого слова: в них нет таланта, воображение бледно и беспомощно, несмотря на его полную, подчас грубо циническую распущенность, претенциозные краски безвкусно смазаны в какие-то тусклые пятна. В двух выпусках московских символистов мы нашли только два-три стихотворения за подписью Валерия Брюсова, в которых бьется живое и более или менее понятное человеческое чувство. Но и эти стихотворения не поднимаются над уровнем самой ординарной версификации, и по художественной отделке, по свежести психологических настроений бесконечно ниже истинно-талантливых и, временами, тоже бесформенных, декадентски-загадочных стихотворений К. Фофанова. В сборнике г. Добролюбова очень много претензий, очень много пышных посвящений «великим учителям», очень много совершенно белых страниц и листов, неведомо для чего отделяющих друг от друга микроскопические произведения в стихах и в прозе. При этом в странном сборнике молодого автора нельзя найти ни одного вполне удовлетворительного по форме стихотворения. При всей важности латинских, философических заглавий, при всем разнообразии эпиграфов из Верлена, Гюго, Фета, Лонгфело, при всем богатстве в определении музыкальных темпов, в которых написаны стихотворения (adagio maestoso, presto, andante con moto), произведения г. Добролюбова производят иногда тягостное, иногда забавное впечатление. Вы ищете в книжечке какого-нибудь поэтического содержания, волнующих автора настроений, каких-нибудь отличительных признаков его артистической индивидуальности, и вместо всего этого видите бессвязный бред человека мало жившего, ничего глубоко не испытавшего, но, быть может, уже болезненно изнемогающего от какого-то скверного недуга воображения. Проза г. Добролюбова плоха, отрывочна и в сущности еще более нелепа, чем его стихи. Повсюду пестрят одни и те же слова, взятые из каких-то старинных лексиконов, ничего не рисующие, расплывчатые эпитеты, повсюду мелькают какие-то «белые ноги» и «белые нози», но нигде ни одного простого поэтического выражения, по которому можно было бы судить о таланте автора.
Таковы жалкие попытки русских символистов, которые, конечно, не предрешают важного вопроса о новых путях в искусстве наших и будущих дней.
А. Волынский.«Северный Вестник», № 9, 1895
