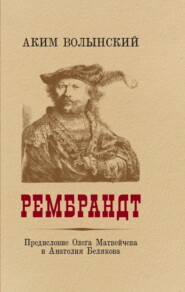скачать книгу бесплатно
В 1632 году Рембрандт получает заказ, изменивший всю его дальнейшую жизнь – групповой портрет для гильдии амстердамских хирургов. Картину предполагается вывесить в зале собраний, и работа художника будет превосходно оплачена.
Принимаясь за картину, Рембрандт ещё не знал, что именно она послужит началом его головокружительной карьеры. На следующий же день после официальной церемонии вывешивания Рембрандт понял, что значит быть знаменитым. Его буквально засыпали поздравительными письмами, приглашениями и заказами. О картине говорили, что по силе она не уступает лучшим творениям Франса Хальса, а по глубине и благородству даже превосходит их. Знатоки рассуждали о том, как мастерски сгруппированы фигуры, и о том, как изумительно использован свет. Дилетанты восторгались «живым сходством портретов».
Отныне Рембрандт ведет активную светскую жизнь. Он принимает в своём доме самых знатных людей Амстердама, охотно наносит визиты и сам. Во время одного из них модному художнику представляют девицу Саскию. Дочь бургомистра города Лейвардена и двоюродная сестра известного торговца картинами, она рано осталась сиротой, и за ней было очень солидное приданое в 40 тысяч флоринов. В июне 1633 года Рембрандт и Саския обручаются, а ещё через год сочетаются законным браком. Это вводит Рембрандта в высшие круги амстердамского бюргерства, и теперь его уже никто не называет «сыном мельника».
Рембрандт горячо любит свою супругу и выражает свою любовь в её многочисленных портретах, в том числе, в одном из лучших шедевров «Даная».
Женщина не слишком красивая, но милая и веселая, Саския любит дорогие наряды и драгоценности. Рембрандт выполняет все её прихоти. Саския рожает Рембрандту четверых детей, из которых трое умирают в младенчестве. Выживает лишь четвертый, нареченный Титусом,
Рембрандт на вершине славы. Он преподает, много работает, активно тратит деньги – покупает кривые турецкие сабли и клинки, парчу для одежд моделей и драпировки, картины величайших мастеров. Новый общественный статус заставляет его сменить жилище. Рембрандт покупает с рассрочкой на шесть лет роскошный дом в самом престижном квартале Амстердама. На верхнем этаже он устраивает внушительных размеров мастерскую, где без устали творит всё новые и новые шедевры. С каждым из них всё четче обозначается позиция автора – стремление к внутренней правде, раскрытие душевной красоты персонажа. Для решения творческих задач Рембрандт как, наверное, никто в истории искусства использует возможности светотени, создавая с её помощью определенную эмоциональную среду и психологическую характеристику образа. Именно у него живопись перестает играть декоративную или репрезентативную функцию и устремляет на реальность свой собственный взгляд.
В 1640 году Рембрандт ван Рейн получает заказ, который так же, как когда-то «Урок анатомии доктора Тюльпа», в корне изменит жизнь художника. Написать требовалось трупповой портрет роты городской милиции во главе с бравым капитаном Франсом Баннингом Коком. За работу полагалась значительная сумма – 1600 флоринов.
14 июня 1641 года умирает от чахотки Саския. Рембрандт тяжело переживает смерть жены, пытается забыться в работе. В 1642 году выставляется «Рота капитана Франса Баннинга Кока». Картина имеет колоссальный успех, однако сами заказчики остались крайне недовольны. Вместо простого группового портрета они получили шедевр, который прославлял, скорее, мастера, нежели его персонажей.
С тех пор мастерство и виртуозность становятся злым роком художника. Всё чаще заказчики предпочитают обращаться не к мэтру, а к его ученикам – Флинку, Болу, Бейкеру. Они далеко не так одарены, но вкусы клиента они понимают куда лучше, а главное, всегда готовы идти у них на поводу. К тому же своенравие учителя порой доходит до абсурда. Чтобы добиться наилучшего результата, он может месяцами рисовать и перерисовывать всего один портрет, заставляя бедного заказчика ежедневно приходить в мастерскую, не позволяя ни пошевелиться, ни высморкаться. Однажды Рембрандт писал групповой портрет – семейная чета, дети и с ними – маленькая обезьянка. Во время одного из сеансов обезьянка сдохла, и, потрясенный случившимся, художник изобразил на картине её трупик. Заказчики потребовали убрать эту не слишком приятную деталь, на что мастер ответил решительным отказом, дескать, именно она-то одна и делает картину интересной и колоритной.
Постепенно заказы сошли на «нет». Однако Рембрандт, не в силах проститься со старыми привычками, продолжал тратить огромные суммы на аукционах, пополняя свою коллекцию заморских диковин и великих картин. На аукционах он никогда не торговался – сразу назначал огромную цену, объясняя это необходимостью поддерживать престиж мастерства.
Не всё в порядке и в личной жизни. Некоторое время Рембрандт живет с кормилицей сына Гертье (Гэртген) Диркс. Затем заводит любовницу – молодую красавицу Хендрикье Стоффендоттер (Стоффельс). Гертье плетет интриги, требует на ней жениться. Но Рембрандт её не любит, к тому же и жениться он не может, потому что в этом случае, согласно завещанию Саскии, он не может распоряжаться её наследством. Живя во грехе, Хендрикье и Рембрандт рождают дочку Корнелию.
Тем временем уставшие ждать погашения долга за дом кредиторы начинают действовать – Рембрандт просрочил выплату на целых восемь лет. 25–26 июля 1654 года судебные исполнители описывают имущество художника. В список вносится всё – от «белья, подлежащего стирке», до огромной коллекции полотен и гравюр великих мастеров – Рафаэля, Ван Эйка, Брейгеля, Рубенса, Кранаха. В сентябре 1656 года имущество, нажитое Рембрандтом за всю жизнь, ушло за 600 флоринов.
Рембрандту уже не принадлежат и его картины – ни уже написанные, ни будущие. Права на них переходят к Титусу и Хендрикье.
1650-е годы – время, когда в голландском искусстве начались застой и деградация. Большинство художников пошло на поводу у разбогатевших буржуа, стремившихся усвоить обычаи и нравы аристократов и плативших большие деньги за «статусные» портреты. Сохраняя внешнее сходство, художники «облагораживали» модель с помощью трафаретных приемов репрезентативного аристократического портрета.
Рембрандт, напротив, к своему пятидесятилетию вступает в период наивысшего расцвета сил и таланта. Почти не имея заказов, он пишет портреты членов семьи и немногих друзей. Оставив свой прежний роскошный дом, Рембрандт перебирается с семьей в маленькое жилище на окраине. Он переносит прах Сискии на кладбище поближе к дому, где цена могил ниже. В 1661 году умирает Хендрикье. Рембрандт хоронит её на том же кладбище. Он пишет всё более и более великие шедевры – «Возвращение блудного сына» (1668-69), «Заговор Юлия Цивилиса» (1661), «Синдики» (1662).
В 1665 году Рембрандт живет на деньги сына. Один из кредиторов должен был компенсировать Титусу, признанному судом основным кредитором Рембрандта, часть средств, полученных на распродаже имущества – всего 6952 флорина. Однако и этой колоссальной суммы хватило ненадолго – Рембрандт сразу же начал тратить её на покупку картин.
10 февраля 1668 года Титус женится на Магдалене ван Лоо и переезжает к теще. Через полгода он умирает. Рембрандт остается с четырнадцатилетней дочерью Корнелией. Даже оказавшись в суровой нищете, Рембрандт не пожелал продать ни одной картины из воссозданной коллекции – он предпочитал творить в окружении шедевров. Творить, без оглядки на общественные вкусы, так, как подсказывало ему сердце.
Говорят, что однажды к Рембрандту заглянул его преуспевающий ученик. Он искусно нарисовал на полу золотые монеты, которые подслеповатый художник принял за настоящие, и бросился их собирать. Вскоре после этого последнего удара судьбы он умер.
Смерть Рембрандта ван Рейна пришла 4 октября. Уход из жизни величайшего художника Голландии прошла почти незамеченной современниками. В те времена по любому незначительному поводу создавались оды, наполненные выспренними излияниями. Однако о кончине Рембрандта мы узнаем лишь по краткой записи в погребальной книге церкви, при которой он был похоронен.
За свою жизнь Рембрандт создал около 600 картин, почти 300 офортов и более 1400 рисунков.
От автора
Отдаю читающей публике книгу о Рембрандте. Она написана в текущем году, в условиях современной русской жизни, но задумана ещё в бытность мою в Голландии, лет двадцать тому назад. Художник всегда казался мне загадкою, к которой надлежит подойти не со стороны чисто технической, а скорее со стороны идейной. Ни один живописец мира не создан для критики идеологического характера в такой мере, как Рембрандт. Применяя в своём исследовании рабочую гипотезу о дальней или ближней принадлежности Рембрандта к еврейскому племени, я отнюдь не стремился этим установить какие-либо новые, незыблемые биографические факты метрического характера. Задача моя представлялась мне иною. Предстояло выяснить в общечеловеческой концепции тот психологический тип, ту форму мышления и чувствования, которые можно назвать еврейскими, кто бы ни являлся их носителем. Эти черты мною и прослежены на пространстве книги. Приходилось мне при этом допускать широкие отступления для всестороннего выяснения запятой мною позиции.
В некотором смысле настоящая книга является обширною иллюстрацией моего «Гиперборейского Гимна», одним из этюдов, входящих в его состав.
А. Волынский
Рембрандт
Я написал книгу о Рембрандте, задуманную лет двадцать назад, во время моего пребывания в Голландии. Другие труды отвлекали моё внимание, и только в текущем году я мог начать и закончить это обширное исследование. Должен сказать с самого начала, что столь позднее написание этой книги я считаю особым для себя счастьем. Между современностью и нашими творческими побуждениями существует неисследимая, но всегда ощущаемая связь, и в этом заключен исторический двигатель каждого литературного и художественного начинания. Этот подземный контакт между душою пишущего и его временем имеет огромное значение. Я сам не мог бы с точностью указать, в каких именно местах книги слышится веяние моих дней, но читатель, наверное, почувствует, что я иду в моём исследовании тропами, обнажившимися только теперь. Я иду, а время меня ведет. Книга писалась изо дня в день, равными порциями, почти ритмически. Идеи уже давно сложились в голове моей, и, как лошади, неслись хорошим бегом вперед, под бичем текущего Хроноса. И вот я пришел к концу, и оглядываюсь на пройденный путь.
Всё в Рембрандте меня интересовало. Нет живописца в мире, который так будил бы мысли и так бы их питал. Я начал с изучения семьи Рембрандта в портретном отображении, как живописном, так и в графическом, отца, матери, дяди, братьев и близких людей. Повсюду анализ открывал поразительную вещь. Кисть художника выписывала еврейские физиономии. Приглядываясь же к этим физиономиям, я наталкивался на черты, которые я назвал габимными, и на чистые линии, тянущиеся от дальних веков. Что такое эти габимные черты, читатель узнает из самой книги. Но тут для полноты моего изложения я должен пояснить термин, схваченный мною из струй библейских источников. Габима значит высота. Когда евреи очутились, на заре своей легендарной истории, в ханаанской земле, среди хеттеев, амореев и других народностей того времени, они нашли там алтари на высотах. Дым жертв возносился к небу с этих местных круч и акрополей. Идейная жизнь человечества всегда совершается на какой-то высоте. Заняв ханаанские земли, евреи начали борьбу с этими высотами, с культурными верхами автохтонов, и, продолжая эту деятельность из века в век, стали в отдельных частях своих воспринимать колориты чуждых им идей и чувств. Местные габимы врезывались в иудейское небо, заслоняя иногда целые части его чистой синевы. Мало-помалу, в процессе завоеваний, расселений, диаспоры, стал возникать тип габимного еврея, во всех его разновидностях. Почти в каждом еврее, если он хоть сколько-нибудь характерен для своего народа, глаз открывает в самой его пластике – борьбу двух миров, незавершенных ещё до сих пор в своём развитии. Когда стоишь перед бесчисленными портретами рембрандтовской галереи, невольно уходишь мыслью к этой тьме. Перед нами прежде всего евреи, с двойственными чертами, в костюмах эпохи, переплетающихся с вековечными одеяниями. Эти последние, как музыкальный напев, то и дело звучат в симфонии великолепных туалетов, плащей, шляп с перьями, ожерелий и шпаг. Иногда перед нами сидит простой еврейский шнорер[43 - Нищий-попрошайка (идиш). – Прим. ред.], положив отдыхающие ноги на туфли, и тут же детерминатив меча обращает его в апостола. И чем больше сродняешься со всеми изображенными лицами, тем больше ощущаешь присутствие в искусстве Рембрандта какой-то особенной семитической характеристики вещей и явлений. Пусть Рембрандт не еврей по своей метрике, но ветер древнего востока обуял его душу, занесенную в ратоборческую Голландию XVII в. неизвестною волною человеческих расселений. Чуть ли ни каждая физиономия с ого полотна смотрит не в окружающий быт, а в какие-то отвлечения, в какую-то странную вечность, совсем по-еврейски. Но туда же смотрит и душа художника.
Рассмотрев портреты родных, я приступил к изучению ранних и поздних автопортретов самого Рембрандта. Всю биографию художника я изучил по этим портретам, не отвлекаясь в сторону никакими общеизвестными фактами. Хотелось прочесть развивающуюся душу в чертах его лица. И тут опять и опять вставала все та же расовая загадка: кто и откуда этот человек. На всём пространстве жизни Рембрандт был типично-габимным евреем, хотя по внешнему своему бытию он мог считаться христианином. Странная вещь, смотришь на иного человека и говоришь себе: как не идет к нему христианство. Даже Владимир Соловьев, со своими брызгами цинического смеха, высокий, гибкий и стройный, вечно юный в своей магистрали, с расчесанными по византийскому образцу волосами, тоже мало подходил к рисующемуся нам идеальному типу евангельского христианина. Не тот скелет, не та анатомия, не тот ход и шаг к жертвенному алтарю. Смех не христианский, улыбка не христианская, самое слово не христианское, в своей кругло-законченной калиграфической риторике. Со страниц евангелия несется к нам юродиво-героическая нота, которая вообще с трудом может поселиться в душе человека, по духу и по времени чуждого великому спору иудаизма с христианством. Но если христианство не шло Владимиру Соловьеву, то ещё менее оно могло соответствовать Рембрандту. Нельзя и представить себе его в католическом храме коленопреклоненным, с молитвенно сложенными руками, с выражением сентиментального пиэтета на лице. Мы имеем автопортреты Рембрандта всех его возрастов. То он выступает перед нами молодым шутником, лэтцом, как я его назвал в книге, то прелестным юношей с вьющимися по семитическому волосами, с лицом, которое узнаешь повсюду на картинах. С годами лицо это одухотворяется, но и преждевременно стареет. И когда видишь старого Рембрандта, невольно как-то понимаешь, что этот человек и в молодости уже был стариком, несмотря на весь его клокочущий темперамент. За иными людьми так и видишь ряды прошедших веков, и черта эта особенно свойственна евреям. Иной еврейский юноша, иная еврейская девчонка кажутся плывущими на валах, несущихся из неведомой дали истории. Я проследил жизнь Рембрандта во всех фазах его бытия, мужем, родителем, дедом, вплоть до приложения к отцам, говоря по-библейски. Все последовательные жёны его рассмотрены мною на бесчисленных холстах, офортных листах и рисунках. Решительно всё, что в той или другой степени могло отразиться на творчестве художника, взвешено мною со всею доступною мне обстоятельностью. Чтобы при этом выставить в достаточной рельефности место, занимаемое Рембрандтом в портретной живописи, пришлось один из отделов книги занять обозрением голландского портретного искусства в целом, сопоставив его с образчиками соседнего творчества у великих фламандцев и французов. Сопоставление это усложнило и обогатило анализ многими, естественно сюда привходящими идеями. «Иконографию» Ван-Дейка пришлось показать с особенной высоты, в окружении замечательных граверов той эпохи. Портреты Рембрандта разобраны мною по категориям: мужчины, женщины, старики и старухи, молодежь, дети. Разные профессии, ремесленники, проповедники, христианские и еврейские, голландские дамы – всё это завершается обозрением семейных и групповых картин. Весь материал в совокупности изучается параллельно в живописи и в графике, чтобы дать критическому анализу широту и всесторонность.
Покончив с портретами, я приступил к изучению больших тем рембрандтовской кисти и иглы. «Анатомия», «Ночной Дозор» и «Синдики», со всеми примыкающими к этим произведениям менее замечательными вещами, подверглись подробнейшей характеристике. За внешними очертаниями в этих картинах улавливается веяние большой отвлеченной мысли, выходящей далеко за границы отдельных заказов. Не только в эпоху Рембрандта, но и в наши дни эти шедевры ещё подлежат расшифрованию. Я взглянул на них с точки зрения той рабочей гипотезы, которою я руководился на всём пути моего исследования, и вдруг картины эти представились мне ожившими, как гобелены в Павильоне Армиды. Но если б даже моя служебная гипотеза оказалась сама по себе недостоверною, сказанное мною о картинах всё же останется на своём месте. Нигде в мире мы не найдем художника, в творчестве которого кипели бы столь высокие мотивы. Отовсюду у Рембрандта блещет солнечными пятнами крайний какой-то рационализм, к которому можно подойти только с умозрительным методом, постоянно вдаваясь в обобщения и отвлечения. И чем больше вдумываешься в эти холсты и хрупкие офорты, тем больше видишь, что тема в них одна и та же, какая-то монолитная идейная громада, вошедшая в Голландию светоносным островом в результате непонятных духовно-геологических сдвигов. Рембрандт решительно одинок среди окружающих его современников. С кем бы его ни поставить рядом, даже с Рубенсом, даже с Гальсом, даже с Ван-Дейком, он остается обособленным и необъяснимым, как необъяснима до сих пор и та раса, к которой, как к могучему магниту, тяготела его Душа. «Анатомия», «Ночной Дозор» и «Синдики» написаны не для одного лишь семнадцатого века. Чем больше возрастет в своём интеллектуализме человечество, отойдя от фантомов христианства и всякой эмоциональной мистики, чем больше оно приблизится к своим аполлиническим высотам, тем картины эти станут всё более и более понятными. Но всё, что в мире духовном может быть понято окончательно, всегда будет иметь то или иное отношение к иудаизму. И эта связь с иудаизмом занимает уже первый план, как только мы переходим к ветхо- и новозаветным сюжетам библии. Это целая и очень большая часть творчества Рембрандта, которой посвящена почти вся последняя часть книги.
Ветхозаветные библейские темы получили у Рембрандта своеобразное освещение. Библейские образы у него лишены монументальности, неудержимо и иногда неуловимо перехода в жанр. Тут чрезвычайно выразилась габимность настроения, покидающая художника лишь в редкие моменты. Жанрист пут сказался гениальный. Но библейская поэзия от этого не выиграла. Отпал монумент, отлетела пластическая работа времени. А голландская комнатная собачка сбегает со ступенек крыльца Авраама. В душе художника не умолкали и внутренние незаглушенные голоса. Иногда, выводя иглою или кистью благородные еврейские профили еврейских старцев, Рембрандт помещал их где-нибудь на дальнем плане, или в углу картины, причём весь центр тяжести произведения, весь фокус внимания, переносились им именно на эти как бы второстепенные силуэты и очертания. Но монументальность библейская всё-таки не достигалась и здесь. Библейские картины у Рембрандта всё время колеблются между бытовым жанром и условной, церковно-ипокритной, почти шаблонной иллюстрацией. Таким образом библия не нашла в Рембрандте своего изобразителя и долго ещё, может быть, будет ждать его. Но, конечно, настанет время, когда библейская география примет в художественном сознании человечества классический характер.
Обращаясь к христианским темам, Рембрандт тоже не представил в них монументальности, которой в Новом Завете, впрочем, и вообще не существует. Монументальным в процессе веков оказывается лишь то, что родилось в живой конкретной реальности, коренилось в почве и питалось её соками. Монументален Геракл: его образ рожден в действительной борьбе между первоосновными эллинскими пластами и пришельцами – носителями новых культурных идей, оказавшихся победоносными. За Гераклом стоят столбы веков, погруженных в хмурое и смутное до-аполлиническое существование, с экзальтациями дифирамбического Диониса, но без живых лучей интелектуализма. Монументален Самсон. Монументален Авраам.
За всеми этими легендарными фигурами стоит живая действенная история, их оправдывающая, и в них пластически воплощенная. В Хроносе есть эта замечательная сила. Она увеличивает размеры фигур и придает им художественно идеализированный облик. Если мы обратимся к евангелию, то найдем там лоскутное одеяло из легенд, причём ни один образ не порожден действительностью, а выдуман и надуман. Сам Христос в своём историческом подобии нам неизвестен, а в своём церковно-иератическом отподоблении совершенно оторван от эпохи, страны и народа. В таком же положении оказывается и Сакиа-Муни Готама, так же живущий исключительно в храмовых, совершенно условных аллегориях, так что о монументальности образа Будды не может и быть и речи. Христос и Будда стоят в этом отношении рядом или – вернее сказать – висят в пространстве историческими призраками, перед которыми немеет музыка, бледнеют краски, рассыпается всякий мрамор. Конечно, и Рембрандта ожидало на этом пути неизбежное фиаско. Он пробовал писать Христа в чертах еврейского облика, но, ища несуществующей здесь монументальности, он черпал мотивы и средства из церковных кладовых, впадая в ипокритность, в условность, в иконность, и, наконец, в скучный и неприятный шаблон. Впрочем, ни одна живопись и ни одна скульптура не дали нам образа Христа, превращенного в пластичный монумент процессом времени. Все имеющееся в этой области, включая бриллианты Леонардо, Рафаэля и Тициана, не больше, как декоративный красочный дым. У Лука Синьорелли в Орвиетском соборе имеется прекрасный антихрист. Но сколько-нибудь живого Христа, растущего в монумент, мы не найдем даже у Буонаротти, у которого он представлен, по правде говоря, каким-то ярморочным атлетом в картине «Страшный суд». О бледных попытках современных Уде и говорить не приходится, как и о назарейцах и о романтиках живописи девятнадцатого века.
Всё это только фантомы и больше ничего. Фиаско Рембрандта на этом пути особенно типично. С душою интеллектуалиста, насыщенною, согласно нашей гипотезе, зачатками наследственного монизма, Рембрандт не мог черпнуть для себя вообще в надуманных христианских мифологиях ничего питательного, ничего сочного, ничего восторгающего и уносящего. С Христом некуда взлететь, если только не устремляться в бездны трансцендентной пустоты. Но, побуждаемый заказами новозаветных картин, художник насильственно творил недостижимое, не увлекая этим ни себя, ни других. Получались картины, часто выдающиеся по художественным своим качествам, по гениальной композиции, по не менее изумительной светотени. Перед глазами зрителя плывут и возникают контрастные эффекты, производящие порою впечатление настоящего магизма. Здесь Рембрандт оказывается на такой высоте, до какой поднимались только мастера chiaroscuro[44 - «Светотень» (итал.). – Прим. ред.], как Леонардо и Корреджио. Но Христа всё-таки нет, и нет Нового Завета, этой завещанной человечеству благотворной болезни, через которую должен был пройти пустынный и каменный Израиль. Сам Рембрандт стоит перед нами каким-то старым камнем, свалившимся с сионских высот, обросшим плесенью, водорослями и мхом среди бушующих волн современного ему века. Христианская мистика сама по себе была ему органически чужда. Прямым путем войти в неё он не мог. Но в Голландии семнадцатого века бродили иные форменты, волновавшие Европу и занимавшие умы отдельных мечтателей и фантастов. Поставлено было задачею сочетать Элогима с Христом – нечто небывалое, противоестественное и в высочайшей степени искусственное, увлекательное только для людей распада, живущих синкретическими тенденциями, без здорового монистического зерна. Таким компромисом явилась аллегорика масонства и, в частности, розенкрейцеровства. Я останавливаюсь внимательно в моей книге на дружбе Рембрандта с еврейским патриотом и эмансипатором Менассе бен Израилем. Известный кабаллист того времени, в беседах своих с художником, открыл перед ним вход в символику нового типа. Можно почти с уверенностью сказать, что рембрандтовская светотень – это игра желто-солнечных пятень в безднах непроницаемой тьмы – явилась отголоском в красках розенкрейцеровских схем.
Таковы все главные темы рембрандтовского художественного творчества, к которому относится также и чудодейственный пейзаж. Ему посвящен конец книги.
Моё исследование о Рембрандте вырастает целиком из другой моей книги, также подлежащей ещё опубликованию. Я имею в виду «Гиперборейский гимн», написанный в прошлом году. До известной степени книга о Рембрандте является лишь иллюстрацией к «Гимну», заключающему в себе тезисы гиперборейской мысли со всеми привходящими этюдами и фрагментами. «Гиперборейский гимн» очень мозаичен по своему содержанию, но заключает в себе теоретические предпосылки, которые легли в основу «Рембрандта». От начала и до конца «Гимн» является разрывом, последним моим расчетом с христологией, которой были отданы мои прежние литературно-критические труды. Вместе с тем книга эта, отвергающая в корне всякую мистику и всякий дуализм, является в некоем высшем смысле апологией иудаизма, вознесенного на принадлежащую ему аполлиническую высоту. Я не задавался никакими тенденциозными целями. Если бы в результате обширного филологического исследования, охватившего самые ранние формы эллинских культов, получился какой-нибудь одиозный постулат, я принял бы его бестрепетно на свои плечи. Но получилось нечто иное, нечто светлое, нечто гуманистически завлекательное. Обозначились в рассеивающихся туманах ясные пути, которыми идет человечество, освобождаясь от старых фантасмагорий религиозного и философского характера. Религиозные верования взяты в их исторической оправе, и из них выделены элементы и факторы всеобщего интереса, тяготеющие к научному освещению и постижению. Это была работа, не вступившая и не могущая вступить ни в какой конфликт с так называемою научною мыслью, которая идет от вещих сновидений прошлого к сияющим высотам будущего. Я задавался только целью исследования, и если на страницах двух моих книг – «Рембрандт» и «Гиперборейский Гимн» – наметилась апология иудаизма, то я сам, со слезами радости на глазах, приветствую её с политической точки зрения.
В России издавна кипит, как смола, надземно и подземно, антисемитическая буря, то подавляемая, то раздуваемая, то пылающая, то скрытая в тайниках, но всегда действующая и угрожающая. Не видит её только тот, кто закрывает глаза. Если я не нахожусь в состоянии ослепления или чрезвычайной иллюзии, то «Рембрандт» и «Гиперборейский Гимн», в своей совокупности, являются первою известною мне в литературе защитою еврейства с точки зрения постулатов высшего разума. Каков бы я ни был сам по себе по своим размерам и силам, избранная мною позиция находится на высоте. Оттуда я смотрю и оттуда вижу. Мне могут возразить, что враги еврейства рекрутируются слишком часто среди людей, далеких от умозрительных отвлечений; что здесь обыкновенно происходит разгул своекорыстных страстей, распаляемых недобросовестными агитаторами; что антисемитизм скорее чувство, чем ясный разум вещей. На всё это я отвечаю, что никогда в истории защита с высот мысли, даже и самой абстрактной, не была бесплодною. Пусть только перекрасятся в своих тенденциях высокие и благородные представители неоарийства, и политические последствия такой метаморфозы окажутся бесчисленными. Александрийские отвлечения, при всей их выспренности, могли шуметь на византийских площадях. Величайшие революции в мире, политические и социальные, созревали часто в умах таких одиноких мыслителей, как Кондорсе и Руссо. Кто учтет последствия открытий Ньютона, Герца, Менделеева или Томсона в уличном грохоте жизни. Я бесконечно далек – и это слишком само собою разумеется – [от] мысли зачислять себя в ряды таких деятелей истории. Но отстаиваю наряду с защитою физическою и защиту духовную. Если такою защитою явятся эти две мои книги, написанные в целях чистой науки, то – повторяю – я найду в этом награду на моём многотрудном пути.
Вытекая из «гимна», «Рембрандт» может и наверное будет читаться и отдельно. Я касался в книге многообразно и вопросов техники и чистой художественной критики. Если в этой экспертизе Рембрандта будут найдены некоторые новые указания и факты, то, со своей стороны, я, хотя и придавал бы им всеподобающее значение, всё же главный смысл книги я полагаю в идейной её стороне. Надеюсь, что полиграфические средства нашего современного печатного дела позволят иллюстрировать «Рембрандта» достаточно богато и хорошо.
А. Волынский
Метод исследования
Искусство Рембрандта представляет огромное поле для исследований. Можно написать о нём биографический трактат, и это представляло бы большой интерес: в этом человеке, волновавшем современников и продолжавшем в течение нескольких веков занимать умы, отразились черты не одной эпохи, не одного лишь местного антуража, которые завлекают и определяют физиономию какого-нибудь пусть и талантливого Андриана Остэдэ. Через Рембрандта прошло много наслоений, много сменяющихся воззрений при исключительном своеобразии темперамента в неразгаданных его силуэтах его интеллектуальной личности. Также жизнеописательные этюды ещё долго не перестают появляться один за другим. С другой стороны, изучение Рембрандта в пределах его творчества может быть чрезвычайно разнообразным. В самом деле, перед нами мастер, являющийся одновременно гениальными графиком, не менее замечательным живописцем, единственным в своем роде портретистом наряду с такими величайшими в мире художниками как Гольбейн, Рафаэль, Веласкес. Затем тот же Рембрандт изумительный пейзажист и творец необозримого множества картин библейского содержания, имеющих совершенно исключительное значение в истории мирового искусства. Мы не будем говорить в настоящем исследовании ни о вопросах форм и красок у Рембрандта, ни о технических сторонах гравирования, выступающих с такою рельефностью при изучении приемов и средств великого мастера. Тема же наша заключается в нижеследующем. Изучая картины, вообще произведения Рембрандта со стороны их содержания, всё время чувствуешь себя в контакте с особенным мироощущением, которое можно назвать иудейским восприятием жизни и людей. Мы не решаем сейчас вопроса о самом происхождении Рембрандта. По официальной биографии он был протестантом. Насколько известно, ни у одного биографа, ни у одного монографиста он не назван евреем или еврейским выходцем из какой-нибудь другой страны. Если тем не менее поставить минутной гипотезой, что Рембрандт еврей, то задачу интереснейшего исследования составило бы рассмотреть содержание всего его творчества картин, офортов, рисунков и эскизов с такой именно точки зрения. Когда под таким углом зрения я перелистывал в течение многих лет бесконечное число репродукций, имеющихся в разных немецких, французских и русских изданиях, а также в чудесных альбомах Амстердама и Гарлема, я никогда не мог освободиться от гипноза, от навязчивого чувства, что перед глазами открываются разные стороны еврейского религиозного духа, во всей его отличительной и характерной физиономии. Повсюду у Рембрандта тайны еврейского гения, представленные, можно сказать, в жестах и терминах этого народа. Если Рембрандт не был евреем, истинной загадкой представляется, как мог он подойти с такой интимной стороны к самим сокровенным чертам еврейской души. Мало знать чужой быт во всех его подробностях. Мало даже любить его. Надо ещё видеть и чувствовать и подспудные, подпольные, почти подземно-подсознательные глубины его, чтобы быть его абсолютно компетентным изобразителем в линиях и красках. Здесь нужна не просто только грамматика и стилистика, но и живой неподдельный акцент. В произведениях же Рембрандта и слышится этот еврейский акцент во всём его своеобразии.
Если сопоставить религиозную живопись Рембрандта о картинах других еврейских мастеров, даже соседной ему Фландрии и Брабанта, то сразу же бросится в глаза важное и принципиальное их различие. Взять хотя бы новозаветные или ветхозаветные картины итальянских мастеров Ренессанса разных школ. Это почти всегда окажется переводом на язык красок тех или иных выспренных церковных подобий. Если что и черпается из фондов современности, то только внешняя бутафория и костюм, как например, к Гирландайо. Тьеполо и Веронезе. По содержанию мы имеем здесь дело только с абстракциями, только со схемами определенного вероисповедания. В этом отношении, если оставить в стороне некоторое [иеросмармостью (нрзб)] Леонардо да Винчи, вся итальянская живопись, не одной только эпохи Ренессанса, консервативного – верна церковной символике; аллегорика, – изобразительными традициями прошлого и шаблоном настоящего. Правда, здесь бывали реформаторы и даже великие, как например, Рафаэль, содержащий новый тип Мадоннн. До него таких женских ликов, вписанных со всею гениальностью солнечного ясного понимания материнства, в живописи не попадалось. Были только намеки в этом направлении у умбрийских предшественников Рафаэля. Тем не менее и великое новшество Рафаэля оставалось в границах римско-католических восприятий, ни в чём решительно их не перерабатывая, не взрывая и не изменяя. Реформировалась только техника и изменялся только тембр психологического восприятия, от Джиотто фра Беато Анджелико и Беноццо Гоццоли до позднейших и условнейших мастеров болонской школы и барокко. Реальный конкретный религиозный быт нигде в Италии не нашел в живописи своего адекватного выражения – ни у флорентийцев, ни у сиенцев, ни даже позднейших венецианцев. Везде схвачены только черты наружного уклада жизни, празднеств, семейных церемоний, костюмов и причесок alayaggera. но нигде ни один мазок не коснулся интимнейшей стороны религиозных переживаний. Религия стояла тут в стороне. Вся её красочная и звуковая симфония разыгрывалась где-то на возвышении, на подмостках церковного просцениума, причём зрители созерцали её из своего партера. Расстреливаемый какой-нибудь святой Себастьян предстоял публике настоящим ипокритом церковной легенды, со всею театральною каноничностью, подобающей сценически-художественному моменту. Поток жизни при этом ни в чём не нарушался, ничем и никем не отклонялся в сторону. Между обоими мирами лежала непереходимая грань – та самая грань, тот самый барьер, который и сейчас ещё отделяет жизнь европейских христиан от христианских верований.
Совсем другое явление представляет собою библейско-иудейская, библейско-еврейская живопись Рембрандта. Тот весь был перелит в религию, даже не перелит в религию, а слит с нею неразрывно, в каждом конкретной минутной данности. Все углы еврейского жилья выметаны религией. Вся грязь обихода, весь его мусор, вся его замызганная одежда облита желто-золотым светом религии. И другой, потусторонней религии, представленной на земле в театральном ипокритстве, с музицирующими ангелами фра Беато Анджелико и Мелоццо да Форли, как будто бы и не существует на белом свете. Религия тут у Рембрандта – это я, это – ты, это – мы все вместе в скопе, в чепухе случайного анекдота, в писке гвалте детей, в исторических слезах карикатурно-сомнительных эксцессах человеческой нежности. Никакой аллегорики и никакой помпы. Ни котурнов, ни масок. Вот религия, изображенная гениальным живописцем, в контраст всему миру, и другой религии для него не существует. Но это именно и есть чисто еврейская теология – и разменная для каждого данного мгновения, и в чистых полновесных слитках для кредитования веков. Всё имманентно, всякая трансцендентность отброшена. И читая глазами произведения Рембрандта (его именно читаешь, а не смотришь), переживаешь минутами такой подъем монистических настроений, как если бы мы стояли на высоком пригорке и оттуда взирали на всё разнообразие жизни сквозь единое апперцептивное представление. Смотришь и евреинизируешься, хочешь или не хочешь этого. Этой-то замечательной черты совершенно не понял Лангбен в своей книге: «Rembrandt als Erzieher»[45 - «Рембрандт как воспитатель» (нем.). – Прим. ред.]. Он даже не почувствовал сокровенной разницы, целой бездны, отделяющей Рембрандта от назарейцев начала XIX века и какого-нибудь Удэ наших дней.
Рембрандт
Имя «Рембрандт» само по себе какое-то загадочное и малопонятное. В моих поездках по старым Нидерландам, только с 1609 года разделившимся на Голландию и Фландрию, мне не раз приходилось расспрашивать и разузнавать, что собственно означает такое наименование. Но никто ни в Гааге, ни в Лондоне, ни в Амстердаме не мог сообщить мне на этот счет решительно ничего. Я и не знаю, подвергался ли этот вопрос когда-либо и кем-либо какому-либо исследованию. Однако имена нидерландских мастеров обычно состоят из собственных имен и определений фамилий. Таковы из фламандцев Антоний ван Дейк, Питер Пауль Рубенс, Дирк Бутс, Рожер ван дер Вайден, из голландцев Лука Лаврентий, Петр Ластман, Андриан Остедэ, Поль Поттер и т. д. Имена эти не перечислить. Каждый художник назван по имени и по фамилии: Франс Гальс. Тут сказывается универсальная склонность человечества не выделять данного человека, не изолировать его от всего окружающего, а, дав ему личное имя одного из героев мифологии или любимых святцев, связать его в то же время либо с отцом, либо с местностью его происхождения, либо определенной вотчиной, если речь идет о каком-либо аристократе. Помимо таких указаний, существуют ещё и так называемые прозвища, весьма распространённые в художественных кругах. Сюда же относятся псевдонимы, добровольно выбираемые их носителями. Ботичелли – это ведь, в сущности говоря, только прозвище, по ремеслу отца художника, фамилия которого была Филиппени, Содома – это тоже только сенсационное прозвище, данное замечательному мастеру кисти по поводу его эротической извращенности. Подлинное же имя его было Антенне Бацци. Перуджино назван по широкому церковному проходу города Перуджия. То же надо сказать и о Леонардо да Винчи. Художник родился, по всем вероятиям, вовсе не в Винчи, а в близлежащем Анкиано. Настоящим именем Корреджио было Антонио Аллегри. Замечательная вещь: если итальянский художник достиг чрезвычайной популярности, преобладание получает личное его имя, перед которым стушевывается фамилия. Гораздо чаще говорят Леонардо, чем Винчи. Очень редко говорят Буонаротти, ограничиваясь именем Микель-Анджело. Почти исключительно говорят Рафаэль, забывая фамилию Санцио, и очень часто связывают имя Рафаэля с названием города Урбино, откуда художник родом. Из величайших итальянских граверов назовем Марка Антонио, которого реже называют Раймонди.
Теперь, если перейти к художникам других стран, то, например, во Франции, в Германии, в Англии и Испании, повсюду мы опять встречаем и личные имена и фамилии известных мастеров. Жак Калло, Франсуа Бушэ, Антуан Ватто, Альбрехт Дюрер, Мартин Шенгауэер, Бартоломео Мурильо. Там же встречаем мы и множество разнообразных прозвищ: Эль Греко, Мартин Жен и т. д. Нигде в мире вообще художник, знаменитый человек, не выделен в абсолютную какую-то категорию, самодовлеющую и от окружающей среды не зависящую. Так или иначе он поставлен в некую связь, уже одним своим именем с родней, с местом происхождения, с профессиею своею или отцовскою. На взгляд всё это – детали номенклатуры. А между тем здесь ощущается психология, глубина, какая-то культурно философская интуиция, отделяющая Запад от Востока. Запад ставит на первое место сына человеческого, т. е. личное имя носителя. Если носитель занял высочайшее церковное место, избран папою, то фамилия как бы забывается. Вдруг она исчезает из оборота и тонет в пышном гардеробе нового звания. Остается только имя: Юлий II, Лев X. То же и в светской области, где имя Наполеон вытесняет фамилию Бонапарт. Когда мы говорим Людовик XIV мы мало думаем о фамилии Бурбон. Так стоит дело на Западе. На Востоке иначе. Там приоритет принадлежит не сыну, а отцу. Черту эту гениально выставил в своих трактатах Николай Федорович Федоров. Здесь Собственное личное имя всегда находится в сочетании с именем отца, и при Чрезвычайной популярности может даже отпасть личное и остаться лишь имя отца, причём исчезает и сама фамилия. Становится популярным В.И. Ленин. С течением времени и с ростом известности то и дело, даже в газетных статьях, подделывающихся под неродной тон, встретим интимное Владимир Ильич. Там Москва, эта цитадель российско-славянского духа, называла Федорова просто Николай Федорович, а Толстого – Львом Николаевичем. Но возрос ещё в своей популярности Ленин, и вот вдруг имя его засолено, минутами исчезает совсем и заменяется простым Ильич. Это достопримечательно именно в том философском аспекте, который так характерен именно для Востока, даже для дальнего. Когда в Китае давался титул заслуженному сановнику, то в торжественных церемониях он наносился на могильные плиты предков. Ни сын, ни потомки не получали его. Предки достойны наград за явление этого человека, о потомстве нельзя ничего ещё и сказать. Вот глубокомысленная точка зрения Востока, где всё строится на прошлом, пирамидально, на крепком фундаменте былого, а не в разрыве с ним и не личной превознесенности над ним.
Так же стоит дело у евреев, связанных с Востоком всею своею записанною историею. Тут тоже сын и отец сочетаются в одном наименовании. Иегуда бен Галеви, Иоханан бен Заккай – так именуют евреи своих заслуженных и знаменитых людей. Тут полнота и цельность наименования сказываются с особенною рельефностью. Тут прародитель может дать имя не только отдельному сыну или роду, но и целому колену. Что такое Иудея, как не расширенное применение имени отдельного человека – Иуды, к целому колену? Даже потом, в анналах истории, при описании междуусобных войн, мы постоянно читаем: Ефрем объявил войну Иуде. Вениамин пришел на помощь Иуде. Такой изначальный патриарх, как Яков, может дать своё имя
«Израиль» даже и всему народу. Какая культурная высота в такой истиной пирамиде веков! Оторвался человек от отчества, и лети вместе с ветром, пылью и прахом на безславье и измену своему назначенью. Тут возможны всяческие нежные модуляции, то с подчеркиванием одного сыновьего имени, то с выделением отцовского, но всегда и неизменно святоносное слово бен произносится с достаточною выразительностью. Иногда от этого одного маленького прибавления «бен» все слова приобретают почти всепарно антропологическое значение. Бен Адам это не только сын Адама, а просто Человек. Homo sapiens. Сын человеческий. В европейских переводах Евангелия, не исключая и греческого перевода, этому слову придано кощунственно-ограничительный смысл, и только перевод Француа Делича восстанавливает его истинное и широчайшее значение.
Обратимся теперь к Рембрандту. Что собою представляет его странное, нигде не повторяющееся имя? Станем на точку зрения предносящейся нам гипотезы. Допустим, что Рембрандт еврей по своему происхождению. И вдруг имя это расшифровывается и делается понятным. Его имя было Моисей – тогда его могли называть рабби Мойше. Отец его назывался Наэман – тогда он был сыном Наэмана, бен Наэман. Итак рабби Мойше бен рабби Наэман! Если взять инициальные буквы всех этих слов, как это и было принято среди евреев, как это было сделано по отношению к Майлиниду и другим, то, соединив их вместе, мы можем получить слитное имя Рембран. Это имя, попадающееся среди подписей Рембрандта, было также стилизовано: «бран» в «брандт», как у нас в России Лисенко и ему подобные малороссийские выходцы стилизовали свою фамилию на великорусский лад прибавлением в ней новой согласной буквы «в». Вместо Лисенко получалось Лисенков. И так вот что могло бы значить слово Рембрандт. Тут в сложной анаграмме, звучной на европейский лад, был бы слабо отражен семитический источник наименования, который мог бы оказаться непопулярным в стране, сохранявшей, несмотря на все приобретенные ею в XVII веке вольности, своё довольно суровое гетто. Евреев к тому времени в Голландии было очень много, но престиж их среди господствующих классов общества не был особенно завиден. Из биографии Рембрандта мы хорошо знаем, что даже в апогее своей известности художник этот, столь исключительный по своим заслугам и таланту, чувствовал себя в Амстердаме как бы среди вражеских стихий, и дружба с бургомистром Иоганном Сиксом являлась для него лишь светлым эпизодом. Когда аристократичный фламандец Рубенс, окружавший себя царственной помпой, посетил Голландию, то он известил многих выдающихся коллег по кисти, обойдя только одного Рембрандта. Всякая мысль о зависти должна быть здесь исключена. Оба мастера писали в совершенно различных родах и направлениях, и, например, коллега Рубенса, Франс Гальс, близкий ему по духу, не был забыт в числе живописцев, удостоенных лестного визита. Всё говорит нам о том, что Рембрандт занимал в Амстердаме одинокое и исключительное положение. Конечно, гении вообще часто бывают одинокими в своей деятельности. Но в одиночестве Рембрандта ощущается отмеченная всеми биографами какая-то специфическая черта отрешенности от местного быта и упорной несливаемости с окружавшей его средой.
8-го мая 1924 года
Еврейский шнорер
Одной из первых работ Рембрандта, уже переселившегося из Лейдена в Амстердам, является небольшая картина: «Павел в заточении», написанная в 1627 году Рембрандт был тогда двадцатилетним юношей. Рассмотрим все детали этой картины. Представлен глубокий старец. Он сидит на оттоманке, с развернутым фолиантом на коленях, поверх которого склонился лист с начертанными письменами. В левой руке изображенного старца – палочка для писания. Лицо покоится на правой руке, с собранными в кулак пальцами, прикрывающими рот. Всё замечательно в этой картине. Детали требуют истолкования. Правая нога обнажена, выступила из башмака и лежит на нём. Другая нога обута и на полу. Точно старик недавно откуда-то пришел, присел и отдыхает, распустив на правом башмаке ремешок, тут же изображенный. Получается впечатление только что совершенного долгого и утомительного пути. В вышней степени замечательно поза старика. Он согнул спину в полукруг и наклонил голову в глубоком раздумье. Всё на лице его выражает именно раздумье, процесс мысли, творческое настроение. Характер этого человека ощущается с полной ясностью. Что это за старец? Прежде всего, это натура в высшей ступени интеллектуальная, вдумчивая и созерцательная, без малейшего оттенка холодной рассудочности. Глаза, хотя. И открыты, вперлись во что-то, конкретно не существующее. Перед ним носятся какие-то мысли, какие-то умственные видения, объекты выспренных умозрений, слагающиеся в целые картины. Этот старец не тихо сосредоточен, не просто собран в комочек, а внутренне говорит. Высокий лоб открыт – с легкими продольными складками. Скулы бледного рта выпятились далеко вперед. Утонченная какая-то апперцепция пронизывает всё его сознание раскаленной иглой.
Но кто же такой этот человек, с таким замкнуто-напряженным распаленным лицом, с прикрытым как бы инстинктивно устами, своею позою отдельно напоминающий пророка Иеремию на миколь-анджеловской сикстинской платформе? Руки рембрандтовского старца как бы срисованы с легкими вариантами с композиции Буонароти. Оба старца хотели бы кричать, хотели бы вопить, но внутренняя сила удерживает их в молчании. Молчание же это действует сильнее крика. Влияние ватиканской модели может быть объяснено и биографически. Рембрандт в те молодые годы ещё учился у Ластмана, только что вернувшегося из Италии. В картину художника попал блик, огненная черточка из идейного пожара мастера Капеллн. Но всё преобразилось [у] Рембрандта выше степени, почти до неузнаваемости. Голландский живописец прежде всего стёр всякую торжественность, всякую помпу, всякий внешний риторизм. Иеремия Буонаротти – это Римский ипокрит, изображающий пророка. Это театральные фанфары, гудящие на религиозно-политическую тему. Иудейский рок, который воет, плачет, пугает и даже страшит, здесь заменён медный трубкой, который гласит и зовёт легионы. У Рембрандта же это просто еврей, еврей диаспоры, еврей западноевропейского гетто, без малейшего оттенка гордыни волевого дерзновения. Несмотря на то, что на картине Микеланджело изображен старик, всё в ней трепещет молодыми и воинственными. Перед нами титанический аристократ духа, который, склоняя голову под бременем свалившегося на него несчастья, всё же сохраняет в себе героическую выправку. Но у Рембрандта всё по-иному. Глава старца склонена уже совершенно по-еврейски: мудро,
безмолвно, потрясённо-согбенно и нежно-примирительно по отношению к небу. В ногах – ни следы солдатской боевой энергии, в главе – сознание непреложности верховных сил мира, текущее из глубин бесконечного, добро-жертвенного смирения. Если тут есть какая-нибудь героическое черта, то это уже из совершенно иного мира явлений, в котором нет ничего вызывающего и протестантского. Это музыка, это псалом героизма и [в] облике старого человека, который в сущности никогда и не был молодым, этому старцу столько лет, сколько лет его народу. Он сед его сединами, изображен его морщинами, согнулся под тяжестью веков. В мыслях его нет и оттенка светлой и легкой радостности, ощущаемой подчас даже и в пароксизме горя, как играющий хмель Диониса. Если бы дать ещё эту черту задумавшемуся старцу, мы имели бы индивидуальность, в которой иудейские и хамито-ханаанские элементы слились воедино. Но перед нами чистый иудей, пламенно чувствующий всегда сквозь одну и ту же мысль, во всё входящий духом пронзительным и строгим. Никакой экзальтации. Во всём энтузиазм, медленно горящий, как смола.
Под картиной Рембрандта мы читаем надпись: «Павел в заточении». Среди аксессуаров её имеется и длинный меч, воткнутый в солому. Первые заглавные строки листа намекают на готовящееся послание. Всё это атрибуты апостольства Павла, как его понимает церковная традиция. Но откуда же попали в римскую тюрьму эти фолианты, загромождающие всю оттоманку, закрытые и раскрытые, которые не мог принести с собой арестованный и вверженный в темницу старец? Странно было бы также представить себе этот длинный тяжкий меч в слабой и тщедушной руке такого ветхого деньми мудреца! Тут нужны иные руки, иные физические силы. Такими почти плачущими руками, как у рембрандтовского старика, не режут, не бьют, не секут, а только скользят по фолиантам и жестикулируют тихо и скромно в помощь отвлеченной мысли. Еврей ханаанский, придушенный изнутри камнем необъемлемой веры, имеет конвульсивный настойчивый и ударяющий жест, тогда как иудей чистого синайского типа рисует в воздухе свои мысли отчетливо чеканными движениями лица и рук, выражающих ритмику умудренного сознания. Изображенный Рембрандтом старец, это какой-то еврейский шнорер, засевший на перепутье в синагогальную комнатушку и обложивший себя любимыми книгами. Он пришел из соседнего местечка и сделал здесь краткий привал. Открытая голова, без шапочки, без ермолки, эти надписные строчки на раскрытом листе, особенно этот тяжкий меч, прислоненный к ложу – всё это только аллегорика для толпы, внешние черты официального сюжета, может быть, для большей легкости продать картину, которой никто не купил бы, если бы она просто и ясно изображала еврейского шнорера. Толпе нужен ипокрито представленный Павел, со всеми онерами легенды, и художник пускает в ход легкую фальсификацию.
Картина написана с применением изумительной светотени. Старец весь с головы до ног облит остановившимся бестрепетно белым светом. Свет льется как будто бы из окна, но, в сущности, он излучается самим старцем, которого охватила внутренняя какая-то осиянность. Замечательная вещь, смотря издали или сбоку, точно видишь на голове недостающую ермолку. Какая-то незримая тень всё же зыблется тут наверху и завершает, несомненно, портретную голову, списанную с какого-нибудь близкого Рембрандту человека. Но в целом это выделенный сектор света на общем темном поле. Говоря по существу, это – самая большая уступка со стороны художника отвлеченной идеологией христианства. Случайным, мгновенным, белым пятнышком человек плывет в окружающем мраке и тает с часу на час. Пришел момент – пятнышко исчезло и вновь сомкнулась темнота. Два мира – мир светлых явлений, зыбкий и преходящий, с одной стороны, и мир древнего хаоса, – темный, первобытный и вечный, с другой стороны, такова философия картины в целом. Конечно, эта философия далеко не иудейская, насыщенная театральною аллегорикой, совсем в соответствии с мечом. Но это достопримечательная черта во всём творчестве Рембрандта, возлюбившего светотень и её символизм, как никакой другой мастер в мире. Если Рембрандт был по рождению еврей, то тут перед нами открывается великая трагедия, пережитая внутри этим человеком. Все лица у него еврейские, быт – быт еврейский, обстановка и все аксессуары запечатлены духом патетического евреизма, а светотень, сочетание контрастных аффектов, почти опрокидывает и опровергает монизм библейско-иудейского миросозерцания.
Симеон-богопримец
Ещё один образчик трактования Рембрандтом библейских тем в христианской светотени. Картина относится к тем первым годам деятельности художника в Амстердаме, все ещё под сильным влиянием Ластмана. Уже пирамидальность композиции придает картине итальянский характер, напоминая произведения кватроченто, Фра Филиппо Липни, Ботичелли и других. Картина изображает момент принесения младенца Христа в храм. В ней четыре персонажа, не считая самого младенца: богоприимец Симион, Иосиф, Мария и св. Анна. Все фигуры, за исключением Марии, отчетливо иудейские, можно сказать, портретно-еврейские. Особенно хорош старец Симеон. Старцы вообще будут удаваться кисти Рембрандта. По этому поводу заметим, что в еврействе нет свободной играющей младости, брызжущей яркостью какого-нибудь Франса Гальса или Яме Стэна, нет контраста двух поколений – молодого и старого, столь обыкновенного в жизни других народов. Каждый умный мальчишка уже старичок. Будущая старушка слышна в голове молодой девушки. А старость чувствует себя здесь совсем, как дома, и это настолько типично для еврейства, что стареющий человек даже и другого народа становится похожим на еврея. Стоит взглянуть на портрет старого Толстого, старого Дарвина: разве это не евреи по своей непреодолимой серьезности, по окаменевшей своей спокойной мудрости, осененной бровями слегка насупленных глаз? Почти каждый патриарх кажется евреем, у бородачей Корнелия Вискера патриархально-библейский вид. Это замечательное явление имеет свои глубочайшие корни в истории народов. Они идут из одного источника, из общего этногеографического эмбриона. Все три брата, Сим, Хам и Яфет, вышли из одного ствола таинственного родословного дерева, так называемой белой расы, и отделились друг от друга в процессе истории. В доисторическое же время их не было совсем, была одна молитвенная масса примитива, оживленного потенцией будущих веков. Старый еврей несет в себе наглядные черты каких-нибудь Шумиро-аккадийцев, родоначальников вавилоно-ассирийской культуры, и схож с осколком яфетидов – хеттейцами, причинявшими столько забот и тревог египетским фараонам. Мы из самой Библии знаем, из конвульствено-неприязненных криков Иезекиля, что Царь Соломон вырос из смешения двух кровей, хетейской и аморейской и воплощал в себе, в синтетической ограниченности, обе народности. Вот откуда авторитетность еврейского старца. Он какая-то не умолкающая труба старых-старых времен. Все евреи седы этой любезно-вековой старостью, этим шествием отожествляющих веков к нам, далеким потомкам, с утешением и все ещё действенным поучением.
Таков именно и Симеон-богоприимец на рассматриваемой нами картине Рембрандта. Голова у него слегка наклонена внутренним потрясением, никогда не покидающим еврея. Потрясение это от надземного голоса, признанного и почти сентиментально любимого, а не от каких-нибудь тревог и несчастий. В потрясении этом есть неизбывная, целомудренная черта: еврей не называет бога по его имени, не разоблачает его перед людьми, избегает всякой выставки, чреватой кощунственными прикосновениями. Он связан с богом, как супруга, как невеста, и связь эта прикрыта дорогим атласным одеялом из всего окружающего. Нежным и осторожным склонением головы еврей сразу же создает вокруг себя атмосферу доверия и внимания. Так именно склонил свою голову Симеон-богоприимец. Длинная белая борода его, не расчесанная гребнем, но разглаженная разве лишь движением задумчивой руки, это не искусственный парк завитой и выхоленной бороды Леонардо да Винчи, а все тот же шумиро-аккадийский лес древних времен, отдаленнейших эпох Арам-Нахарэим. Мы разглядываем на картине профильную фигуру старца и улавливаем апперцептивно открытый левый глаз его. Апперцептивной иглой можно проколоть всего человека – такой иглы нет во взгляде Симеона. Но ею же можно приоткрыть чужую душу для признаний, и это именно и делает взгляд Симеона. Этому человеку можно не только на официальном духу, но и в обычной обстановке сказать всю правду, всё на свете, ничего не тая, ничего не скрывая. Спина его полукруглая объемлет ребенка своим светлым сиянием, как нимбом. Венца, в ипокритном стиле итальянского искусства, решительно никакого. Никаких концентрических кругов христианской аллегорики. Эта заботливая спина, молодая и старая в одно и то же время, с преизбытком заменяет пустой воздух схематической иконографии. Тут родная плоть простирается над головкою и дышит на неё теплом, защитой и приветом. И держит старец ребенка тоже легко и мягко, без насилия и даже усилия. Всё так естественно и просто, как это могло бы быть только там, где уже не действуют законы земного тяготения, где-то далекодалеко, в надзвездных каких-нибудь пространствах, в условиях иных миров. А между тем все это представлено Рембрандтом именно по-еврейски и по-иудейски – наиреальнейшими бытовыми очертаниями. Даже сомкнутые колени Симеона, даже иератический плащ, лежащий на нём, всё отдает израильским колоритом, пластикой вековечного Иуды и Беньямина. Перед ним на коленях, с молитвенно-сложенными руками, мать мадонна. Что-то в её лице и наряде напоминает чудесных Мадонн Сассоферато, хотя с определенностью установить тут связь двух художников, при посредстве ита-льянофильствующего Ластмана, нет никакой возможности. Оба художника были почти однолетками. Во всяком случае, в фигуре и позе Марии итальянское влияние ощущается довольно заметно. Разве только руки сложены чуть-чуть по еврейскому, с перешептывающимися между собою пальцами. Лицо осенено глубокою тенью от покрывала, спускающегося с головы на плечи. Рядом фигура Иосифа – вся темная, открытою головою, со сложенными на груди молитвенно руками.
Вершину треугольника образует фигура св. Анны. Это уже настоящая еврейка, с лицом матери Рембрандта. По лицу разлита чудесная экспрессия. Весь будущий Рембрандт в этом лице, которое мы будем изучать отдельно и подробно, по всем его деталям. Оно выражает на картине удивление, смешанное с каким-то почтительным гневом, сквозящем в полуоткрытых устах. Руки её разбросаны по сторонам с открытыми к зрителю ладонями. Эти раскрытые ладони, несомненно, написаны по итальянскому образцу. Весь жест св. Анны разительно напоминает жест апостола Андрея в «Тайной Вечере» Леонардо да Винчи. Да и смысл жеста один и тот же – и тут, и там: удивление, смешанное с гневом. Пророчица что-то услышала из сказанного Симеоном-богоприимцем и по душе её прокатилась волна негодующего отрицания. От удивления она развела руками черезчур широким жестом, не совсем свойственным еврейской женщине. Симеон задает Марии вопрос, обычный в таких случаях, при принятии новорожденного младенца: подлинно ли он от сего мужа? Этому и удивляется св. Анна, проникнутая бесконечною верою в свою дочь. Но отсюда ясно, что Рембрандт, окончательно отступая от христианской легенды, рисует нам бытовую еврейскую сцену каждого дня. От церковной фантастики не осталось ни следа. О супружестве со святым духом здесь так же мало речи, как и о белом слоне Будды в легенде индийской. Всё сведено к быту, в реальности жизни, окружающей художника. И только опять символическая светотень разлита по всей картине, подчеркнуто выражая исследование двойственной философии христианства. Вообще говоря, Рембрандт широко использует светотень во всех решительно будущих своих картинах, заменяя ею византийско-христианский нимб. Нет нигде у Рембрандта условно-традиционного нимба, но светотень его – тот же нимб.
Chiaro-Scuro[46 - «Свётлый-тёмный» (итал). – Прим. ред.]
Среди произведений Рембрандта, относящихся к 1630 году, имеется изображение св. Иеронима, оригинал которого утрачен, но сохранилась старая его копия. Это нечто значительное в плоскости тех идей, которые мы сейчас рассматриваем. И невозможно представить себе более яркой и поразительной иллюстрации – использования светотени для присвоения картине условно христианского ореола. Перед нами нимб, охвативший лик того святого, утрированный до невозможности. Этот нимб большим и замкнутым световым пространством располагается вокруг тела святого, следуя его общим контурам. Бывает, что по тем или иным противоречащим мотивам человек моментами впадает в некоторое затмение художественной меры и допускает почти карикатурное преувеличение принятой им манеры говорить, писать или изображать. Такая утрировка особенно чувствительна в рассматриваемой картине. Разрешу себе [в] этом месте маленькое интимное признание, тешащее моё исследовательское чувство. Значение светописи у Рембрандта было уже для меня совершенно ясно задолго до того, как я набрел на репродукцию «св. Иеронима». Сначала фотографический снимок с картины произвел на меня странное впечатление, и я подумал, что имею здесь дело с одним из многочисленных недостоверных произведений Рембрандта. Но когда я узнал, что эта картина в оригинале принадлежит действительно его кисти, я почувствовал некоторое удовлетворение: догадки мои оправдались.
Что, в самом деле, представляет собою этот большой, широкий и белый, почти повторяющий внешние очертания фигуры нимб? Иероним изображен опустившимся в коленопреклоненной позе перед стеной, увитой растениями, читающим священную книгу. Книга грубо и наивно снабжена двумя аллегорическими атрибутами святости христианского отшельника: крестом и четками. Всё во мраке. Сама фигура Иеронима тоже чернильно черна, и только громадное световое пятно, захватившее видимую часть льва, наполняет центральное место картины. Не видно и не понятно, откуда мог пролиться сюда такой фантастический свет, который, исходи он от любого фокуса, не принял бы столько послушных очертаний. Никакой театральный режиссер не мог бы осуществить его никакою фотомеханикою на сцене. Ясно, что по мысли Рембрандта свет этот излучается, льется потоками из самого Иеронима, оставляя его туловище странным образом неозаренным. Свет призван как бы к какой-то педагогической роли. Он должен существовать для зрителя, ничем не изменяя общего оптического миропорядка. Лев освещен. Но лев только символ, та же педагогика. Освещен и крест – по той же причине. Впрочем, некоторая доля освещения задевает и святого. Так озарёнными представляются нам пятки Иеронима, как если бы они и были отправными пунктами световой эманации. Отметим, что эти пятки представлены замечательно, и мы ещё будем иметь случай вернуться в дальнейшем изложении к вопросам, ими возбуждаемым. Что касается самой фигуры Иеронима, то надо сказать, что Рембрандт сумел оттенить, незаметно и тонко, что перед нами человек иудейского происхождения. Наклон головы лишен нежной сладости и неустойчивости, свойственных наклону еврейскому. Спина суха и мускульно крепка. Едва видное сбоку лицо, физически вполне возмужалое, не обнаруживает никаких следов умственной муки. И тем не менее это святой в христианском смысле слова, окруженный пышным ореолом.
Некоторое отдаленное подобие Иерониму представляет изображение св. Франциска, имеющееся в одной частной английской коллекции, относящееся к 1637 году. Поза приблизительно такая же, как и у Иеронима. Святой стоит коленопреклоненный, с открытыми к зрителю полуосвещенными пятнами, смотря в книгу и держа между руками распятие. Освещена голова, книга, пятки, но уже и часть неодушевленной природы затрагивается откуда-то идущим тем же светом, как, например, солома, бревно и череп, лежащее около Франциска. Тут уже дана, через семь лет после Иеронима, некоторая уступка реализму, без преувеличенного страха представиться зрителю недостаточно пиэтетно настроенным в христианском стиле художником. У Иеронима мы находим только расширенный до невозможности церковно-ипокритный нимб, или такую форму мистики, которая превзошла фантазию всяких Беме и Эккартов. В словах литературно-поэтических мистиков мы имеем дело с задушевным лиризмом и чисто философскими наваждениями, действующими на всякий живую и чуткую душу. По христианской канве вышиты цветочки, которые ещё расцветут и раскроются в позднейшей литературе Новалиса и других немецких романтиков. Такая мистика, плодотворная в своих основах, сама по себе углубила изучение природы и явилась толковательницей естества в терминах духа. Но что собою в этом отношении представляет светотень «Иеронима». И даже «св. Франциска»? Она не углубляет христианского миросозерцания, не выявляет самих фигур в разительном и поучительном рельефе, кажется неестественным водоемом света среди окружающего черного мрака – вообще она, как и всё условное, не плодоносна в познавательном смысле слова, как не может быть плодотворна никакая аллегорика по сравнению с глубинно жизненными символами. Тут именно не символы, которые делаются из конкретностей и реальности, а лишь надуманная конфессиональная выставка миросозерцания, недостаточно крепкого в душе самого художника. Художник провел это миросозерцание через все свои полотна и через всю свою графику с невероятным упорством. Светотень является кричащей темой всего творчества Рембрандта и от его имени неотделима, но с внутренним голосом естества она всё-таки бороться победоносно не могла. Надо всем простерт христианский покров из теней и светов, но христианского впечатления всё-таки не получается.
Иероним представлен ещё в сангвинном рисунке, находящемся в Лувре. Те же черты, что и в красочном оригинале: не иудейский наклон головы, сухая спина, жесткие открытые пятки, без всякой одухотворенности, скрещенные кисти рук – без трепетной благоговейности в пальцах. По-видимому, это рисунок именно к Иерониму, а не св. Франциску, судя по общему ритму всех линий фигуры. Да и существенно детали иные, чем у Франциска. Перенесется рисунок на холст, Рембрандт изменил лишь направление коленопреклоненного святого и окружил его потоком условного света. Художнический инстинкт не обманул его в изображении человека семитической расы, с другим, чем у евреев, иератическим пламенем в сердце. Именно сухость этого рисунка, выдержанного в реальных тонах, без каких- либо оттенков сладостной экзальтации, выдает какую-то личную психологию самого Рембрандта. Как только он выходит из мира тем еврейских, так сейчас же покидает его та благословенная умиленность, которую мы в нём так ценим и любим. Всё каменеет и мертвеет, в лучшем случае итальянизируется. Не то выражение лица, глаз, головы, спины. Иная колющая и слегка раздражающая апперцепция. Иные контрпостные повороты и движения. А светотень, прошедшая в творчество Рембрандта не без крупного воздействия Эльсгеймера, тоже подпавшего под итальянский гипноз, только мутит и холодит восприятие зрителя.
Chiaro-Scuro явилась в искусстве двух стран, в Нидерландах и Италии, великим вкладом, которым мы обязаны гению Антонетто да Мессина. С момента деятельности этого художника он начинает утверждаться в живописи, расцветая чудесным цветом у Ван-Эйка и расширяясь всё более и более у художников нидерландской итальянофильской эпохи в XVI веке и нидерландского ренессанса XVII века. В Италии Chiaro-Scuro имеет своих блистательных представителей в искусстве Леонардо да Винчи, Корреджно, Караваджио, на юге, среди постоянной солнечной игры теней и света в их ярких аффектах. Чего стоит замечательная светотень «Мадонны в скалах», особенно в её луврской редакции, или классическая светотень, поющая и звучно романская, в «Поклонении пастухов» у Корреджно или в его же «Мадонне Цингарелле», иные, находящиеся в Неаполитанском музее. Но совершенного триумфа Chiaro-Scuro достигает только в Голландии и именно у Рембрандта, с именем которого оно связывается на все времена. Несмотря на то, что у некоторых голландских пейзажистов, как Рюмсдаль, Кейп, Гойен, светотень дана в гениальных трактовках и производит захватывающее впечатление. Chiaro-Scuro Рембрандта все же остается несравненным. Тем не менее именно у Рембрандта оно и стало объектом величайшего в истории живописи злоупотребления, послужив орудием тенденциозного утверждения двойственной философии христианства. Он залил светотенью все темы и сюжеты Ветхого и Нового Завета. Всё плещется в потоках неожиданного сияния среди окружающей тьмы. Происходит какое-то неестественное водосвятие или вернее сказать – светосвятие великолепных самих по себе композиций. Но цели своей Рембрандт однако не достиг.
Католическая церковь отнеслась подозрительно к его иллюстрациям и только в позднейшее время некоторые северные протестанты стали собирать изображения Рембрандта для популярного сборника библейских картинок. Что же касается евреев, то никаких попыток в этом направлении мы у них до сих пор не находим. Всё у Рембрандта евреизировано, но иудейского света мы здесь всё-таки не встречаем.
11 мая 1924 года
Попробуем взглянуть на судьбы еврейского народа с наивно-элементарной точки зрения левита-иеговиста. Конечно, за последнее столетие библейская наука и экзегетика выросли необъятно. Сейчас это целый мир идей, генеалогий, расовых характеристик и филологических построений. Иной раввин с интересом перелистает ту или другую книгу новой науки, но основные традиционные точки зрения пребывают в его душе незатронутыми. Так и сказал мне недавно один духовный раввин, выслушав длинный мой рассказ о Велльгаузене. «Читайте Библию, как вы читаете Гомера, – только тогда вы и поймете в ней то, что в ней есть существенного». Генезис генезисом, но если руководиться только научными реконструкциями, Библия потеряет цвет и свет, и из цельного создания народного гения превратится в рассыпанную храмину. В этом отношении первоначальные кодификаторы были правее позднейших исследователей. Для меня же лично, озабоченного установлением народно-психологических классификаций, важно на мгновение остановиться на точке зрения моего раввина.
На Сионе духовном
Свет, зажженый Моисеем на Сионе, распространялся по миру медленным темпом. В Синайском сиянии он бил, как солнце. Это было первое солнце духа, солнце справедливости и гуманизма, которое блеснуло в глаза тогда ещё молодому народу. Если присмотреться, в самом деле, к скрижалям ветхого завета, сквозь облекающий их мифологический туман, мы различаем в них вечные какие-то письмена, которые не устареют никогда. Законодательство Моисея для раввина предвечно и вечно по самому своему содержанию, и до сих пор ещё человечество читает первые пять книг Библии с неослабевающим изумлением. Всё равно, всё чисто, всё светозарно. Всё светится с высокой горы. Что бы ни произошло в долинах, свет синайский остается путеводным навсегда. Он прорезывает воздух истории остриями своих лучей, не рождая в нём никаких теней. Тени появляются только в его соприкосновении с реальными предметами земли, с их плотской материальностью, не пропускающею через себя световых потоков. Ударившись в землю, он озаряет только те её части, которые оказались не замеченными. Таков свет Синая, отразившийся в Моисеевом законодательстве. Если бы мир бил бесплотен, если бы он не таил в своих недрах источников тьмы и хаоса. Тогда Моисей одним своим словом с Синайской горы явился бы создателем какого-то нового, невиданного до него космоса, и бесконечное сияние света разлилось бы раз и навсегда по всем векам и по всем пространствам. Так мыслит раввин-иеговист. Сразу же устранилась бы ночь и настал он – непрерывный, немеркнущий и неиссякающий день.
Но такое целостное воплощение цвета на землю есть-только мечта. Преломление его в условиях реального мира, в исторической действительности, совершается не только медленно, но и в мучительной борьбе с силами хаоса и мрака. Уже в тот самый момент, когда зажигался светильник Синая, еврейская толпа выходцев из Египта плясала перед идолом материализма. Конечно, относящийся рассказ легендарен, как и вообще легендарна вся история Моисея, писанная не его содержательным пером, а пером кодификаторов эпических преданий, окружающих первые шаги народа по историческому пути. Но в легендах больше правды, чем в иных подлинных документах достоверной действительности. Как это ни покажется парадоксальным, легенда действительнее самой действительности. Написанное о золотом тельце показывает с несомненностью одно, что народ еврейский, прошедший в течение нескольких веков кушито-хамитскую культуру египтян, не был ещё готов к восприятию Моисеева закона. В нём бурлили разбуженные натуралистические страсти, кипела кровь природных влечений, нерегулируемая ещё контролем разума. Но слово Моисея было сказано, и руководство на все времена преподано. Была намечена идея вечного дня.
В ханаанской земле завоевания, среди широко расплескавшейся] хеттейско-аморейской культуры, слово Моисея, входя в процесс истории, звучало призывною трубой и требовало борьбы с местными религиозными верованиями, с их жертвенными ритуалами на габимах. Габима сделалась тою пропастью, которую надлежало взять. В своих непобежденных ещё натуралистических стремлениях народ еврейский то и дело смешивался с местными этническими элементами и, изменяя преподанным ему нормам права и справедливости, впадал в кровную органическую связь с хеттеями и амореями. Но труба продолжала звучать и делала своё направительное дело. Иногда раздавались и новые замечательные слова наподобие слов Моисея. Говорили жрецы, левиты и пророки, направляя челн иудейский по верному руслу. Так или иначе, но эта эпоха в жизни еврейского народа может быть названа эпохою борьбы с габимами. Свет лился с высоты и, преломляясь в фактах слагающегося быта, озарял верхушки жизни, оставляя всё прочее в колеблющихся и трепетных потемках. Вечный день ещё не наступал.
Храм Соломона на Сионе является третьим и почти законченным этапом в истории автономного народа. Был литургический парад, были жертвоприношения и всесожжения, была процедура усвоения вечной мысли законодателя, с теми необходимыми ограничениями, которые создаются реальным укладом жизни. С течением веков кое-что обросло плотью и становится рутинным. Создавалась полумертвая инерция в богослужебном молитвословии, может быть, уже не шевелившем сердца, особенно в тот момент, когда меч Веспасиана уже навис над святым городом. Об этом свидетельствует шум сектантско-гражданской борьбы, разлившийся по всем градам и весям Палестины перед великою катастрофою 70-го года. Храм Соломона – великая вещь в истории Израиля. В нём был свет, было пламя, было вдохновение, достигавшее замечательных высот. Все же силы эти не были адэкватны Синаю. Именно тут, на Сионе, в подобиях материального и временного, они были заключены как бы в коробку ковчега и сведены к условно-иератическим нормам. Элогим со своих высот следил за происходившим, принимал жертвы и слушал возносившуюся к нему молитву, но самолично не говорил к народу, как говорил он некогда с Моисеем. Голос его приносился иногда в речах тех или других пророков. Но в общем он молчал, и жизнь текла в берегах неотвратимой судьбы. Свет был, но была и ночь. День был короток. Синай иногда просто померкал в сознании людей. Этот третий период в истории еврейского народа можно назвать периодом храма Соломона.
Но храм пал – наступает последний, четвертый период, возвращаемый рабби Иоханааном бен Заккеем. Это период синагоги и книги, ещё не изжитый историей, период всей диаспоры вплоть до наших дней. Нет самостоятельного государства. Народ рассеян по лику земли. Нет больше никаких жертвенных всесожжений, восходящих к небу в облаках душистого фимиама. Но слово Моисея, как никогда раньше, изученное, развитое, разъясненное и дополненное, звучит сердцем с новою силою. Вот когда впервые оказались поверженными все габимы всего мира. Вот когда культ материализма испытал жесточайшие удары, от которых он не поднимется никогда. На смену старой розни Ефрема и Беньямина появляется святая солидарность, обнимающая все разорванные части живущего в изгнании еврейского народа. Рассыпанная каменная храмина Иерусалима вдруг, неслыханным чудом каким-то, по слову рабби Иоханана, чудом острого воздействия на умы и сердца, восстановлена в ином нетленном и всё же реальном виде. И всё наглядно. Сам духовный Сион, сменивший старый материальный и минутный Сион, видим, созерцаем и осязаем везде, в каждом бесгамидрате, на каждом шагу. Синагога оказалась куда величественнее пышного храма Соломона. Весь Синайский свет тут налицо. Вся легенда Моисея стала плотью и кровью новой истории. Наступает царство вечного дня и вечной молитвы. Эту наступившую эпоху, длящуюся и ныне, можно назвать синагогальною или эпохою рабби Иоханана бен Заккая.
Молитвенный дом открыт во всякое время дня и ночи. Ночи он и не знает. Ушли живые, пришли мертвые. Так же как и живые, мертвые творят всю ту же молитву в очередь с живыми. А если в неурочный час заглянет в синагогу живой, то он предварительно заботливо постучит в дверь, не считая дом пустым. Как это великолепно. И как общение с почившими здесь осуществляется полнее, живее и лучше, чем в дуалистической христианской доктрине представительства святых. Все вместе. Все на молитве, – и вся жизнь в молитве. Сон, еда, дело и размышление – всё в пеленах вечного дня и вечного света. Вот он свет без теней. Chiaro без Scuro, истинно иудейское монистическое понимание действительности и правды, в каких бы формах они не представали нашим глазам.
Если с таких высот подойти к творчеству Рембрандта, то пришлось бы сказать, что разве лишь для эпохи габимы и эпохи материального Сиона применима с большими ограничениями его изобразительная светотень. Как только художник, знавший еврейство, как ни один другой художник в мире, касается своею кистью тем высшего порядка, светотень его становится искусственною, а временами и аффективною. Черты моисеева законодательства требуют для своего изображения полностного света во все стороны. Всё, что отдает преданием рабби Иоханана, все эти бабушки и старцы, склоненные над книгами, все эти бесконечные раввины, мыслители и философы, – всё это тоже тяготеет к полному и всестороннему освещению. Когда Леонардо да Винчи, в своём «Trattato della Pittura»[47 - «Трактат о живописи». – Прим. ред.], указал на основные принципы светотени и перспективных окружений, как на зиждительные элементы живописи, он, конечно, имел в виду, скорее внешние эффекты творческого процесса, чем внутреннее существо дела. Для передачи этого внутреннего существа светотень должна быть использована с необыкновенною экономией, особенно если речь идет о картинах с тем или иным библейским содержанием, о сюжетах, схваченных из той или другой полосы еврейской истории.
12 мая 1924 года
Отец
Мы имеем портрет отца Рембрандта в масляных красках и в нескольких офортах, собранных вместе Ровинским. Если присмотреться к чертам этого лица, то можно будет восстановить с большою правдоподобностью внутренний облик, за ним скрывающийся. Отец Рембрандта родился в 1567 году и умер в 1633 году. Мы имеем изображение его, относящееся к 1629 году. Ему было, значит, в то время за шестьдесят лет. Перед нами старец, представленный без бороды, с широким мускулистым лицом, изборожденным мягкими тонкими морщинами. Сетка этих морщин проходит по всему лицу. Лоб высокий, открытый, без следа волос на темени. Во всём лице ощущается какая-то тяжесть. Но под этою тяжестью прочной и крепкой лепки чувствуется большой фонд душевной мягкости и та интеллектуальность, которая отделяет иногда простого еврейского мельника какою-то аристократическою гранью от вульгарного безинтеллектного нидерландского фермера из галлереи Остаде, Теньера, Броуера и других. Это весьма умный человек, с огромным опытом, много живший и много передумавший. При массивности общего впечатления в чертах лица замечается здоровая утонченность, всегда придаваемая общей экспрессии вдумчивой и деятельною мыслью. Есть люди, которые думают широко, бесформенными темами и схемами, стихийными элементами своего сознания. От такого суммарного процесса мышления по душе их в данных очертаниях проплывают настроения общерелигиозного и общефилософского характера. Не таков отец Рембрандта в рассматриваемом изображении из частной парижской коллекции Пауля Миллера. Он устремил глаз своей изнутри в какой-то определенный предмет и апперцептирует его тихо и проникновенно. В сжатых губах, дающих приятно-спокойную линию, заключен еле уловимый намек на улыбку. Подбородок крупный, прекрасно моделированный, с едва намеченным в нижней его части, около шеи, что живою припухлостью без всякой обрюзглости. Скула выдающаяся, образующая впадинную тень на лицо. Глаза смотрят вниз спокойно и тихо. Легким мазком художник наметил редкие брови.
Таково лицо старика в общих его очертаниях. Если закрыть глаза и подумать об этом человеке, не вглядываясь больше в конкретное изображение, мы чувствуем, что в душе нашей осталось впечатление чего-то солидного, импонирующего, чего-то богатого содержанием и наверно остроумного. Расу этого человека трудно определить потому, что лицо представлено без бороды – могучим скелетом, покрытым ещё пульсирующею плотью. Но прибавьте бороду к этим типично еврейским ушам, длинно вытянутым и с приклоненною раковиной, сохраните при этом написанную на картине ермолку на темени, и перед вами окажется уже несомненный еврей, во всей его подлинной характерности. Этот длинный ровный нос, не хамито-ханаанского происхождения, не хеттейский, не ассирийский, а чисто иудейский, достойный еврейского патриарха, этот мягкий наклон головы, без кичливого вызова небу, струнно-музыкальный и ласкательно напевный – всё вместе говорит о том, что в повседневной лейденской толпе человек этот мог казаться пришельцем. Это не мельник Андриана Остаде, дерущийся, пляшущий и ссорящийся при уплате за выпитые бутылки. Такого человека, какой отпечатался в изображении Рембрандта, даже трудно себе представить в дурацкой алькогольной экзальтации. Его подъем светится изнутри, бликами поднявшихся со дна души, играющих интеллектуальных эмоций, ликование его перевито полосками белого света, естественно наклонное к нежному и меланхолическому минору. Вот что это за человек. При простоте профессии голландского мельника, культура в нём ощущается какая-то стародавняя, многовековая и седовласая. От такого именно человека, живого, страстного и вместе с тем вдумчивого и глубокого, мог родиться гениальный Рембрандт. Сына связывали с отцом многие кровнородственные черты: трепет здоровой плоти и вечно вибрирующая духовная струна.
Рембрандт любил видоизменять и наряжать в разные костюмы и головные уборы людей, которых он писал, даже и самого себя. Весьма естественно предположить, что для каких-то своих художнических экспериментов он представил отца своего бритым, тогда как в действительности, как это и видно из некоторых других портретов, почтенный старец носил бороду. Мы имеем несколько бюстовых портретов отца Рембрандта того же 1629 года и ближайших последующих годов, где он написан с усами и бородою, причём на одном из портретов, в шляпе и с пером, усы приподняты кверху для придания лицу дерзкой воинственной отваги. Но все ещё прямой и ровный, без какой-либо горбинки. Но хотя лицо сужено в скулах и украшено острой, кокетливо подстриженной бородкой, не трудно совсем узнать в нём лицо отца Рембрандта. Те же уши, семитического рисунка, та же выразительная черта губ и все тот же, изнутри льющийся духовный колорит интеллектуальности и внимательной апперцептивности. Глаза открыты для волевой фиксации мира. Но в них нет наивной молодости, свежей и голубой восторженности, а дано серое предвечное понимание того, что, может быть, глаза и видели когда-то и где-то. Хотя костюм на этом человеке условный и театральный, хотя лихо развевающееся над головою огромное перо совершенно не гармонирует с настоящим его обликом и сбивает впечатление от него на неверный путь, всё же никакой наряд, никакая бутафория, ни даже изменение в складе лицевых костей не может изгнать совершенно присущего ему основного характера. Это еврей. Портрет с пером, рассмотренный нами, находится в частной коллекции В. Чемберлена, в Брайтоне.
В целом ряде других портретов масляными красками отец Рембрандта выступает перед нами со всеми вышеобозначенными типичными для него чертами. Полуиератическая ермолка повторяется часто. Носу придается иногда чуть заметная горбинка. Усы и борода даны в их естественно растущем виде, без норочитой подстрижки и хитроумной прически, как на портрете с пером. Вдумчивость и душевная жизнь – всё та же: спокойствие в фиксации мира, нарушаемое лишь иногда сиянием подспудной, спрятанной приклоненностью к старым отцам. На портрете бостонского музея, всё того же 1629 года, старик изображен особенно трогательно, с морщинистою рукою, наложенною на груди, поверх отороченного мехом пальто. Ермолки нет, и обнаженная голова, всем своим архитектурно крепким черепом, предстает перед нами во всей своей реальности. Наклон головы отдает веками пережитых страданий. Точно из древнего утеса склонился к нам трепетный стебель горного растения. Всё старо, почти архаично, всё дышит мудрою покорностью. И при этом в общем очертании та неизбывная сладость, которая в моментах самоотрицания производит на нас особенно чарующее впечатление. Когда герои и подвижники иных рас свершают своё служение миру и людям, мужественно шагая через ограды себялюбивого я, от них почти всегда веет суровым и жестким дыханием аскетизма. Но еврейская жертва, как бы ни была она тяжела, лишена всякой трагической помпы. Никакого крика. Никакого церковно-колокольного звона. Никакой брезгливой отрешенности от мира. Евхаристия тут дана в неподчеркнутом преломлении телесного хлеба – хлеба повседневной реальной жизни. И всё реально, сладко и сладостно до безконечности. Точно кто-то с кем-то прощается, проливая восторженные слезы, с утешительным улыбающимся обещанием вернуться в самом скором времени. Такова еврейская истерика диаспоры, которой не заменить ничем на свете. Всё это имеется, всё это чувствуется в таких простых и на взгляд незначительных пустяках: рука положена на грудь как-то особенно тепло и мягко, голова склонилась в бок. Чутко лилейным контрпростным движением, какое не предносилось даже и Леонардо да Винчи – всё видно, всё ощутимо в своей фундаментальной расовой основе.
Имеется ещё несколько портретов отца Рембрандта, считающихся достоверными. В Копенгагене, в Гааге, в Инсбруке отец представлен в знакомых нам чертах, хотя и с некоторыми отличительными оттенками. Разнообразие причудливых костюмов мешает иногда отожествлять лицо с установившимся о нём представлении. Так портрет в Инсбруке дает нам этого человека в довольно пышным и фантастическом наряде. Особенно неестественным представляется его высокий головной убор, многоэтажное какое-то сооружение, частью напоминающее восточный тюрбан. Но черты лица узнаешь довольно легко. Нос с заметною горбинкою, но уши те же, что и на других портретах. В XVIII веке считали этот портрет изображением Филона Александрийского. Но когда сгруппировались все полотна Рембрандта и стали изучаться в своей совокупности, то черты отца художника до такой степени пригляделись, что их без труда различаешь среди множества других лиц. Да и внимание к работам Рембрандта, к его личности и творчеству, со второй половины XIX века, становится всё более и более пристальным и углубленным. Теперь уже мы знаем не только отца, но и братьев его, особенно Андриана, вообще почти всю его семью, весь ближайший круг людей, с которых Рембрандт писал свои картины и портреты. Повсюду отец Рембрандта – одно и то же существо, интеллигентное, с налетом жизненной мудрости, вдумчивое, но покрытое тяжеловесной материальностью. Плоть его суха, тяжка, крепка и физически добротна. Если строить человека только из такой плоти, то он выйдет грубым и прозаичным. Но если пронзить эту плоть духом, то получится существо действительно замечательное, каким, вероятно, и был отец художника.
На гравюре ван Флита, сделанной по красочному оригиналу Рембрандта 1630 года, мы имеем портрет отца за короткий срок до смерти. Всё лицо с потухшими глазами в трепете старческого бессилья. Скулы почти обнажились, щеки [об]висли, подбородок, вся нижняя часть лица, заметно осунулись. Нос опять лишен горбинки. Этою горбинкою, характерною особенностью хеттейско-семитического типа, Рембрандт постоянно оперирует для достижения разных эффектов. Однако, есть ли горбинка, или её нет, всё равно – лицо выдает себя и своё расовое происхождение. Но уши всегда одни и те же: приклоненные, вытянутые, слушающие, всегда настороже, всегда готовые к восприятию, всегда выписанные художником с необыкновенным рвением. И на глазах, открытых и пристальных, постоянно ощущается тонкая завеса стыдливой щепетильности. Расовая еврейская апперцепция иная, чем апперцепция других народностей праарийского корня: не колющая, не оскорбляющая, не раздевающая, не вожделеющая. Вот откуда и новозаветный запрет смотреть на женщину с вожделением, ибо такое созерцание равнозначно совершению настоящего прелюбодеяния в сердце своём. Но можно именно по иудейскому смотреть на женщину, без цинизма, без малейшей похоти, с открыто-закрытыми глазами, с тем теплым человеческим умилением, которое всё обращает в душевную маску. Такой взгляд успокаивает женщину и внушает ей доверие. Вот этот-то взгляд, взгляд разверзшихся очей, подернутых скромностью, почти иератический, какой-то молитвенно-богомольный, с нежными резервами в глубинах своих, мы и ощущаем в портрете отца Рембрандта. Если перефразировать слова Вольтера о боге, то можно сказать, что отец Рембрандта не еврей, [но] его по всей справедливости естественно было бы считать и называть таковым – за один этот взгляд, за одну эту целомудренно скромную апперцепцию, которая никогда не лезет на вас своею иглою.
Переходим ещё к одному портрету в заключение нашего анализа живописного материала об отце. Я имею в виду портрет, находящийся в портретной коллекции Вассермана и считаемый современными исследователями за достоверный.
Портрет замечателен. Это отец Рембрандта в прямоличном изображении. Весь лоб открыт к зрителю. Лицо вылито в законченный овал, борода и уши намечены верными штрихами. Линии губ сомкнуты между собою жестко, кричаще и почти трагически. Вообще по всему лицу проносится какая-то дикая экспрессия, близкая к состоянию некоторой исступленности. Мудрому человеку свойственно подавлять в себе тигра инстинктов. Он знает страсти, но умеет ими управлять, умеет от них эмансипироваться. Но иногда довольно какого-нибудь чрезвычайного повода, чтобы лик мудрости убежал, регулирующий аппарат расстроился, и чтобы перед нами оказался настоящий тигр. Тигр мудрого человека свирепее всех иных тигров. Если представить Сократа, лишившегося внезапно даров своей духовной гениальности, что за ужасный зверь предстал бы перед нами. Природа ревет в таком человеке всеми своими голосами, но голоса эти не слышны только потому, что их загнали в темноту иные высшие инстинкты. Возвращаясь к портрету Рембрандта, надо сказать, что художником тут схвачен один из характернейших моментов в биологии целой расы. Нет ничего ужаснее еврейского базара. Невыносим еврейский крик во время несчастья. Вы всем сердцем тут, вместе со страдающими людьми. Но вы в то же время отвращаетесь от разоблачившегося облика иной, звериной, прежде побежденной природы. Толпы мудрецов, с которых совлечена мудрость, просто отвратительны. Эти покрытые конвульсиями лица, эти исступленные жесты, эти сверлящие визги, бесстыдно оглашающие воздух – всё это, вместе взятое, производит отталкивающее впечатление. Дальнее подобие такого явления мы замечаем в лице отца Рембрандта на указанном парижском портрете. Глаза страшно открыты и вперены в даль бесконечных пространств.
Среди офортов Рембрандта, полностью собранных Ровинским, мы имеем почти все главные подобия уже знакомого нам облика. Здесь имеются портреты отца, как фантастического, так и реальные, во все главных вариантах.
Интимная игла офорта дает полный простор художнику при воплощении им некоторых семитических черт. Целый ряд графических портретов поражает совершенно еврейским видом лиц. Чего стоит одна эта продольная морщинка, от носа к губам и даже к подбородку, проведенная Рембрандтом на дисках или в разных состояниях одной и той же доски. Тут же мы имеем чудесные офорты профильных категорий, но повторенных ни в каких картинках. Некоторые из них представлены в многочисленных этапах офортной ретуши. Голова отца изучена во всех положениях и склонениях. В общем же его графическая иконография не дает новых материалов для нашего анализа в данном направлении. Подчеркнут семитический характер лица, но и только. Наконец, в заключение, отметим три портрета, из которых один в масляных красках – трагический, из коллекции Вассермана – нами только что изучен. Все эти три портрета, обычно помещаемые в сборниках рядом, Вольфганг Зингер считает образными копиями гравюр Ливена, из его серии восточных голов, причём Зингер допускает, что игла Рембрандта всё же прошлась по этим офортам. Это замечание исследователя ни в чём не меняет высказанных нами соображений.
Расставаясь на некоторое время с отцом Рембрандта, упомянем вскользь, что имя его Гармене не имеет в себе, по-видимому, ничего еврейского. Но при крещении имена постоянно менялись, причём обычно новое имя бралось из местных христианских словарей. Именно же Ровинского [То есть мнение. – Прим. ред), ничем не подкрепленное, о том, что «прозвище» Рембрандт относится к числу довольно распространенных в Голландии, не подтверждается ни расспросами, ни многочисленными справками, собранными мною на месте.
14 мая 1924 года
Мать
Изображение матери Рембрандта представляет собою явление исключительной важности. Мы имеем здесь ярко и проникновенно выраженный тип еврейской женщины, той фазы её развития, которую можно отнести в установленных нами общих подразделениях, к периоду духовного Сиона. Если относительно отца Рембрандта, Гарменса, ещё могут существовать какие-нибудь сомнения, то здесь всякие колебания покидают внимательный взор. При всей своей духовности Гармене хранит в себе и черты габимы: налет голландской культуры XVII века на нём весьма ощутителен. Потому-то Рембрандт и пользовался обликом отца при изображении разных светских фигур с самими фантастическими нарядами эпохи, никогда однако не вдаваясь при этом в карикатуру или невозможный шарж. Под наслоениями габимы всё же сквозит дух первородной, основной, семитической сущности. Но женщины еврейские консервативнее мужчин, и в облике матери Рембрандта мы уже не видим никаких черт местной ассимиляции, видоизменяющей первоначальную чистую индивидуальность.
Что такое еврейская женщина? Прежде всего, в биологическом отношении, это всегда и повсюду, во всех перипетиях жизни, потенциальная мать. Она может быть невестой, супругой и матерью, но не вольной подругой каких-нибудь романтических кутежей и увеселений. Следуя своему естеству, по прямой линии, без уклонений в сторону, она настраивает свои тонкие нежные струны на вечный лад будущих семейных волнений и радостей. Отсюда такая узкоколейность и элементарность её душевной жизни, на ранних ступенях её физического роста. Эротика её не похожа на романтику. Нет капризной разбросанности и безответственной игривости, нет пылающих огней, обегающих всё кругом, как это мы видим у столь многих арийских женщин. У этих последних женщин всё дано в прихотливых сочетаниях, всё пенится забавою минуты, и цель так же мало выражена в шаловливой романтике, как мало она ощущается в душе милой сильфиды. У еврейской же девушки всё серьезно, чревато будущими заботами, почти торжественно и высоко человечно в своём напряжении, в своём фатальном жертвоносном стремлении к единой существенной цели. Самое явление невесты было бы затеряно в человечестве, не будь на свете еврейской женщины. С ранних, почти детских лет своих она несет всегда эту целомудренную точечку будущего долга. И всё около этой именно точечки, в личной её биографии, свивается, закручивается и накапливается слой за слоем. Смеется такая девушка по-особенному. В голосе её звучит призывный колокольчик, а смущенное лицо заливается пламенем нежного и многозначительного румянца. Слезы у неё какие-то болевые, тяжеловесные, точно выливающиеся из той самой ткани, которой предназначено сломиться и разорваться и которой в эти именно секунды уже дано ощущение будущей катастрофы. Еврейская девушка всех типов, на духовном Сионе, как и в недрах культурной габимы, плачет долго, упрямо, с захватом всей её сущности, с такою цельною трагичностью, какой не встретить ни в каком другом народе. Вся душа в слезах, всё проплакано до мокроты, всё собрано в стихийном бурлящем маленьком водовороте. Вся миссия еврейской девушки располагается по пути тревожно заботливой и потенциально материнской отчаянной слезы. Вот где родилась идея Мадонны. Идеи этой нельзя сочинить. Её пришлось взять прямо из еврейского источника. Разлагаясь в условиях чуждого быта, испачканного страстью, распутными вдыханиями и всяческими исступлениями то в стиле Ваала, то в стиле Диониса, идея Мадонны всё же, даже в обломках своих, сохранила и продолжает сохранять до сих пор для европейских народов свое благотворное значение. Но длинные века христианской культуры, с её профанными высотами, с её ипокритной религией, и выставочной эстетикой, показали нам, что идея эта тут не на своей родной почве. Иудейская точечка где-то горит в миазмах болотного разложения, светится где-то в туманах теоретического богомышления. Но в жизни, какова она есть – плотской, грубой, насильнической даже в своих эротических подъемах, – её всё-таки нет. Жизнь протекает мимо этой точки в устроенном к иным берегам потоке. Но еврейская девушка, именно такая, какою мы её видим в реальности, с её постоянными вздохами, родильная мечтаниями и слезами в кредит неизбежных будущих несчастий, являет нам тип настоящей подлинной мадонны, перед которой бледнеют даже великолепные живописные подобия на эту тему Рафаэля. И черты мадонны эта девушка сохраняет до конца своей жизни, в глубочайшей своей старости.
Старая еврейская женщина это уже просто воплощённая слеза. Она вся – вздох, вся – молитва сердца, вся – сокрушение о пройденном пути и благоговейная сосредоточенность в интересах сегодняшнего дня. Её морщинистое лицо напоминает складки патетической гармоники, углубляющиеся по мере того, как она умолкает в руках играющего. В расцвете жизни и песнопенья, она втянута гладко и ровно: звук её чист, высок и звонок. Но на пути к умолканью складки собираются вместе, в плотном содружестве, как морщины на лице. Гармоника всё тише и тише, всё меланхоличнее и меланхоличнее, поет свою прощальную песню. Эти семитические гармоники можно любить до самозабвения – так хороша смерть в тихо умирающей музыке, среди тончайших звуковых вознесений, а не в катастрофическом падении в черную бездну. Это тоже одно из величайших созданий семитического гения: старуха-благая, теплая, понимающая и помнящая, хранящая в глубинах своих заветы Синая и наставляющая в них растущую юность. И такая она опрятная, юмористически игривая, с девчонской улыбкой на слабеющих устах, с нежно-худою кистью, в которой каждый палец – всё та же поющая струна. Как умеет еврейская старушка смотреть вам в глаза восхищенно и слезно, как умеет провести она ласковой рукой по вашим волосам – поцелуйным прикосновением, в котором ощущается молитвенная какая-то бенедикция!
Обратимся к матери Рембрандта. Целый ряд картин и офортов дает нам её лицо во всевозможных положениях и с такою отчетливостью, что оно становится вам совершено родным. Мы знаем эту женщину насквозь. Впервые мы встречаемся с ней в упомянутой выше картине 1628 года «Симеон-богоприимец». Хотя картина эта стилизована в итальянском духе, всё же характер матери Рембрандта уже намечен в существенных чертах. Тут вся патетичность умирающей гармоники. Но общая концепция картины неизбежно видоизменяет портретные детали, которые сейчас нам особенно нужны. Впервые мы видим её полностью в портрете 1629 года, находящемся в частном музее, со всеми её типичными особенностями еврейской женщины эпохи духовного Сиона. Это, несомненно, еврейская женщина, в чистом её виде, без примеси какой бы то ни было габимы, еврейская старушка. Лицо, его выражение, минорная экспрессия глаз, чутко сдержанный наклон головы, с покровом парика, всё отдает семитизмом. В полураскрытых губах, представляющих разительный контраст к губам Гарменса, слышится дыхание любвеобильного, но истомленного бурями жизни благородного сердца. Нет в них упрека – упрек так увлажнен слезою, что давно потерял свою горечь и остроту, обратившись, скорее, в попечительно-думную ласку. Нос мягкий и длинный, с проникшими крылышками, в одной из складочек лицевой гармоники. Глаза тихие-тихие. Лоб весь открыт и белеет своим большим световым пространством. Портрет представлен в яркой светотени, прекрасно отобразившей характер этой женщины со светлой психологией её негабимного существа. Вот настоящая старуха, в прошлом – мадонна, которая живет в ней неумирающей монадой. Белизна лица её как бы вырастает из белоснежной полоски воротника. Старуха не в будничном облачении, а в праздничном – субботнем костюме – молодая и вечная в одно и то же время.
15 мая 1924 года
Мы имеем несколько портретов матери, относящихся к тем же первым годам деятельности Рембрандта в Амстердаме. В 1630–1631 годах он пишет её всё в тех же значительных и глубокомысленных чертах. В лондонском портрете из частной коллекции Дональдсона она представлена с большим композиционным расчетом на эффект светотени. Темный, почти черный покров над головой широко распахнулся, обнимая равномерно со всех сторон ярко освещенное лицо, опять как бы вырастающие из светлого источника внизу, у шеи. Рот полуоткрыт. Гармоника кажется особенно дряхлою и глаза неопределенно померкли. Мать что-то видит перед собою, не отчетливо, скорее внутренним, чем внешним зрением. Что это еврейка эпохи чистого иудаизма – не подлежит никакому сомнению. Вся экспрессия насквозь проникновенно сентиментальная, нежно и тихо замирающая.
На другом виндзорском портрете мы имеем то же лицо, но как бы в более узком масштабе, с сомкнутыми губами, в так же распахнувшемся покрывале, почти сливающимся с общим темным фоном картины. Местами покров прорезывают белесоватые полоски. Но по прежнему лицо в световом отношении резко выделено, в контраст всему окружающему. Источник света не виден и не понятен. Как мы уже отмечали, лицо светится изнутри, как бы фосфоресцирует. Оно задумчиво, но глаза открыты, устремленность их определилась в общее выражение, при сжатом рисунке, вполне жизненное. В предыдущем портрете мы имеем, скорее, какую-то химеру. Тут же лицо довольно реалистично, как и на последующем по времени портрете, изображающем мать в чтении, за большим фолиантом. Обозначение на репродукции этой картины, столь простой и ясной в своей теме, относит почему-то изображение к категории библейских картин: это «пророчица Анна», читающая книгу. А между тем никаких атрибутов священного писания мы здесь не имеем. Единственным символом, выраженным светотенью, является яркая белизна книги. Из книги для еврея лучится свет. Представлена не пророчица, не сивилла, вообще, не существо из области иератической мифологии, а живая, реальная мать, со всеми знакомыми нам чертами, но всё более и более дряхлеющая, за делом, которое в субботний день весьма и весьма свойственно старой еврейской женщине. Она раскрывает молитвенник и углубляется в чтение. Она читает про себя, не вслух, не качая спины, без какой бы то ни было внешней экспансивности, читает иногда по складам, не понимая текста, но всегда и неизбежно с умиленным восхищением от всего написанного. Она знает, что это нечто священное, и гармоника ее лица растягивается и углаживается от внутреннего полетного согласования с музыкой света. Книга, находящаяся перед нею, спасительница еврейского народа, и старая женщина пиэтетно захватывает каждую страницу и бережно её переворачивает. Она у себя дома, отнюдь не в синагоге. Никакого истолкователя здесь нет перед нею. У католиков, у православных благочестивые люди редко читают священные книги. Они слушают их чтение в храме, в особой ритуальной обстановке, при посредничестве людей, осененных магической благодарностью. Только протестанты разрешают себе иногда чтение библии на дому, при том обычно вслух, главою семьи. Но в еврейской семье индивидуальное чтение, без иератической помпы, есть альфа и омега всякого благочестья, на дому, вне дома, даже в синагоге. Дом молитвы для еврея – это дом чтения. Чтение повсюду, во всех положениях, на ходу, в пути, в паузах ожидания – иногда устное, на память, иногда по молитвеннику, носимому при себе. Так и тут, в данном случае: мать Рембрандта уперлась глазами в раскрытую книгу, по строчкам которой она мягко ковыляет взглядом, помогая себе пальцами руки, спускающимися всё ниже и ниже. Мы не знаем, была ли мать Рембрандта искусна в чтении книг, но что она вкладывала в этот процесс всю свойственную ей сердечную музыку, в этом нет никакого сомнения. И судя по наряду, чистому и слегка торжественному, мы смело можем сказать, что Рембрандт представляет нам её за обычным делом в субботний день.
Мы имеем несколько офортов 1628 и 1631 года, в разных оттисках изменяемых мастером. Соответствующих этим доскам картин мы не знаем. Офорты эти замечательны во всех отношениях, если исключить при этом один офорт, представляющий ту же сидящую фигуру, с лицом обращенным влево. Этот последний офорт является обратною копией, с некоторыми видоизменениями, с превосходного оригинала Рембрандта. Как замечателен этот оригинал, имеющийся в нескольких интереснейших вариантах! Едва ощутимые детали различия придают каждому офорту своеобразную значительность. В двух основных офортах руки сложены между собою спокойно, мягко, с прикрытием левой, слегка-слегка согнутой кисти вытянутою правою ладонью. Так всё спокойно, так всё уравновешенно, и так художественно гармонично! Офортная игла тонко наметила ласковую дружбу двух старых рук, связанных между собою сотрудничеством целой жизни. При взгляде на этот офорт со стороны и издали, на коленях чудится лежащая книга, и следует признать, что вся пока как бы создана для изображения молитвенно задумчивого над книгою созерцания. И перед нами, несомненно, момент субботней светлой сосредоточенности, в глубоком вдыхании благочестивой души. Рот закрыт. Голова откинута слегка назад, но без малейшей спеси, запрещаемой молитвенником. Наряд торжественно-праздничный. Из-под головного покрова выбиваются довольно большими хлопьями пряди седых волос. На трех оттисках другого офорта, изучаемых сейчас по альбомам Ровинского, положение рук представлено уже иначе. Левая кисть приложена слегка согнутыми пальцами к груди. Она не спит и как бы сдерживает что-то, какую-нибудь бегущую складку одежды. Правая кисть опустилась на колено и лежит совершенно спокойно, опираясь полукругом на ручку кресла. Наряд изменен в восточном стиле, стиль, подходящий к еврейским лицам, с широкой фатой, спустившейся с головы. Большой открытый лоб смотрит в профиль. Глаза едва намечены и полузакрыты. Накидка богатая и меховая, то темная, то светлая, смотря по оттиску гравюры. Это, несомненно – мать Рембрандта, одна и та же на всех досках и на всех листах. Если спросить себя, что собственно выражает эта поза и это лицо, то вы должны будете признать, что перед нами гениально точное изображение религиозной настроенности именно в строго-реальном семитическом духе. Никаких фиоритур и никакого ипокритства, которые резко бросаются в глаза в христианских изображениях итальянских и иных образцов. Когда Франчма дает нам образ св. Цецилии, он берет обыкновенное итальянское лицо и покрывает его ипокритной маской. Я употребляю слово ипокрит, конечно, не в смысле лицемерия, а в античном значении, в духе древнегреческой филологии: закрывается нечто личное и открывается лицо мифологическое. Рафаэль хватает облики из уличной толпы мужчин и женщин, иногда довольно дешевого разбора. То же делают Ватто и Буше с Фрагонаром. Мурильо и Эль Греко то и дело вырывают с мясом и кровью целые клочки из окружающего быта, со всею их солнечной прожженностью, возводя потом всю эту красочную механику в перлы преображенных художественных созданий. Но на всех этих созданиях опять-таки лежит маска ипокритной идеализации. Здесь же у Рембрандта – ничего подобного. Благочестивая женщина представлена во всей своей реальной конкретности. Тут самая плоть религиозная, субботняя и вместе с тем не оторванная – ни на штрих, ни на секунду – от мира живых и живущих вещей. Такою именно мать Рембрандта и была в самой действительности. Присочиненного здесь нет ничего.
Имеется несколько бюстных изображений старой женщины, иными своими чертами напоминающей мать Рембрандта. Черты сходны между собою, но иногда они кажутся слишком плотными и массивными, и в них проблескивает иная психология. Три маленьких головы этюдного характера, относимых Ровинским к 1633 году, не возбуждают никаких сомнений. Это всё та же женщина, с теми самыми чертами, которые мы уже рассмотрели. Но бюст старой женщины, оторвавшейся от чтения и заложившей правую руку под одеждой на груди, контрастный с тремя такими же бюстами, но с молодыми лицами, вызывает уже довольно большие сомнения. Тут лицо матери с упрощенно мясистыми чертами, просто типичной старухи. Гармоника не играет. Поэзии куда меньше, чем в рассмотренных нами офортах. Офортная мгла Рембрандта чудодейственна только в полноте своей работы. Если хоть одну черточку исказить в его произведении, что-нибудь огрубить, что-нибудь слишком умягчить, что-нибудь утрированно переосветить, и вся магия его искусства сейчас же исчезнет. В каждой магии есть своя щепетильность, свои секреты и свои законы, ускользающие от непосвященных.