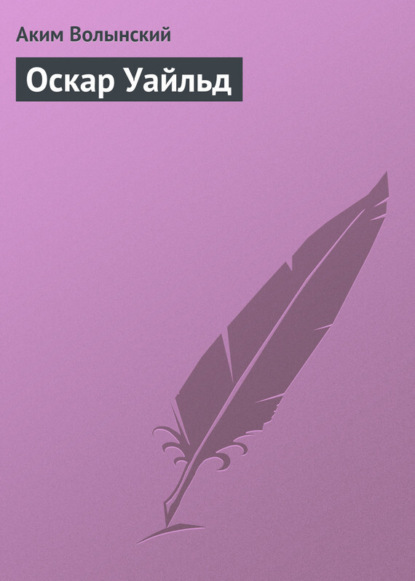 Полная версия
Полная версияОскар Уайльд

Аким Волынский
Оскар Уайльд
Новые веяния, овладевающие европейскою литературою, дают себя чувствовать не в одной какой-нибудь её области, не в искусстве только, но и в критике. Там, где еще недавно господствовали иные идеалы и методы, теперь легко услышать рассуждения другого типа, с более, или менее яркою окраскою эстетического идеализма, который на наших глазах прокладывает себе дорогу во все сферы мышления и творчества. Произведения искусства отражают тот переворот, который совершается в мире наших сознательных убеждений и, как-бы ни были несовершенны дарования людей, выступающих пионерами, как-бы ни были незаконченны, туманны и сбивчивы их общие философские понятия, творчество этих людей заключает в себе элементы развития по сравнению с творчеством отживающей натуралистической эпохи. Новые идеи о самой задаче искусства, новые и более широкие стремления в практической области, которые рано или поздно должны расшатать старые, буржуазные устои жизни, обновление нравственных понятий свежими протестантскими течениями мысли – все это обещает в будущем яркий расцвет литературы в духе чистейшего философского идеализма. Еще связаны те бессознательные творческие силы, которые должны осуществить задачу, выдвигаемую настоящею историческою эпохою, еще не созрели те таланты, которые на живых, художественных примерах, в образах прозрачных и тонких, как свеч возвышенной идеи, окончательно приведут в ясность глухие, бесформенные брожения современных умов. Но не подлежит сомнению, что начавшееся эстетическое движение, захватывающее самые разнородные настроения и жизненные потребности, не замыкающееся ни в каком специальном кругу известной, партийной программы, должно вызвать подъем поэтических дарований и направить их по такому пути, где откроется настоящий простор художественной фантазии и вдохновению. Всякая прогрессивная перемена сознательных критериев не может остаться без влияния на творящие силы общества. По мере того, как философские понятия очищаются от грубой догматики материалистического или официально-спиритуалистического характера, свободнее проходит в искусство правда, скрытая в бессознательных глубинах человеческого духа. Искусство медленно, но верным шагом пробирается к своему назначению: передать все человеческие впечатления, т. е. жизнь во всем богатстве её содержания, в свете той истины, которую мы – неведомо и незаметно для самих себя – способны постичь внутренним инстинктом нашей идеальной природы, но которая подавляется в нас разными ошибочными убеждениями и понятиями рассудка. Вместе с сознанием светлеет искусство. Вместе с развитием и распространением в обществе философских идей идеалистического типа, развиваются новые требования по отношению к искусству, создаются новые эстетические мерила, новые приемы анализа, новая критика.
На одном явлении из области новейшей философской критики, известном в России только по наслышке, мы хотим на этот раз остановиться, чтобы, дав его краткую характеристику, рассмотреть на нем некоторые вопросы, возбуждающие умственное брожение современной интеллигенции. Несколько лет тому назад в Лондоне появилась небольшая книжка под названием «intentions», заключающая в себе четыре статьи: «Падение лжи», «Перо, карандаш и яд», «Критик как артист» и «Правдивость масок». Большинство этих статей написано в диалогической форме с холодным блеском изысканно дилетантского, парадоксального дарования. В короткое время имя Оскара Уайльда стало произноситься в разнообразных кругах лондонского общества, а его рискованные, пикантные афоризмы распространялись среди разочарованных героев аристократической богемы, как выражение самого тонкого и оригинального художественного вкуса. Его манеры, смелые и претенциозные, его изящный костюм старого стиля из роскошных тканей, ласкавших его болезненно раздраженные нервы и совершенно не гармонировавших с прозаической обстановкой лондонской жизни, – все придавало его образу какое-то новаторски-декадентское обаяние в глазах толпы, жадной ко всяким зрелищам в литературе и жизни. С самого начала его имя стало окружаться скандальной легендой. В суматохе политических треволнений, среди общей умственной озабоченности, деловых операций и научных изысканий, фигура неумеренного, изнеженного эстетика не могла не производить самого странного загадочно-притягательного впечатления. Баловень судьбы, аристократ по умственным привычкам, Оскар Уайльд быстро шел к яркому литературному успеху. Как вдруг жизнь его, блестящая снаружи, но таившая в себе внутренние язвы, разыгралась в гнетущую драму с отвратительным уголовным финалом. Те самые руки, которые до сих пор с сладострастным наслаждением скользили по атласу его эксцентричного одеяния, теперь принуждены производить грубую работу с мучительным однообразием сурового тюремного режима. И странно сказать – эти две полосы его жизни, так резко противоречащие друг другу, имеют в себе нечто общее: его аристократические радости были так-же бесплодны, так-же оторваны от творческого процесса истории, как и его монотонный, изнуряющий душу труд, предписанный ему в возмездие за нарушение общественной морали.
Мы остановимся преимущественно только на одной из статей Оскара Уайльда, в которой автор передал нам свои эстетические воззрения. В статье этой, представляющей протест против всякого реализма в литературе во имя бесцельной поэтической «лжи», обрисовались важнейшие его понятия, выраженные, однако, без необходимых логических доказательств и пояснений. Между отдельными сентенциями нет связующих рассуждений. Верные мысли, не соединенные с какою-либо определенною философскою системою, но облеченные в форму едких, дразнящих афоризмов, производят впечатление беспорядочного собрания артистически сделанных драгоценных безделушек. Диалоги, в которых автор развертывает свои мнения, носят характер полухудожественных излияний с оттенком то местного британского сплина, то общеевропейской современной тоски на утонченной психологической подкладке. Обмен взглядов происходит между двумя лицами, из которых одно только задает вопросы, иногда проникнутые недоумением по отношению к смелым парадоксам, отражающим воззрения самого автора, иногда как-бы служащие к возбуждению новых признаний своего остроумного собеседника.
Все главные мысли вращаются около одной темы: в каких отношениях находятся между собою природа и искусство, жизнь и творчество? Оскар Уайльд с первых-же страниц заявляет себя убежденным сторонником самого свободного искусства. Все реальное в обычном смысле слова вызывает в нем злую усмешку, а иногда и открытое презрение. Он сторонник того, что невидимо чувственному глазу, того, что не су шествует в области нашего житейского опыта, но что само заключает в себе силу, творящую разные формы исторической действительности. Лучшие художники никогда не были реалистами. никогда не следовали за жизнью, но в своих произведениях всегда бросали идеи, мысли, которые, перелившись в общество, создавали в нем новые настроения, возбуждали и направляли известные умственные течения. Отрицая всякую действительность, как силу мертвую, пассивную, Оскар Уайльд противопоставлял ей силу вымысла, силу фантазии, которую, он, при своей склонности к рискованным эксцентрическим терминам, называет ложью. Эта ложь, говорит он, очаровывает, восхищает, дает удовольствие. Это единственный вид лжи, стоящий выше порицания, потому что ложь в искусстве – практически бесцельна, имея при этом высокую эстетическую задачу. Сотканная из высших поэтических идей, она является тою цветною средою, через которую должно пройти всякое восприятие природы, всякое жизненное впечатление. Не только люди подражают тому новому, что находит свое законченное выражение в искусстве, но и сама природа подражает тем новым краскам, которыми талантливые живописцы передают ее на своих холстах. Откуда, если не от импрессионистов, спрашивает Уайльд, взялись эти удивительные коричневые туманы, которые расстилаются по лондонским улицам, заволакивая газовые фонари и превращая дома в какие-то чудовищные тени? Кому, как не им, мы обязаны этой серебристой мглою, которая стелется над нашей рекой и придает томительную грацию изгибу моста и покачивающимся судам? Необыкновенная перемена, происшедшая за последние десять лет в климате Лондона, находится всецело в зависимости от известной школы искусства. «Вы улыбаетесь, говорит выразитель авторских идей в диалоге. Но рассмотрите предмет с научной или метафизической точки зрения и вы убедитесь, что я прав. Что такое, в самом деле, природа? Природа не есть та великая мать, которая родила нас. Нет, она сама есть наше создание. Она оживает только в нашем мозгу. Предметы существуют потому, что мы их видим. Они существуют такими, какими мы их видим, а то, какими они нам кажутся, зависит от искусств, влияющих на нас своими идеями. Смотреть на предмет не значит еще видеть его. Мы начинаем видеть вещи только с того момента, когда мы начинаем различать их красоту». К этим общим рассуждениям о взаимных отношениях между природой и искусством, опирающимся на новейшую науку и метафизику, Оскар Уайльд присоединяет еще один тезис, занимающий в его мировоззрении чрезвычайно важное место. Искусство, не следующее за природою, так сказать, законодательствующее над всеми формами жизни, искусство, чуждое всяких утилитарных соображений, это искусство не выражает ничего, кроме самого себя. «Вот принцип моей новой эстетики», заявляет Оскар Уайльд. Конечно, народы и отдельные люди, с их здоровой естественной суетностью, которая есть секрет всякого существования, полагают, будто музы говорят именно о них, и потому стараются в спокойном благородстве художественной фантазии найти отражение их взбаламученных страстей, упуская при этом из виду, что певец жизни не Аполлон, а Марс. Чуждаясь всякой действительности, отвращаясь и от замогильных теней, искусство обнаруживает ему одному свойственное совершенство, и изумленная толпа воображает, что чудесные откровения многолиственной поэтической фантазии есть история её собственного духа в новых формах. Но это не так. Истинное искусство отбрасывает тяготу людской психологии и выигрывает более от создания собственных сюжетов, чем от энтузиазма черни, чем от всех этих возвышенных страстей или от переворотов в сфере человеческого сознания. «Искусство развивается исключительно по своим собственным законам. Оно не есть символ никакого века. Века суть его собственные символы». Две вещи, которых постоянно должен избегать истинный артист – это современность формы и современность замысла. Для нас, живущих в девятнадцатом столетии, всякое столетие представляет подходящий материал для творчества, кроме нашего собственного. Единственно красивые предметы – те, которые не задевают наших интересов. Именно потому, что Гекуба – ничто для нас, её печали являются превосходным мотивом для трагедии. Все современное очень скоро становится старомодным.
Вот два новых положения в эстетике Оскара Уайльда: во-первых, искусство не следует за природою, ничего не заимствует из жизни людей, во-вторых, искусство, верное своим самостоятельным законам, не должно быть и не может быть символичным. При изложении первого из этих тезисов Оскар Уайльд сделал, как мы видели, ссылку на новейшую науку и метафизику. В самом деле, в этих мыслях – несмотря, с одной стороны, на излишество в реакции против всякого реализма, и с другой стороны – на ограниченность и узкость в понимании жизненных процессов, есть некоторая философская правда, просвечивающая сквозь парадоксальную форму. Природа, как мы ее знаем, во всем разнообразии её проявлений, существует не вне нас, а в наших собственных ощущениях, перерабатывающихся в представления, образы и цельные умственные картины. Каждая перемена в области наших идей, самая незначительная реформа в сфере нашего сознания, известным образом должны отразиться на содержании и характере этих ощущений, – на том, что мы именуем, на языке повседневного опыта, нашим восприятием природы. По мере развития наших понятий, утончается созерцание природы. Поле чувственного зрения обогащается новыми оттенками. Краски природы согреваются нашими чувствами и страстями и как-бы сливаются с отдельными актами нашей душевной жизни. Природа раскрывается и развивается вместе с усложнением и усовершенствованием наших познавательных и умственных сил. Можно сказать, что каждый оригинальный художник видит природу в новом свете, видит в ней то, чего не видят другие и, рисуя ее красками собственного воображения, приучает нервных и тонких людей переносить эти краски в живое восприятие внешних картин. Усматривая в лондонском тумане новый цветовой оттенок, недоступный прежним наблюдателям, талантливый художник вызывает прогрессивное изменение в чувственном горизонте лондонского жителя, казавшемся окончательно недоступным каким-либо переворотам. Чуткие, легко вибрирующие художественные натуры раньше других дают отклик на духовные веяния, еще не начавшиеся в жизни, но уже прорвавшиеся из каких-то неведомых глубин в той области, где идет напряженная, вдохновенная работа научно-философской мысли. Омывая живою водою, почерпнутою из источника чистого мышления, материалы житейского опыта, художники и поэты преображают их, сообщают им новый смысл и таким образом, в свою очередь, делают из них источник новых умственных восприятий. Искусство, с постоянным расширением своих эстетических горизонтов и средств художественной переработки впечатлений, является одним из самых могущественных посредников между отвлеченными истинами науки и философии и толпою, которая отрезана от этих истин неразвитостью своего духовного сознания. Как это ни странно сказать, – холодная, бесстрастная наука, живущая бесплотными идеями, вливаясь в прекрасные формы искусства, становится достоянием масс – темных, но всегда жаждущих света.
Исходя, как мы показали выше, из верных научных оснований в своих рассуждениях о преобладании искусства над природою, Оскар Уайльд не сумел сделать из них всех тех выводов, которые слипают всякий творческий процесс с бессознательным источником духовной жизни. В его дилетантском изображении искусство, оторвавшееся от грубо-догматического реализма, в то-же время теряет свою внутреннюю связь с миром возвышенных идей, с миром метафизической истины. Искусство не должно быть символично, говорит этот болезненно-эксцентричный рыцарь беспредметной эстетики. Искусство не должно быть символичным – это значит, что, отрешившись от обманчивых иллюзий житейского опыта, оно не должно заимствовать своего содержания, своих настроений, своих замыслов из тех духовных глубин, в которых личность неразрывно связана с бесконечным и из которых рождается её поэтический, творческий экстаз. Искусство не должно быть символичным – это значить, что выйдя на светлый путь критического идеализма, оно должно превратиться в бесплодную, бесцельную, ничего не значащую игру пустого воображения. Отрицая, как предмет художественной обработки, и энтузиазм массовых движений и даже вообще всякую человеческую психологию, Оскар Уайльд отнимает у искусства тот предмет, те материалы, которые составляют неизбежный элемент в артистическом созерцании художника и к которым прилагается его творческая деятельность. Символичность искусства есть ясность, прозрачность его образов, открывающая доступ нашему умственному взору в мир свободных идей науки и метафизики, и на известной стадии человеческого просветления искусство не может не быть символичным. Темнота и непроницаемость изображения – неспособность его передавать идеи высшего порядка – есть только показатель низкой умственной культуры поэта. В свете разума, чистого от обманов и ошибок эмпирических представлений, каждый образ приобретает свой настоящий смысл, свое настоящее место в общей мировой системе и потому неизбежно становится тонким, прозрачным, символичным.
Мы отметили существенные пункты в незаконченном, сбивчивом мировоззрении Оскара Уайльда, выразившиеся в его статье «The decay of lying». Другие статьи его, о которых мы упоминали выше, его рассуждения о задачах критики, об «антиморальном» характере всякого искусства, являются приложением и разработкой – в той-же афористической и парадоксальной форме – рассмотренных нами эстетических тезисов. Романист и даже драматург с яркими красками и сладострастными настроениями, Оскар Уайльд делает иногда интересные и меткия замечания по разным теоретическим вопросам литературы Статьи его о задачах артистической критики отличаются мастерством изложения и моментами открывают какие-то просветы к самому центру творческого процесса. Отдельные изречения его кажутся как-бы выхваченными из более широкой и глубокой философской системы, но в общем даже эти диалоги о критике носят на себе печать какой-то роковой бесплодности эстетических мыслей, оторванных от питающих корней последовательного идеализма. Легко и самоуверенно переходя от предмета к предмету, Оскар Уайльд задевает по пути и вопросы этического характера, но, отвернувшись от возвышенных загадок мира, он не мог и здесь сказать ничего особенно существенного и серьезного. Его игра «антиморальными» парадоксами не отличается даже самостоятельностью мысли. Его оппозиция общественным нравам по смыслу своему имеет нечто общее с своеобразным протестантством Фридриха Ницше, но социальная критика Оскара Уайльда, раздражительная и несколько бессильная, скользит по поверхности предмета, тогда как борьба Ницше, с самого начала его литературной карьеры, идет путем научных обобщений и философских выводов.
А. Волынский.«Северный Вестник», № 12, 1895
