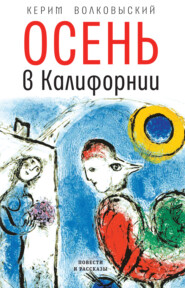скачать книгу бесплатно
Осень в Калифорнии
Керим Львович Волковыский
О времена!
Ранее заявивший о себе как о поэте и переводчике, Керим Волковыский не так давно обратился к прозе и в качестве дебюта рискнул предложить «любовное чтиво», в основе которого лежит воскрешение в памяти прожитого и пережитого. С исповедальной откровенностью автор говорит о любви, подчас неясной, противоречивой, мучительной, но всегда прекрасной. Волковыский уехал из Советского Союза в тридцать лет, много путешествовал по Европе и миру, этим объясняется и разнообразие мест действия, и многоликость героев в его прозе, но есть общее, что свойственно всем произведениям автора, – необычайная симпатия, с которой он описывает и профессорского сынка Селима Дворкина, занесенного судьбой из Перми шестидесятых годов в сегодняшнюю Швейцарию, и самоуверенного французского политика, разрушившего свою карьеру из-за случайной связи с горничной, и удивительную Розали Кац из Сан-Франциско, полюбившую грузинского юношу.
Керим Волковыский
Осень в Калифорнии
© Керим Волковыский, 2022
© «Время», 2022
* * *
Несколько слов о Кериме Волковыском
Имя Керима Волковыского – поэта, переводчика и прозаика, практически неизвестно широкому читателю, но зато его прекрасно знают знатоки русской литературы, филологи и академическая профессура… Еще бы! Кериму принадлежит самый яркий дебют в истории русской поэзии конца ХХ века. Его ранние стихи, которые тогда еще школьник из Перми послал Белле Ахмадулиной, настолько изумили ее совершенством, что она ответила не письмом, а стихотворением «Голос», в котором признавала превосходство школяра над собой. Позже они познакомились лично. Эта история наделала много шума в провинции, и однажды я сам (мы с Керимом земляки, короткое время жили рядом, ходили по одним и тем же улицам в Перми, но не были знакомы) описал историю этой судьбоносной встречи в повести «Ожог линзы». Спустя долгие годы мы наконец познакомились лично – редкий случай знакомства автора со своим литературным героем.
Судьба Керима сложилась очень причудливо: прожив чуть более тридцати лет в Советской России, в годы разлома империи Керим пустился в странствия по Европе и далее по всему миру. Странствия на долгие годы увели Керима от музы, и когда наконец он вернулся к творчеству, ему пришлось за пару лет наверстывать упущенное. И наверстал блестяще!
Но не впрямую – как поэт, а косвенно, сначала как конгениальный переводчик поэзии Гарсиа Лорки. Для этого он выучил испанский язык. Его изумительные переводы из «Цыганского романсеро» открыли нам истинного Лорку, поэта страстей, кентавра, а не романтического бумажного Пьеро в переводах Гелескула.
Переводы раскрыли наконец молчащую раковину его поэтического вдохновения, в раковине заблистали жемчужины, Керим сам стал писать стихи, в том числе он написал изумительной силы поэму-речитатив «Раньше книги сжигали…», которая окончательно, на мой взгляд, утвердила его первенство в современной русской лирике.
Да, пока об этом мало еще кто знает, но, как говорил Моцарт, нет ничего прочней, чем «тихая слава».
К переводам и стихам недавно прибавилась проза.
По-моему, она стала неожиданностью для самого Керима.
Прочертив огненным зигзагом судьбы земной шар, он наконец замер в горах Швейцарии, в окрестностях Цюриха, где зимой разгребает снег у входа в шале, а летом путешествует с другом закатного времени Максимилианом, например, по Миссисипи, повторяя путь плота мальчишки Гекльберри Финна, – в самом Кериме до сих пор есть черты всех романтических мальчиков, пятнадцатилетних капитанов нашей юности.
Его проза пошла по пути литературного ретро, этот стиль воскрешения в памяти прожитой жизни – для любви и суда – был задан в русской литературе еще в легендарном романе Юрия Трифонова «Дом на набережной»… Замечу, порой Керим совершенно беспощаден к себе и своим близким, к советской утопии, к обманам прошлого и трагическим перспективам будущего, цивилизация зашла в тупик, говорит он.
Проза Керима навряд ли станет бестселлером, он чурается манков читательского успеха, но я уверен: прочитанное станет событием для каждой души, которая прочтет его исповедь, да, именно исповедь, потому что – наберем в грудь больше воздуха – все, о чем он пишет в последние годы, это «каминг-аут», раскрытие, признание в иной природе своего бытия. Но именно эта интонация придает его прозе привкус события.
Пожелаем книге Керима Волковыского успеха у читателя. Даже пусть читателей будет ровно столько, сколько приходит на концерт симфонической музыки в зал консерватории, тишина партера и овации в финале, именно то, о чем только и может мечтать истинный творец.
Анатолий Королев
К читателю
Дорогой читатель, перед тобой книга о любви. О любви большой, подчас необычной, не конвенциональной, трогательной… Кто-то заметит: «Опять! Какой ужас! Надоело, сколько можно…» Приходится отбиваться.
Кто-то из мудрых душеведов подметил, что мы живем в такое время, когда люди либо почти не читают, либо (те, кто раньше читал) предпочитают писать сами, не особенно затрудняя себя вопросом умения. За оставшегося «читателя» идет жесткая и подчас не джентльменская борьба. При этом погоня за читателем не касается произведений пары известных (зачастую очень хороших) писателей, она не затрагивает головокружительного интереса, проявляемого толпой к пухлым томам биографий «знаменитостей», написанных или ими самими, или занесенных на бумагу с их слов. В случае со знаменитостями срабатывает эффект приобщения: к власти, богатству, опасности, иногда даже к пороку. А что делать мне – бедному, старому, абсолютно здоровому и незнаменитому?
Пока я писал не слишком длинные стихи, их читали (из чувства уравновешенной солидарности) хотя бы другие поэты, справедливо ожидая и от меня внимания к их творчеству. А тут взялся за рассказы и даже за повести. В какой-то момент меня осенило: если не можешь не писать – пиши для себя. Пиши что угодно, придумывай каких хочешь героев, не можешь придумать – хватай их прямо из жизни, дари им новую жизнь. Главное, чтобы было нескучно. Пиши так, чтобы ты сам мог вместе со своими героями радоваться, горевать, смеяться и плакать, попросту говоря – жить с ними рядом. И если ты их полюбишь сам, для твоих книг рано или поздно найдется читатель, ежели нет… то лучше не начинать. Я полюбил своих героев.
Так появились на свет и Селим Дворкин, и провинциальная учительница литературы Нина Степановна, и самоуверенный политик Фредерик Натан-Леви, и моя самая любимая героиня – Розали Лейзер Кац. Друг с другом мои герои не знакомы, они живут (или жили) в разных точках земного шара: в Перми, в Париже, в Сан-Франциско. Единственное, что их объединяет, – они все безнадежно влюблены.
Желание резче, пронзительнее выразить как влюбленность моих героев, так и присущее им всем чувство всемирной бездомности навело меня на мысль использовать для обложки фрагмент картины Шагала «Петух над Парижем». За право использовать эту картинку пришлось побороться. Пусть теперь мои герои поборются за читателя.
Автор
Мостра Висконти, 1981
В Люцерне он пересел на поезд, идущий в Лугано. Поначалу поезд долго огибал большое озеро, которое то расширялось, то распадалось на узкие языки. Вскоре начались туннели. Зеленые холмы с рассыпанными там и сям небольшими живописными домами сменили белесые отвесные скалы, из узких расщелин которых хмуро торчали ели, далеко внизу пенились неслышимые потоки, изредка успевала промелькнуть небольшая деревушка с выделяющимся острым шпилем стоящей на отшибе церкви, и поезд с грохотом влетал в очередной туннель – бухали рельсы, минутную темноту разрывали внезапно загоравшиеся желтые лампочки, в вагоне пахло сыростью и настоящими горами.
«Не пропустить бы Сен-Готард», – озабоченно подумал он и, перестав поминутно высовываться в окно, огляделся по сторонам, как бы ища совета или поддержки. В вагоне было шумно. Окраска речи пассажиров менялась вместе с окружающим пейзажем, и мягкий картофельный говор немецких швейцарцев все более разбавляла напевная итальянская речь, которую наш герой принял за диалект, на котором, по его мнению, изъяснялись жители Тичино.
Великодушно простим нашему восторженному герою эту лингвистическую ошибку: с того момента, как он покинул свою склеротическую советскую родину, переехав на постоянное жительство в уютную столицу альпийской республики, прошло не более двух месяцев, и все вокруг продолжало приводить его в умиленное состояние. Более того, ему казалось, что не только люди, но и неодушевленные предметы – поручни в полупустых трамвайных вагонах, ступени лестниц, углы домов, газетные ларьки с пестрыми развалами печатной продукции на всех мыслимых языках мира – не могут ему нарадоваться.
И вот теперь эта неожиданно открывшаяся возможность поездки на знаменитый кинофестиваль в Локарно, где его если пока и не ждут, то несомненно обрадуются, как только узнают, что он из России, и, может быть, даже дадут работу, мало ли что – а вдруг им нужны переводчики или знатоки российского кино, кто знает.
«Поживем – увидим», – удовлетворенно подумал он, устраиваясь на сиденье и доставая из черной пачки хорошо набитую сигарету с золотым обрезом.
– Вы не против, если я закурю? – спросил он по-французски у сидевшей напротив него симпатичной девушки, погруженной в чтение книги.
Она подняла голову, легким движением руки отбросила волосы со лба и, указав рукой на висевшую за его спиной табличку «Raucherabteilung»[1 - Отделение для курящих (нем.).], вежливо улыбнулась той белозубой располагающей к себе улыбкой, которой западные люди, засвидетельствовав свою ни к чему не обязывающую благожелательность, тут же дают почувствовать нам свое место.
Поезд тем временем уже несся вниз по раздающейся вширь долине, словно набирая скорость. Затянувшись с наслаждением вкусным английским табаком, он посмотрел в окно и без особого сожаления понял, что Сен-Готард он пропустил. «Ничего, на обратном пути буду повнимательнее».
Вокруг все повеселело. Небо стало высоким и посинело, исчезла неприятная сырость, пассажиры потянулись к своему багажу и начали собираться. И хотя до Беллинцоны, где направляющимся в Локарно следовало пересесть на другой поезд, оставалось еще не менее получаса езды, нельзя было не поддаться возникшему в вагоне ощущению одновременно и радости, и удивления: вот и свершилось, пересекли Альпы – и мы на юге.
Но по-настоящему юг начался для него только после того, как небольшой старомодный поезд, повернул направо и бойко побежал вдоль реки. Среди уродливых ангаров и бетонных построек стали попадаться облезлые итальянские палаццо с двумя-тремя пальмами перед ними, в вагон заявилось беспардонное яркое солнце, и сразу сделалось жарко.
После двух месяцев необычайно холодного дождливого бернского лета это воспринималось почти как чудо. И не только это. Он ехал в Локарно, как едут в первый раз в Италию, ту Италию, которую мы придумываем себе в детстве и затем любим всю жизнь, даже если на какое-то время, «умнея», забываем об этом, забываем, чтобы в один прекрасный день обнаружить – ничего, собственно, не изменилось, твоя Италия по-прежнему с тобой, в ней все так же светит солнце, над головой яркое безоблачное небо и веселые красивые люди живут, подчиняясь законам вымысла и ремесла.
Было еще нечто, что связывало его с Италией, то, о чем он не хотел сейчас ни думать, ни знать.
* * *
Той осенью Селиму должно было исполниться пятнадцать. Утром по дороге в школу он увидел возле нового кинотеатра неброскую афишу:
РОККО И ЕГО БРАТЬЯ
Новый художественный фильм, Италия
Дети до 16 лет не допускаются.
Почему-то на этот раз местные художники решили ограничиться текстом, обошлось без душещипательных сцен и намалеванных портретов главных героев.
На следующий день, вечером, Селим с некоторой опаской объявил родителям:
– Завтра мы с Геной идем в кино, на «Рокко и его братья», какой-то новый итальянский фильм, надо обязательно посмотреть!
Родители уже стали разрешали их сыну ходить в кино на некоторые фильмы, снабженные заманчивой для подростков запретной припиской: «Дети до 16 лет…» Однако заранее предугадать реакцию взрослых было невозможно, поэтому за деланым безразличием, с которым мальчик объявил предкам о своем решении пойти в кино, явно проступала жалобная наглость, особо раздражавшая родителей.
Вообще же разобраться в том, что представляла собой система воспитания, которой руководствовались в послевоенное время относящие себя к интеллигенции семьи, почти невозможно, следует только отметить, что там было много всего намешано – начиная от нравственных норм поведения, заимствованных творцами коммунизма из эпохи палеолита, и кончая отвергнутыми европейской цивилизацией остатками глухой мещанской морали конца XIX века. Впрочем, неважно, на этот раз мальчик получил благословение отца (мать почти не вмешивалась в вопросы нравственного воспитания сына). Отец ограничился тем, что, оторвавшись от газеты, строго спросил сына, пристально глядя на него сквозь толстые стекла очков:
– Селим, ты уверен, что тебе нужно смотреть этот фильм, как его, да, «Рокко и его братья»?
– Ну папа! Всех пускают, вот Димка Лазарев…
– Речь не о Димке Лазареве, речь идет о тебе. Ты хоть знаешь о чем он?
– В нем… в нем рассказывается о тяжелой судьбе бедной итальянской семьи с юга страны, которая в поисках работы перебирается жить в Милан. Режиссера зовут Висконти, он итальянский коммунист, если хочешь знать…
– Ну ладно, ладно… Сходи, потом нам расскажешь… Только смотри, чтобы тебя на входе на застукали, – примирительно произнес отец, возвращаясь к газете.
А мама обняла сына и ласково заметила:
– Нашему Селиму все дают больше его возраста, вот и Ольга Васильевна мне вчера сказала…
Откровенно говоря, ни об этом фильме, ни о прогрессивном итальянском режиссере Лукино Висконти, который вроде бы был коммунистом, несмотря на свое аристократическое происхождение, Селим толком ничего не знал. Зато, как и многие дети из интеллигентных семей поздней хрущевской поры, он страстно любил кино, часами мог обсуждать с друзьями последние слегка фрондерские работы Юлия Райзмана или впавшего в немилость Михаила Ромма, уверенно ругал Голливуд и сдержанно хвалил французские фильмы, а еще недавно прочел в газете статью об итальянском неореализме и о скандале, который разразился на Венецианском фестивале в связи с решением жюри присудить первый приз фильму Висконти «Рокко и его братья».
В чем суть скандала – мальчик не понял. Что помимо аристократического происхождения и принадлежности к коммунистической партии вменялось в вину знаменитому мастеру, из статьи ясно не было, но когда он увидел, что этот нашумевший на Западе фильм идет в их городе, желание посмотреть его стало почти непереносимым. Можно было подумать, Селим что-то почувствовал.
А может быть, и не почувствовал, зато в его памяти навсегда сохранилось все, что случилось с ним в тот короткий осенний день, когда он, с бьющимся сердцем благополучно миновав подозрительно взглянувшую на него контролершу (Селим пошел в кино один, его лучший друг Гена то ли действительно заболел, то ли сказался больным, а проходить с ним было бы легче), потолкался в фойе и, изнывая от нетерпения, уселся на свое место. Он запомнил белые титры, идущие по черному фону, название студии, на которой снимался фильм, – Titanus, имена сценаристов, среди которых он выделил знакомое ему имя писателя Васко Пратолини, запомнил и пульсирующее стаккато саундтрека, сопровождавшего семейство Паронди, которое неспешно сползало по широкой мраморной лестнице со своим сонным удивлением, узлами и кошелками, пока не вывалилось на ярко освещенную привокзальную площадь зимнего Милана. Запомнил он и вкус слез, которые вдруг тепло побежали по его щекам – вроде бы в начале второй серии, когда отсидевшая небольшой тюремный срок Надя неожиданно встречает несущего в том же городе на море воинскую службу Рокко. Она не сразу узнает в морском пехотинце робкого парня из Лукании, которому она пару месяцев назад вернула украденную для нее его братом брошь, а, узнав, предлагает ему с дружелюбной насмешливостью пригласить ее куда-нибудь. Молодые люди долго сидят в кафе, Надя, сдвинув на кончик носа очки от солнца, внимательно слушает незатейливый рассказ вчерашнего крестьянина о безвинно попавших в тюрьму друзьях, его почти евангельское: «Только не надо отчаиваться, надо верить, и все образуется», и, внезапно решившись, спрашивает его с такой безысходной – потому что вряд ли верит, что сбудется, – надеждой: «Мы еще увидимся? И ты научишь меня верить?»
Что она, проститутка, обслуживающая в основном боксеров, знает о Лукании? О самом Рокко? Кроме того, что он по-неземному красив и кроток, что он родом с юга и что его нагловатый брат приставал к ней со своей ненужной ей любовью? Да ничего она не знает, и все-таки… В этот момент идет наплыв, вступает музыка – на этот раз звучит тема Нади (об этом Селим узнает значительно позже), и фильм бежит дальше по хорошо накатанной колее.
* * *
Железнодорожные пути в Локарно неожиданно обрывались, дальше росла трава. Наискосок уходила неширокая улица, по которой фланировала шумная разноцветная толпа людей, явно приехавших в этот город на отдых. Всем им не было никакого дела до нашего приезжего, который на какое-то время растерялся, обнаружив, что офис Informazione turistici, находящийся в небольшом круглом здании, по случаю воскресенья закрыт, но быстро собрался с мыслями и принялся обходить привокзальные гостиницы. В двух ему отказали – «completo», а третью, какую-то уж слишком шикарную, он и сам бочком-бочком покинул, узнав, во сколько ему обойдется одна проведенная в ней ночь.
Он вернулся на вокзал, где разыскал автомат, выдающий по запросу наличие свободных мест в гостиницах города и окрестностей, занес в него свои пожелания, не забыв указать финансовые возможности, и уже через пару минут получил ответ. Его готов был принять, правда, всего лишь на две ночи, небольшой пансион «Оланда», находящийся где-то на горе, в местечке под названием Орселина. В остальных гостиницах либо не было мест, либо кусалась цена.
Из ближайшей телефонной будки он позвонил в «Оланду», спросил, как туда можно добраться: «Нет, я не на машине… Можно на автобусе?.. А если пешком?.. Хорошо, я буду через час» – и, получив в ответ не совсем итальянское «In Ordnung»[2 - В порядке (нем.); здесь – договорились.], подхватил привезенный из России чемоданчик, перебросил через руку только мешающую в этой жаре куртку и отправился разыскивать свое временное жилье.
Узкая улочка, петляющая под сумеречными аркадами, вывела его сначала на центральную площадь, a затем бодро полезла вверх, как бы отталкиваясь от угловатых каменных домов, и через некоторое время ему стало казаться, что это вовсе и не улица, а лодка, на которой он плывет куда-то ввысь, в небо – голубое круглое, подпираемое желтыми сводами проступающего впереди монастыря Madonna del Sasso.
Он почувствовал, что задыхается, остановился, снял очки и начал безуспешно протирать запотевшие стекла рукавом рубашки. Далеко внизу оставался город, сбоку проступала ласковая синька озера – Lago Maggiore, по которой скользили надутые ветром упругие паруса: один… два… много…
Хозяин «Оланды», пожилой немец, долго крутил в руках его краснокожий советский паспорт, после чего, с трудом оторвав от стула зад, дотянулся до полки, положил документ в специальный ящичек и неодобрительно выдал ему тяжелый ключ:
– Ваш номер девять, он расположен на втором этаже, с вас за две ночи, без завтрака пятьдесят пять франков, уплата вперед, душ и туалет на этаже.
Небольшая комната, расположенная под самой крышей, успевала за день сильно нагреться, и, когда он раскрыл дверь, на него пахнуло спертым горячим воздухом. Бросив чемодан и куртку на кровать, он первым делом открыл окно, выходившее, по счастью, не на шумную улицу, а на оставшийся внизу город с небольшим кусочком озера.
Наскоро ополоснув лицо из умывальника в номере и критически осмотрев себя в зеркало, новый постоялец «Оланды» скатился по узкой лестнице (он все еще не успел привыкнуть к тому, что вторым этажом здесь называют наш третий), прошмыгнул мимо дремлющего толстожопого фашиста (в представлении почти каждого советского гражданина, родившегося в конце войны или в первые послевоенные годы, любой немец старшего возраста, если он не из ГДР, был скрытым фашистом) и выскочил на улицу.
Дорога, по которой он пошел, что-то напевая и размахивая руками, разделяла селение, недавно ставшее пригородом Локарно, на две части. Примерно через полчаса он наткнулся на бензоколонку, купил за пять франков кусок пиццы в целлофане и бутылку колы и повернул назад. Комната за время его отсутствия слегка остыла. Он торопливо разделся, закрыл дверь на ключ и завалился спать, чтобы утром…
Ах, это утро! Первое утро молодой, дурашливой, никогда еще не испытанной им свободы. О подоконник доверчиво трется жесткий веер пальмовых листьев. Внизу, как в чаше, деловито копошится маленький, по виду итальянский город, сбоку синеет кусочек исчезающего в дымке озера. С террасы поднимается вкусный аромат кофе и доносятся веселые голоса. «Скорее! Нельзя терять ни минуты! Позавтракаю где-нибудь в городе».
Спуск по знакомой даже не улочке – тропе – был не труден и показался ему совсем не таким длинным, как вчера, когда он, запыхавшись, тащился вверх с чемоданом, и уже через четверть часа он стоял на центральной площади – Пьяцца Гранде, придирчиво осматривая прячущиеся под аркадами уютные кафе. Выбрав одно из них, он небрежно заказал капучино и два круассана – вкуснятина! А какой капучино – настоящий итальянский! – такого ему еще пить не приходилось.
Он расплатился и решительно пересек площадь: отовсюду на него пялились большие афиши, возвещающие о начале кинофестиваля, который в этом году сопровождала уникальная выставка – Mostra Visconti, посвященная жизни и творчеству великого итальянского режиссера.
«Надо же, а я думал, эта выставка совсем даже и не в Локарно, надо будет обязательно сходить», – сказал он себе, сделал непринужденное лицо и вошел во внутренний двор светлого особняка, где на втором (у них – на первом!) этаже размещался оргкомитет кинофестиваля.
* * *
В семье привыкли к тому, что Селим часто ходил на понравившиеся ему фильмы по два раза, и поэтому в его желании еще раз посмотреть «Рокко» не усмотрели ничего крамольного. Родители не только дали свое согласие, но и решили сами в кои-то веки выбраться в кино, тем более что отец, недавно купивший дорогой фотоаппарат со вспышкой, мечтал попробовать свои силы, делая снимки из зала, в темноте.
На память от этого эксперимента сохранилось два нечетких снимка. На одном из них можно с трудом разглядеть Надю, нервно закусившую дужку очков и напряженно всматривающуюся вдаль, на втором, уже совсем не резком, проступало прекрасное лицо Рокко в берете морского пехотинца.
– Самое светлое место в фильме, – словно оправдываясь, объяснил отец, – но все равно ведь получилось, а? По крайней мере, узнать можно.
Селим выпросил у отца для себя эти снимки, но, честно говоря, никакого удовольствия от их разглядывания не получил, – напротив, в нем зародилась неприязнь к «фальшивому» искусству фотографии; и тогда же в нем проснулась чем-то напоминающая одержимость страсть к «правдивому» искусству кино.
А вообще фильм родителям понравился: мать, осторожно запихивая в стенной шкаф норковую шубу, произнесла со вздохом: «Хороший фильм, только уж очень тяжелый…» Отец отделался одобрительным «хм», не считая нужным делиться своими впечатлениями с сыном. И все равно было приятно – взрослые оценили его выбор, похвали его любимый фильм.
С какой беспечностью мы раздаем в этом возрасте подобные титулы: любимый фильм, любимая девочка, любимая книга – и как расплачиваемся за это впоследствии…
Прошло три недели, и когда Селим, выйдя на кухню, где мать замачивала белье, небрежно обронил: «Мы с Геной решили сводить Мирру на “Рокко”». Ты представляешь, Мирра еще не видела этот фильм», произошло непредвиденное.
Оторвавшись от своего занятия и машинально поправляя сбившиеся на лоб волосы, мать ответила ему каким-то уж очень нехорошим голосом:
– Как в кино? А кто мне будет помогать со стиркой? Но дело даже не в этом. Ты можешь мне обьяснить, что тебя в этом фильме так привлекает? Мы с папой считаем, что тебе еще…
Селим испугался. Ему показалось, что его поймали с поличным за неясно каким, но явно нехорошим делом. Разразился скандал. Сын закатил родителям истерику и добился своего: ему разрешили, взяв слово, чтобы это было в последний раз. Что «это» и что «было» – он уточнять не стал.
Через час, явно опаздывая, заплаканный и злой, он выскочил на улицу, перебежал дорогу и, чтобы не встречаться глазами с прохожими, быстро зашагал по мостовой, то и дело уворачиваясь от окатывающих его перемешанной с грязью водой проезжающих мимо машин. Ни Мирре, ни Гене он так и не позвонил – забыл или не захотел. После того что устроили предки, было необходимо побыть одному.
Фильм больше не шел первым экраном, а кочевал по дворцам культуры и клубам, которые в последнее время стали появляться в самых неожиданных местах, решительно меняя облик некогда солидного областного центра с рабочей окраиной. Селим старался туда не ходить, его все там раздражало, начиная с плюшевой роскоши и кончая пропахшим дешевым табаком нечистого туалета; к тому же он не переносил посещавшую эти места публику, но ради «Рокко»…
В тот день фильм «Рокко» показывали в недавно открывшемся прямо за городской психбольницей Дворце строителей. Решив сократить путь, Селим перелез через забор и, стараясь идти как можно быстрее, пересек неприветливую территорию пугавшей его с детства лечебницы и спустя десять минут уже просовывал мятый рубль в окошечко кассы.
«Интересно, почему я так люблю этот фильм?» – задал он самому себе вопрос, поднимаясь по широкой мраморной лестнице, ведущей в зал. Предшествующие показу художественного фильма «Новости дня» только что закончились. «Просто люблю – и все», – решил он как отрезал, осторожно пробираясь по наполненному напряженной тишиной залу на свое место.
По освещенному экрану уже бежали знакомые титры, лилась подкупающе сладкая музыка Нино Роты, поезд, фыркая и пыхтя, подкатил к перрону, из него, вывалилась многочисленная семья Паронди и, в который раз благополучно переместившись в ярко освещенный вагон трамвая, покатила по ночному Милану.
* * *
Дверь, к которой было двумя кнопками пришпилено написанное от руки «Дирекция Локарнского фестиваля», была приоткрыта, он толкнул ее и сразу окунулся в непринужденную атмосферу сосредоточенного хаоса. Его, привыкшего к фальшивой многозначительности и плохо маскируемого хамства, царящих в дирекции Московского кинофестиваля, это приятно поразило. Мимо, слегка толкнув его и тут же виновато улыбнувшись, прошмыгнула девица, нагруженная папками, в углу неумолчно трещала пишущая машинка, на столах звонило сразу несколько телефонов.
В прислонившемся к стене читающем газету худощавом мужчине он узнал журналиста бернской газеты, с которым у него месяц назад состоялась бесплодная встреча на предмет опубликования статьи о российском кинематографе семидесятых годов. Узнавание не было взаимным, и, пока он размышлял, не стоит ли напомнить о себе, открылась дверь во внутреннюю комнату, откуда появился странного вида некто, с большой головой кукушонка, плотно посаженной на плечи, и умными внимательными глазами. Этот «некто» подошел к нему и приветливо сказал:
– Buon giorno, come possiamo esservi utili?[3 - Добрый день, чем мы можем вам быть полезны? (итал.)] – и, заметив растерянное выражение на лице вошедшего, незамедлительно повторил свой вопрос, но уже по-французски.
На этот раз вопрос был понят.
– Здравствуйте, я недавно приехал из Советского Союза. Я очень много слышал о вашем фестивале, и вот я здесь, в Локарно, даже как-то не верится…
– Вы кинематографист?