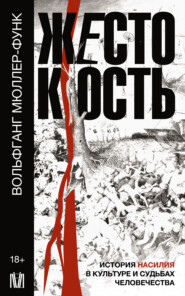скачать книгу бесплатно
Жестокость. История насилия в культуре и судьбах человечества
Вольфганг Мюллер-Функ
Слово современной философии
Человек – «жестокое животное». Этот радикальный тезис является отправной точкой дискурсивной истории жестокости. Ученый-культуролог Вольфганг Мюллер-Функ определяет жестокость как часть цивилизационного процесса и предлагает свой взгляд на этот душераздирающий аспект человеческой эволюции, который ускользает от обычных описаний.
В своей истории из двенадцати глав – о Роберте Мюзиле и Эрнсте Юнгере, Сенеке и Фридрихе Ницше, Элиасе Канетти и Маркизе де Саде, Жане Амери и Марио Льосе, Зигмунде Фрейде и Морисе Мерло-Понти, Исмаиле Кадаре и Артуре Кёстлере – Вольфганг Мюллер-Функ рассказывает поучительную историю жестокости и предлагает философский способ противостоять ее искушениям.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Вольфганг Мюллер-Функ
Жестокость. История насилия в культуре и судьбах человечества
Анне и Леа, которые заботятся о том, чтобы в этом мире можно было жить.
Как мухам дети в шутку,
Нам боги любят крылья обрывать.
Шекспир, «Король Лир»
Жестокость принадлежит к древнейшим праздникам человечества.
Тогда думали, что даже и боги наслаждаются и радуются жестокими сценами, устраиваемыми человеком, – и таким путем незаметно проникло в мир представление, что добровольное страдание, самоистязание имеет какую-то цену.
Фридрих Ницше, «Утренняя заря»
Wolfgang M?ller-Funk
Crudelitas.
Zw?lf Kapitel einer Diskursgeschichte der Grausamkeit
© MSB Matthes & Seitz Berlin
Verlagsgesellschaft mbH, Berlin 2022
© Д. С. Дамте, перевод, 2023
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2023
1. Исходная позиция
I. Самоконфронтация
Жестокость невыносима. На самом деле ее не должно быть там, где все обстоит по-человечески. Исследование этой мрачной темы угрожает нашему собственному душевному состоянию, тянет нас в ад невыразимого, который в религии и метафизике описывается как зло par excellence[1 - Преимущественно, главным образом (лат.). – Прим. пер.]. Тот, кто систематически исследует мучения других людей, индивидов или групп, рискует увлечься ими. Изучать тему жестокости сложно еще и потому, что к ней трудно отнестись непредвзято. Ужас перед ней часто приводит к неправильному восприятию самого понятия. Легко сказать, что жестокость бесчеловечна. Но противопоставление человеческого и нечеловеческого, как и большинство бинарных оппозиций, сомнительно. В действительности поразительным и пугающим образом жестокость соединяет в себе оба этих свойства.
Реагировать на жестокость можно по-разному. Моральное возмущение и неприятие – самая понятная реакция, но она приводит к мысли, что с жестокостью не нужно связываться. Далее, жестокость может быть приписана другим – из-за этого не замечают ее в себе. Серийные убийцы, такие как Фриц Хаарман, и штурмовые отряды национал-социалистов почти сразу были демонизированы, что психологически понятно ввиду совершенных ими злодеяний. Однако демонизация быстро приводит к искажению и в итоге к банализации, поскольку сводит существование систематического насилия к чудовищным исключительным случаям. Целенаправленное уничтожение другого становится вызовом морали и разуму Просвещения, которое после смерти Бога[2 - Отсылка к «Веселой науке» Фридриха Ницше (фрагмент 125 «Безумный человек»). См.: Ницше Ф. Веселая наука / пер. с нем. К. А. Свасьяна // Сочинения: в 2 т. – Т. 1. – М.: Мысль, 1990. – С. 592–593. – Прим. пер.] хотело окончательно распрощаться со злом.
Вопреки всем гуманистическим надеждам, коллективные, политически инспирированные преступления, в которых жестокость играет решающую роль, не исчезли из этого мира. На этом фоне становится понятной провокационная и емкая моральная формула Ханны Арендт о «банальности зла», которую она вывела по итогам судебного процесса над бюрократом-исполнителем, идеологом холокоста Адольфом Эйхманом[3 - Арендт Х. Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме / пер. с англ. С. Кастальского и Н. Рудницкой. – М.: Европа, 2008.]. Слово «банальный» появляется в немецком языке только в первой трети XIX века, в частности у Гёте, который в 1830 году говорит о «банальных дикостях охоты с гончими»[4 - Johann Wolfgang von Goethe, Weimarer Ausgabe I, 42, 1, 56, zit. nach: Friedrich Kluge, Etymologisches W?rterbuch der deutschen Sprache, Berlin, New York, 1975. – S. 49.]. Это слово, заимствованное из французского языка, означает «повседневный», «безвкусный», «заезженный», «плоский». Превращаясь в банальность, зло, а вместе с ним и расчетливое, на первый взгляд беспричинное насилие над другими, становится обыденным фактом и утрачивает ауру экстраординарного. Заслуга Арендт, вопреки настойчивой критике ее позиции, состоит не в последнюю очередь в том, что она лишает человеческую злобу ауры глубокого и великого, в результате чего исполнитель массового убийства становится пугающе нормальным, почти заурядным и совершенно точно ничем не примечательным человеком. С появлением банальности исчезает ореол исключительности. Потенциально зло есть в каждом из нас.
Эстетизацию жестокости, характерную для темного романтизма и наследия двуликих индивидуалистов вроде маркиза де Сада, можно понимать как попытку раскрыть ее привлекательность и утвердить ее в мире литературного вымысла. Тот, кто входит в него, переступает порог и, кажется, может наслаждаться ароматом «цветов зла»[5 - Бодлер Ш. Цветы зла. – М.: АСТ, 2022.] (Шарль Бодлер) без чувства вины. Переход границ заключается не только в описанных ими эксцессах, часто переплетающихся с сексуальностью, но и в запрещенном моралью наслаждении. Поскольку литература противоречива и не претендует на основательность, а потому ускользает от однозначной морально-политической оценки, в защиту всех этих попыток эстетизации жестокости можно сказать, что они позволяют сублимировать существующие импульсы и удерживают от преднамеренного причинения вреда другим. На это можно возразить, что, например, в философских романах де Сада читатель как бы попадает в мир, где действует особая мораль, согласно которой одни имеют право издеваться над другими и уничтожать их.
Психология и антропология – две дисциплины, в которых, вероятно, с наибольшей непредвзятостью рассматривается феномен расчетливого насилия, его значение и функция в психическом устройстве человека. Главное неприятное открытие состоит в том, что готовность к целенаправленному насилию – это отнюдь не случайное и редкое маргинальное явление, а вполне типичное человеческое поведение. Предположения, тезисы и результаты исследований открывают неожиданное направление в изучении природы и будущего жестокости. Отсюда, однако, не следует, что невозможно разработать культурные техники, позволяющие сдержать, сублимировать или искоренить устойчивое желание причинить физический и психологический вред другому или даже уничтожить его. Из всего многообразия значений жестокости мы выделяем и деконструируем те дискурсы в религии, идеологии и науке, которые прямо или косвенно легитимируют применение целенаправленного насилия и направлены на то, чтобы нейтрализовать его внутренний и внешний ужас. Подходящими средствами для такой деконструкции являются медленное чтение (close reading) и критика. Расстояние между теоретической самоконфронтацией с жестокостью и ее утверждением невелико, как показывает пример Фридриха Ницше (см. главу 6). Исследование в этом дискурсивном поле столь же опасно, как и само рассматриваемое явление. Оно напоминает хождение по канату над пропастью.
Иногда бывает полезно и уместно рассказать о том, как человек приходит к теме, или, точнее, как тема приходит к своему автору. История этой книги начинается с работы «Опыт и эксперимент. Исследования по теории и истории эссеизма»[6 - Wolfgang M?ller-Funk, Erfahrung und Experiment. Studien zu Theorie und Geschichte des Essayismus, Berlin, 1995.], вышедшей в свет в 1995 году. Она посвящена формам эссе, которые нацелены главным образом на то, чтобы представить альтернативу научному отношению к миру исключительно как к «объекту» и занимают позицию защиты и сохранения открытости. Соответственно, эссеизм[7 - Эссеизм – жанр современного философствования, обозначающий явно выраженный эстетический характер спекулятивнохудожественного мышления. Под эссеизмом также понимают совокупность философско-художественных произведений в области мысли. – Прим. ред.] в аспекте языка может быть описан как одна из возможных форм сублимации насилия.
В «Опыте и эксперименте» мы цитировали фрагмент из эссе немецкого писателя и врача Готфрида Бенна «Дорический мир» (1934), где утверждается, что либеральный человек не может признать реальность власти и, как выясняется далее, насилия:
Вот уже сто лет мы живем в эпоху философии истории, и если подводить ее итоги, то это не что иное, как феминизация взглядов на власть и силу. […] Либеральная эпоха не может ухватить суть современных народов и современного человека, само слово «ухватить» слишком грубо для этой эпохи, она вообще «не видит» власти[8 - Бенн Г. Дорический мир. Об отношении искусства и власти / пер. с нем. И. Болычева // Двойная жизнь. Проза. Эссе. Стихи. – М.: Lagus-Press; Аугсбург: Waldemar Weber, 2008. – С. 339. Wolfgang M?ller-Funk, Erfahrung und Experiment. Studien zu Theorie und Geschichte des Essayismus, Berlin, 1995. – S. 229.].
С точки зрения Бенна, это не комплимент и не выражение благоговения перед подлинной любовью к миру. Скорее, это язвительный комментарий, направленный против идеологического оппонента и его неадекватности. Очевидно, Готфрид Бенн, будучи в то время правым бунтарем, таким образом выражал свою интеллектуальную идентичность. Как критик буржуазного либерализма он, в отличие от своего оппонента, готов признать власть и насилие элементами человеческого существования и, более того, воздать им должное. Он способен смотреть на них без страха. Его самоутверждение основано на том, что ему не нужно подавлять или отрицать их. Бенн решительно вводит власть и насилие в поле зрения и может оценить их историческую динамику.
Понятно, что от такого интеллектуального героизма один шаг до утверждения естественности насилия. Достаточно сделать почти незаметное наклонное движение, и читатель вместе с автором оказываются на стороне тех, кто рассматривает насилие уже не просто как неизбежное зло (точно так же, как это имеет место в случае с хитростью разума у Гегеля), но в смысле героического реализма – как эстетически и политически положительную историческую творческую силу. Готфрид Бенн сделал этот шаг в начале 1930-х годов. Для него фашизм и национал-социализм – он никогда не отрицал этого – несомненно, являются диктатурами, основанными на насилии, и тем не менее представляют собой передовые исторические силы. «Новое государство», то есть авторитарный военный режим, который придет на смену презираемой им либеральной демократии, не знает сострадания к отдельному человеку, имея возвышенную коллективную цель. Бенн сравнивал это «новое государство», близкое по духу военной дисциплине Спарты, с работой скульптора, который создает свои произведения, отсекая все лишнее. В эссе «Птолемеец» (1947) Готфрид Бенн использует образ выдувания стекла, чтобы проиллюстрировать свою политическую эстетику холодности и ограничений[9 - Бенн Г. Птолемеец / пер. с нем. В. Фадеева // Двойная жизнь. Проза. Эссе. Стихи. – М.: Lagus-Press; Аугсбург: Waldemar Weber, 2008. – С. 156. M?ller-Funk, Erfahrung und Experiment. – S. 208.]. Как неоднократно подчеркивает писатель, диктатура, особенно в Германии, нуждается в эстетике. Немцам, говорит Бенн вслед за Ницше, не хватает стиля и формы. В дальнейшем охлаждение Бенна к гитлеровскому режиму произошло не из-за отказа от человечности в национал-социализме, а скорее потому, что он оказался неспособным разработать эстетически значимую и отстраненную форму насилия.
В «Опыте и эксперименте» центральное место занимает совершенно иная позиция, противоположная Бенну (как и Эрнсту Юнгеру). Мы анализируем «Опыты» Мишеля Монтеня, в которых содержательно и структурно отвергаются жестокость и агрессия в пользу самообладания, сочетающего в себе сочувствие и рефлексивную дистанцию («холодность»). В одиннадцатом разделе второй книги близость и дистанция сливаются в выражении испуга: «Боюсь сказать, но мне кажется, что сама природа наделяет нас неким инстинктом бесчеловечности»[10 - Монтень М. Опыты: в 3 кн. / пер. с фр. А. С. Бобовича и Ф. А. Коган-Бернштейн. – Книги 1 и 2. – М.: Наука, 1979. – С. 377.]. Судя по контексту, под этой всепоглощающей бесчеловечностью мыслитель раннего Нового времени имеет в виду именно ту форму преднамеренного насилия, о которой он уже высказался однозначно и парадоксально: «И по природе своей и по велению разума я жестоко ненавижу жестокость, наихудший из пороков»[11 - Монтень М. Опыты. – С. 374.]. Это наводит на мысль о контрпозиции, характерной для автобиографии бесстрашного человека. Она всегда предполагает самоанализ человека, который сталкивается с насилием, не поддаваясь ему. Смысл труда де Монтеня заключается в том, чтобы проработать агрессию в письме. Он воздерживается от утверждений и избегает любой формы поляризации, равносильной презрению к другому.
Через несколько лет после публикации «Опыта и эксперимента», во время обучения в Новой школе в Нью-Йорке, в особенности после того, как я смог подробнее ознакомиться с англоязычной литературой, мне стало ясно, насколько сложно понятие жестокости, так как оно затрагивает отнюдь не только увеличение или эскалацию насилия. Применение насилия, например, может быть этически и морально оправдано ситуацией, связанной с необходимостью самообороны на уровне отдельных людей, групп, а также государств. Но жестокость в целях самообороны – это contradictio in adjecto[12 - Противоречие в определении, логическая бессмыслица (лат.). – Прим. пер.], внутреннее противоречие, поскольку она с самого начала предполагает агрессивную установку, намерение изолировать, заставить страдать и уничтожить другого или других. Это сознательный и целенаправленный акт, в котором происходит экстремальное и неестественное обращение к фигуре другого[13 - Wolfgang M?ller-Funk, Theorien des Fremden, T?bingen, 2016.]. Жестокость – это наиболее радикальная форма негативного отношения к другому, направленная на то, чтобы устранить его или ее как нарушителя спокойствия в реальном и символическом смысле. При этом другой человек становится объектом извращенного желания, которое реализуется в насильственных действиях или наказании; вместе с тем, как показано в классическом романе Роберта Музиля «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса» (см. главу 2), властное самоутверждение может сопровождаться садистскими, сексуально окрашенными моментами[14 - См.: Ina Stein, Grausamkeit & Sexualit?t. Angst und Schmerz als ultimatives Aphrodisiakum, Flensburg, 2011.].
Таким образом, хотя способность к жестокости укоренена в структуре человеческих влечений – такой могла бы быть психоаналитическая интерпретация фразы де Монтеня, – приходится констатировать, что она хорошо организована и вполне рациональна. Это подтверждают жестокие ритуальные практики у маркиза де Сада, организованное государственное насилие в размышлениях Готфрида Бенна и Эрнста Юнгера, а также коварство трех воспитанников в романе Роберта Музиля по отношению к четвертому. Иными словами, жестокость по отношению к другим – это высокоразвитая и эффективная культурная техника.
II. Подходы к антропологии жестокости
Французский антрополог Марсель Энафф, опираясь на таких мыслителей, как Фридрих Ницше и Антонен Арто, понимает жестокость как специфическую человеческую черту[15 - Marcel Hеnaff, R?tsel der Grausamkeit. Ungeheure Unmenschlichkeit als Kernbestand der Menschlichkeit, in: Lettre International 109, 2015. – S. 12–20.]. По его мнению, человек – единственное животное на земле, обладающее способностью сознательно совершать жестокость, которая проявляется в самых разных ситуациях. Резюмируя, Энафф приходит к формулировке, которая примерно соответствует приведенному выше определению:
Жестокость – это форма насилия, направленная на уничтожение. Ее можно описать как отсутствие эмпатии. Исключительное положение человека обусловлено в том числе его опасной способностью к жестокости. Человек, как говорящее животное, является также жестоким животным[16 - Hеnaff, R?tsel der Grausamkeit. – S. 12.].
Марсель Энафф, со ссылкой на теорию немецкого психолога Карла Бюлера о репрезентативной функции и на идеи австрийского зоолога и зоопсихолога Конрада Лоренца, рассматривает двойственность эмпатии и жестокости как результат культурной эволюции. Овладение словесным языком и связанная с этим способность к дистанцированию и абстрагированию являются решающими предпосылками для человеческого насилия. В то же время словесный язык позволяет отстраниться и открыться виртуальным мирам в игровой форме. В другом месте Энафф описывает жестокость как удвоенное насилие, как «насилие в насилии»: «Она предполагает намерение заставить противника страдать от физической боли и после победы над ним ввергнуть его в отчаяние путем унижения. Жестокость указывает на желание уничтожить человечность другого. Более того, она отрицает границу человечности, доказывая, что другой человек ниже меня, и делая из него не-человека»[17 - Hеnaff, R?tsel der Grausamkeit. – S. 12.]. Эта радикальность, связанная с конкретной формой власти и насилия, согласно Энаффу, представляет собой настоящий герменевтический вызов: «Жестокость выбирает необратимость, она хочет непримиримости. В этом ее загадка»[18 - Hеnaff, R?tsel der Grausamkeit. – S. 12.]. Тем не менее, чтобы приблизиться к пониманию жестокости, французский антрополог выделяет четыре ее формы, различающиеся в зависимости от того, с какой интенсивностью осуществляется «насилие в насилии». Границы между насилием и жестокостью оказываются подвижными.
Законодательно закрепленная и ритуальная жестокость имеют своей основной целью не причинение страдания, которое в лучшем случае является средством для решения конкретных задач или побочным эффектом, а скорее поддержание диктаторского порядка. К этой категории относятся некоторые примеры из сочинений Геродота, а также эксцессы, описанные французским писателем Гюставом Флобером в ориенталистском романе «Саламбо»[19 - Флобер Г. Саламбо / пер. с фр. Н. Минского. – Л.: Лениздат, 1988. – С. 251–258. См. описание казни вождя повстанцев Мато во время праздника карфагенян по случаю победы. Ужасная сцена начинается с фразы: «Тело этой жертвы было для толпы чем-то необычайным» (с. 255). Там, где идет речь о цели коллективной казни, она представляется с точки зрения Саламбо, дочери карфагенского царя, бывшей возлюбленной Мато: «Человек, который шел к ней, притягивал ее. Кроме глаз, в нем не осталось ничего человеческого» (с. 257).]. Попадает ли в эту группу месть как ответный акт насилия, из работы Энаффа неясно.
В погромах и в массовых убийствах насилие проявляется как внезапное событие. При этом особенную роль играют аффективные моменты. Нередко один человек берет на себя роль лидера и агитатора и настраивает целую группу против другого. Лидер воплощает холодность и расчет, а те, кто сплачиваются вокруг него, – эмоциональный момент, аффект. Яркий пример можно найти в книге австрийского писателя Йозефа Рота «Тарабас. Гость на этой земле». В романе есть эпизод, где описывается, как во время Октябрьской революции в маленьком городке пьяные польские солдаты-мародеры берут штурмом небольшой трактир, принадлежащий еврейскому купцу. Главарь банды рисует на стене обнаженных женщин, а затем стреляет по ним. Неожиданно краска отваливается, и открывается лик Богоматери. Это решающий момент для лидера, потому что теперь у него появляется повод обратиться к антисемитскому дискурсу и нарративу: «У той стены, где вы видите икону, некогда был алтарь! Еврей-трактирщик его убрал. Осквернил церковь. […] Здесь снова будет церковь. Покается здесь и еврей Кристианполлер»[20 - Рот Й. Тарабас. Гость на этой земле / пер. c нем. Н. Федоровой. – М.: Текст, 2018. – С. 127.].
Напротив, пытки – о них идет речь в девятой и одиннадцатой главах этой книги – представляют собой профессионально осуществляемую психологическую и физическую жестокость, используемую для того, чтобы добиться «правды». Сюда относятся практики шантажа во время допроса, описанные австрийским писателем Жаном Амери (национал-социализм) и британским писателем Артуром Кёстлером (сталинизм), или разработанные и опробованные инквизиторами в конце Средневековья.
В умышленных и экспериментальных истязаниях самоцелью является чистая жестокость. Это показано в романе Роберта Музиля «Душевные смуты воспитанника Тёрлеса» (см. главу 2).
Все эти формы двойного насилия обязаны своим существованием тем развилкам специфического человеческого развития, которые не получили объяснения в рамках современной эволюционной теории. Марсель Энафф называет их «случайностями эволюции». Таким образом, с его точки зрения, эксперименты с расширяющимися возможностями, как и возникшую благодаря им свободу, новые масштабы и формы репрезентации, связанные со словесным языком, можно рассматривать как моменты культурного развития, которые приводят к полностью «искусственным» формам насилия. В этом контексте антрополог упоминает изобретательность инструментального интеллекта, гипертрофированную сексуальность, отклонившуюся от целей продолжения рода, и изначальную агрессивность, моделируемую с помощью языка. «Говорящее, культурное, технически подкованное животное – это в то же время жестокое животное». Энафф уточняет свое понимание жестокости, сравнивая такое животное с типами людей, в частности, населяющих мир маркиза де Сада: «Описанный экземпляр странным образом напоминает фигуру новоевропейского либертина»[21 - Hеnaff, R?tsel der Grausamkeit. – S. 17 f.].
III. Жестокость как следствие культурализации
Тезис о том, что жестокость является следствием самовоспитания, может вызвать сильное раздражение. Он противоречит идее изначального насилия, заложенной в человеке, а также – и это главное в книге – представляет последнее как сомнительный результат культурного прогресса. Впервые в своей истории абстракция под названием «человечество» установила и организовала власть и насилие в больших масштабах и на длительный срок в форме мировых «высокоразвитых культур». Их артефакты и культурные техники господства указывают на механизмы, которые Энафф считает характерными для культурного, владеющего техникой и языком, жестокого животного, то есть для человека. Неслучайно немецкий философ и теоретик культуры Вальтер Беньямин, которому были одинаково чужды классическая идея прогресса и ее биологическое дополнение – стандартная теория эволюции, обратил внимание на этот варварский аспект культуры. «Варварство» всегда проявляется там, где дело идет о триумфе и господстве:
Любой побеждавший до сего дня – среди марширующих в триумфальном шествии, в котором господствующие сегодня попирают лежащих сегодня на земле. Согласно давнему и ненарушаемому обычаю, добычу тоже несут в триумфальном шествии. Добычу именуют культурными ценностями. […] Не бывает документа культуры, который не был бы в то же время документом варварства[22 - Беньямин В. О понятии истории / пер. с нем. С. Ромашко // Новое литературное обозрение. – 2000. – № 46. – С. 82.].
Жестокость – это тот момент, когда другой становится добычей и вместе с тем демонстрационным образцом, фетишем абсолютной власти или даже полного подчинения. В этом контексте нельзя не отметить, что западная культура охотно открывала искусственную жестокость в иных, восточных культурах – одно из положений критического дискурса об ориентализме, разработанного американским литературоведом Эдвардом Вади Саидом[23 - Саид Э. В. Ориентализм. Западные концепции Востока / пер. с англ. А. В. Говорунова. – СПБ.: Русский мир, 2006.]. Мы находим соответствующие примеры в «Лекциях по философии истории»[24 - Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории / пер. А. М. Водена. – СПб.: Наука, 2000.] Гегеля (который, в числе прочего, ссылается на Геродота), в уже упомянутом романе Флобера и в работе австрийского и британского писателя Элиаса Канетти «Масса и власть»[25 - Канетти Э. Масса и власть / пер. Л. Г. Ионина. – М.: Ad Marginem, 1997.]. Когда Канетти обращается к образу ничем не ограниченного властителя, он говорит в основном о мусульманских правителях. Это может быть связано с известной потребностью в пространственно-временном отчуждении, которое открывает возможности для рефлексии, делая понятным свое через взгляд на чужое. Так, Канетти последовательно избегает любых упоминаний о европейских диктаторах XX века и тем не менее предполагает, что его выводы об иных культурных мирах могут быть применены и к его собственному. В то же время вторая часть исследования Канетти, посвященная власти и правителю, вызывает у нас тревожное ощущение из-за характерного ориентализма, который всегда находит утонченное насилие в других культурах, не замечая его в своей собственной (см. главу 5).
IV. Психологические парадоксы
Мнение о том, что культурный человек особенно склонен к жестокости, является проблемой для психологии, политическим вызовом и серьезным теоретическим испытанием. В этой связи следует упомянуть комплексное междисциплинарное исследование психолога Оксфордского университета Кэтлин Тейлор, которая в разделе об аргентинских desaparecidos («пропавших без вести») сухо замечает: «Люди пугающе изобретательны, когда дело доходит до избиения и убийства других людей»[26 - Kathleen Taylor, Cruelty. Human Evil and the Human Brain, Oxford, 2009. – S. 2.].
Показательны статистические данные об актах насилия, приводимые Тейлор со ссылкой на Справочник по насилию США за 2005 год[27 - Taylor, Cruelty. – S. 2.]. Согласно им, 65,3 % зарегистрированных актов насилия совершаются мужчинами против мужчин, 22,7 % – мужчинами против женщин, 9,6 % – женщинами против мужчин и 2,4 % – женщинами против женщин. Таким образом, насильственные действия, совершенные женщинами, составляют немногим более 10 %, тогда как сопоставимые насильственные преступления, совершенные мужчинами, – около 90 %. Если учесть, что с 1976 по 2003 год в среднем 76,5 % насильственных действий совершалось мужчинами против мужчин и 12,3 % – мужчинами против женщин, то можно отметить рост насилия в отношении женщин и снижение насилия в отношении мужчин[28 - Taylor, Cruelty. – S. 2.].
С этим выводом мы включаемся в социально-политическую дискуссию, касающуюся главным образом позиции женщины в обществе. Официальная статистика, которой пользуется Тейлор, относится исключительно к юридически установленным актам насилия. Она также показывает степень чувствительности либеральных постмодернистских обществ, в которых все чаще положительно воспринимается и санкционируется систематическое применение насилия. При этом статистика не учитывает данные по бытовому насилию, которое не наказывается (или не подлежит наказанию) по закону.
У жестокости два лица, субъективное и объективное, в ней соединяются чаще всего возвышенное и скрытое намерение и грубая реальность – физически и психологически травмированный человек. Помимо этого, следует различать дискурсы жестокости и часто замалчиваемое преднамеренное насилие.
Статистика подталкивает к общему выводу или, выражаясь более осторожно, к гипотезе о существовании специфической мужской предрасположенности к жестокости. Естественным образом возникает вопрос: является ли такая предрасположенность универсальной и биологически обусловленной или она представляет собой следствие определенной социокультурной организации власти, в рамках которой мужчины обладают привилегией/монополией на осуществление преднамеренного насилия?
Вывод Тейлор, несомненно, имеет отношение и к дискурсивной истории жестокости. Не случайно почти все теоретики, отдающие должное жестокости как творческой силе, являются гинофобами[29 - Гинофобия, или гинекофобия, – навязчивый страх женщин, вид специфической социофобии. – Прим. ред.]. По их мнению, женщины не являются в полной мере людьми, потому что они не способны на открытую жестокость, а скорее совершают ее тайно, используя ее как психологический трюк, как злую интригу против мужчины или соперницы. Таким образом, в этих дискурсах в принципе существует возможность позитивного определения мужской идентичности через способность к холодному насилию, как, например, у немецкого мыслителя Эрнста Юнгера с его идеей рабочего – воина нового технического мира (см. главу 3). В таком случае конституирование идентичности фактически происходит путем различения и исключения – через негативное отделение от якобы слабой женщины. Кэтлин Тейлор считает, что утверждение о наличии столь сильной связи проблематично ввиду огромного множества точек зрения на этот феномен[30 - Taylor, Cruelty. – S. 8.]. Она пытается учесть эту сложность, объединяя выводы биологов и исследователей мозга с наработками представителей гуманитарных наук, в частности историков культуры, и намеренно упуская из виду напряжение, которое возникает между универсализирующей, аисторической биологической антропологией и психоаналитически фундированным культурно-историческим подходом.
Кэтлин Тейлор выдвигает три значимых тезиса. Первый тезис заключается в том, что, в отличие от воровства или мошенничества, которые мы, понятно, осуждаем, жестокость имеет моральный вес, которому трудно противостоять, даже если мы реагируем на это с отвращением[31 - Taylor, Cruelty. – S. 5: «Мы можем осуждать пренебрежение или воровство, выражать ярость по отношению к лжецам и обманщикам или негодовать по поводу сексуальных практик других людей, но мы, вероятно, признаем, что не все согласятся с нашими представлениями о неправильном поведении или извращениях. Жестокость, однако, несет в себе моральный груз, которому трудно противостоять».]. По мнению Тейлор, жестокость является воплощением всего человеческого зла, с которым, разумеется, едва ли возможно справиться; при этом с дискурсивной точки зрения cтатус чрезмерного насилия всегда является спорным[32 - Taylor, Cruelty. – S. 5. Здесь также представлена дополнительная литература, касающаяся уничтожения коренного населения в Никарагуа.]. Второй тезис подчеркивает стратегический и рациональный характер мучительной расправы. Ссылаясь на исследование британского историка Лоуренса Риса об «окончательном решении» еврейского вопроса национал-социалистами[33 - Рис Л. Освенцим: нацисты и «окончательное решение еврейского вопроса» / пер. с англ. А. Ивахненко. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2017.], исследовательница пишет: «Преступники точно знают, что они делают»[34 - Taylor, Cruelty. – S. 6 f.]. Тейлор рассматривает этот вопрос в общем плане, заявляя, что по большому счету жестокость совершается не безумцами или «прирожденными» злодеями. Жестокость, говорит она, рациональна, в ее основе лежит расчет. В момент совершения злодеяния преступник видит выгоду в том, чтобы мучить другого[35 - Taylor, Cruelty. – S. 6 f: «[…] Жестокость, по большому счету, не является уделом безумцев или прирожденных злодеев. Напротив, многие жестокие поступки рациональны, то есть совершаются по причинам, которые в тот момент казались преступнику благовидными, и совершаются они такими же людьми, как мы с вами».]. В определенной ситуации каждый из нас может оказаться на месте этого преступника[36 - Taylor, Cruelty. – S. 10.]. Третий тезис касается идеи, которая также играет ключевую роль в размышлениях американского философа Джудит Батлер о языке ненависти (hate speech)[37 - Judith Butler, Hass spricht. Zur Politik des Performativen. Frankfurt / Main, 2006.]. Если в теории речевых актов речь анализируется как форма действия или в связи с действием, то, очевидно, речевую агрессию наряду с физической следует рассматривать как насильственный акт. Тейлор цитирует стихотворение Генриха Гейне, где лирический герой был бы счастлив увидеть политического противника повешенным на дереве:
Я человек самого мирного склада. Вот чего я хотел бы: скромная хижина, соломенная кровля, но хорошая постель, хорошая пища, очень свежие молоко и масло, перед окном цветы, перед дверью несколько прекрасных деревьев, и, если Господь захочет вполне осчастливить меня, он пошлет мне радость – на этих деревьях будут повешены этак шесть или семь моих врагов. Сердечно растроганный, я прощу им перед их смертью все обиды, которые они мне нанесли при жизни. Да, надо прощать врагам своим, но только после того, как их повесят[38 - Гейне Г. Собрание сочинений: в 10 т. – Т. 9. Мысли, заметки, импровизации / пер. с нем. Е. Лундберга. – М.: ГИХЛ, 1959. – С. 143. См.: Freud, Das Unbehagen, 2016. – S. 85.].
Я не мстителен – я очень хотел бы любить своих врагов; но я не могу их полюбить, пока не отомщу, – только тогда открывается для них мое сердце. Пока человек не отомстил, в сердце его все еще сохраняется горечь[39 - Гейне Г. Мысли, заметки, импровизации. – С. 143–144.].
Эти цитаты из гейновских «Мыслей, заметок, импровизаций» демонстрируют потрясающую самоиронию и юмор. В этом отношении поэт представляет альтернативу всем тем запрещающим механизмам, которые в наше время действуют под маркой политкорректности, направленным на борьбу с агрессивными словами и фразами и тем самым создающим иллюзию отстранения от мира. Подобный нелиберальный и наивный подход имеет целью обособление другого, которому предписывается, как он должен говорить, что не только само по себе является агрессивной реакцией, но и исключает символическую переработку и рефлексию. Напротив, радость Гейне возникает потому, что недопустимое действие замещается языковым реагированием, фантазией о насилии. Его подход разительно отличается от первого, поскольку, признавая собственную склонность к жестокости, лирическое Я сублимирует ее в литературном образе и тем самым в значительной степени затормаживает ненависть.
Иначе дело обстоит, например, с лишенной какой-либо иронии речевой агрессией в отношении иммигрантов. С точки зрения анализа дискурса, как его понимает Мишель Фуко, это означает, что те преимущественно нехудожественные дискурсы, которые с риторическим блеском пропагандируют насилие и жестокость, сами потенциально являются элементами языка ненависти[40 - Taylor, Cruelty. – S. 7: «[…] различие между тем, кто бросает оскорбления в адрес иммигранта, и тем, кто избивает иммигранта до смерти, – это различие в степени, а не по существу».]. Они формируются в том числе за счет исключения всех тех слабых духом людей, которые, по Бенну, не хотят признавать реальность насилия. Такая революционная пьеса, как «Высшая мера» Бертольта Брехта, поддерживающая безжалостное уничтожение предателей[41 - См.: Eva Horn, Sterbt, aber lernt. Thanatopolitik in Brechts Lehrst?cken, M?nchen, 2008.], также должна рассматриваться в логической связи со всеми теми мерами, которые были приняты на «московских процессах» (см. главу 9). По мнению немецкого культуролога и филолога Евы Хорн, эту «танатологию» можно выразить словами Брехта:
Мы ничем не можем вам помочь.
Только напутствие
Мы можем дать вам:
Умирайте, но учитесь.
Учитесь тому, что не есть ложь[42 - Bertolt Brecht, Das Badener Lehrst?ck vom Einverst?ndnis / Die Rundk?pfe und die Spitzk?pfe / Die Ausnahme und die Regel. Drei Lehrst?cke, Frankfurt/Main, 1975. – S. 21.].
V. Рационализация
Кэтлин Тейлор, психолога с естественно-научной подготовкой, интересуют прежде всего мотивы, стоящие за жестокостью, и в меньшей степени дискурсивные практики, придающие ей правдоподобие и легитимность. Она понимает жестокость как «насилие в квадрате», причины которого варьируются от дегуманизации другого, его социального уничтожения, негативных и агрессивных образов людей из других культур до социального остракизма, желания исключить другого/других из собственной группы. Во всех этих мотивах центральное значение для Тейлор имеет коллективный момент. В этой связи она также подчеркивает значение инаковости для понимания динамики нарастания, которая делает жестокость формой насилия в квадрате[43 - См.: Charles Mackay, Selections from Extraordinary Popular Illusions and the Madness of the Crowds, London, 1973; James Miller, Carnivals of Atrocity. Foucault, Nietzsche, Cruelty, in: Political Theory 18. – S. 470–491.].
Инаковость важна, поскольку порождает превосходство просто за счет унижения другого; при этом собственный статус сильного человека поднимается до такой степени, что, кажется, теперь для него возможно беспрепятственное применение насилия. В этом отношении, по мнению Тейлор, акт агрессии непроизвольно подтверждает переоценку собственной значимости[44 - Taylor, Cruelty. – S. 8: «Необоснованное мнение о нашей собственной значимости в масштабе мироздания».]. В частности, важность статуса, чести, достоинства и превосходства при конструировании образа другого/других существенно возрастает во время кризиса. В такой ситуации запускаются определенные формы радикального насилия, для которого характерен квадратичный, экспоненциальный рост. Согласно Кэтлин Тейлор, психологическая ловушка заключается в том, что другие всегда воспринимаются как угроза. Они – зло, с которым нужно бороться, и это оправдывает мобилизацию нашей готовности к применению насилия.
Чем, спрашивает Тейлор, привлекательны Медея и Орест? Тем, что их мотивы – честь и месть – понятны в контексте кризиса, даже если их поступки как таковые не могут быть оправданны. Чужая культура и любимый мужчина отказываются принять Медею – на это оскорбление она реагирует радикальным актом убийства. Для нас она по-прежнему остается примером трагической идентификации: обстоятельства вынудили ее убить своих детей, чтобы наказать мужа. К этой интерпретации можно добавить, что поступок Медеи представляет собой антипатриархальное выступление, которого не ожидают от женщин в мире, где управляют мужчины. Когда месть и возмездие за нанесенную обиду включают момент усиления, они приближаются к жестокости. Не случайно говорят, что человек жестоко мстит тому, кто его обидел и причинил ему боль. При этом едва ли имеет значение, является эта травма реальной или только воображаемой.
Шаткую логику, на которой основывается враждебное отношение к другим, Тейлор, ссылаясь на исследование религиоведа Дэвида Франкфуртера[45 - David Frankfurter, Evil Incarnation. Rumors of Demonic Conspiracy and Satanic Abuse in History, Princeton, 2006. – S. 6–12.], описывает следующим образом:
Другой является враждебным и недружественным, угрожающим нашему существованию и идентичности. Он находится вне пределов нашей власти, мы не можем повлиять на его поведение. Другой не похож на нас. Доброта и сочувствие к нему не могут помочь. Другой – это не чума и не землетрясение, это агент, который стремится причинить нам боль, вред и уничтожить нас. Поскольку эта угроза настолько серьезна, разрешается использовать все средства для нейтрализации этого субъекта[46 - Taylor, Cruelty. – S. 10.].
Для Тейлор важно, что здесь как бы в перевернутом виде предвосхищаются собственные действия: тот, кто хочет быть жестоким, стремится причинить боль и уничтожить другого, поэтому предполагает, что другой хочет причинить или якобы уже причинил ему зло. Человек конструирует свое собственное действие как необходимый ответ на предыдущее действие. Все теории заговора пользуются этой возможностью для облегчения вины и мобилизации агрессии. Как мы уже отмечали, статус, честь, достоинство и превосходство играют особенную роль в процессе конструирования другого/ других в кризисные моменты, когда формируются определенные практики радикального насилия, которое в результате кратного усиления становится жестокостью. Соответственно, возникновение жестокости связано с социальными и культурными факторами: она оказывается эффективной только в очень специфических ситуациях – в ходе гражданских войн, национальных, этнических или групповых конфликтов. Целенаправленное насилие вызывает равную по силе реакцию и обеспечивает дискурсивную легитимацию коллективных пыток и убийств. В этом контексте Тейлор приводит диалог из «Илиады» Гомера, в котором Агамемнон подчеркивает обязанность быть безжалостным:
Чтоб никто не избег от погибели черной
И от нашей руки! Ни младенец, которого матерь
Носит в утробе своей, чтоб
И он не избег![47 - Гомер. Илиада / пер. с древнегреч. Н. И. Гнедича // Илиада. Одиссея. – М.: Художественная литература, 1969. – С. 150.]
Кроме этого, концепция Кэтлин Тейлор включает в себя интересный медиальный аспект, который может быть плодотворным для истории понятия жестокости. Соответственно последняя понимается как «несправедливое отношение, произвол, направленный на причинение страданий невинной жертве. Нередко это подразумевает участие наблюдателей, которые испытывают негодование против обидчика и жалость к жертве»[48 - Taylor, Cruelty. – S. 22.]. Таким образом, в акте жестокости, как правило, участвуют три стороны: преступник, жертва и реальный или виртуальный зритель. В этих дискурсах и диалогах борьба разворачивается также вокруг дистанции и сопереживания. По мнению Тейлор, сострадание к жертве может сдерживаться двумя обстоятельствами: негативными и несовместимыми друг с другом чувствами и эмоциями по отношению к жертве или дискурсивными концептами, убеждениями, в которых ставится под сомнение связь между сопереживанием и жертвой, а сострадание представляется как морально сомнительное (приведенная цитата из «Илиады» Гомера)[49 - Taylor, Cruelty. – S. 188.].
Моральные кодексы и идеологии, в основе которых лежат четкие бинарные оппозиции, располагают соответствующим потенциалом для того, чтобы сделать жестокость в обществе само собой разумеющейся, превратив ее в приемлемый и даже предпочтительный способ поведения[50 - Taylor, Cruelty. – S. 189.]. Согласно Тейлор, такие идеологии могут включать оправдание того, что на самом деле, в нормальной ситуации, не подлежит оправданию. Изучая этот механизм, мы приходим к ответу на главный вопрос: «Почему люди поступают жестоко, если знают, что жестокость – это зло?»[51 - Taylor, Cruelty. – S. 184 ff.] Тейлор обосновывает идею о том, что жестокость, очевидно, основывается на концепции «морали», связанной с такими моментами, как наказание, оправдание и ответственность[52 - Taylor, Cruelty. – S. 41: «Жестокость, несомненно, является моральной категорией, тесно связанной с такими категориями, как наказание, оправдание и ответственность».]. Дискурсы такого рода имеют в высшей степени драматическую структуру: мы ведем войну за выживание нашего народа. Мотив войны отсылает к драматическому, предельно обостренному противопоставлению (или-или), к структурному аспекту повествования. Бинарный нарратив заговора, которым пользовались национал-социалисты, например Генрих Гиммлер в своей печально известной речи в Познани об «окончательном решении еврейского вопроса», следует именно этой схеме: мы вступаем в последний бой с еврейско-большевистским мировым заговором[53 - Taylor, Cruelty. – S. 58. Также см.: Речь рейхсфюрера СС Г. Гиммлера о войне на Востоке, произнесенная перед рейхсляйтерами и гауляйтерами в Познани. Тезисы Г. Гиммлера к выступлению / пер. с нем. К. А. Филимоновой // Федеральный архивный проект. Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Режим доступа: https://victims.rusarchives.ru/iz-vystupleniya-reykhsfyurera-ss-g-gimmlera-v-poznani-pered-reykhslyayterami-i-gaulyayterami-o-voyne]. Нарратив заговора функционирует как символическая форма самоутверждения и самосохранения. В связи с этим возникает вопрос об оправдании целенаправленного коллективного насилия. Главным побудительным мотивом холодной расчетливой жестокости является защита отдельным человеком или коллективом своей раздувшейся самости.
Когда чувство вины нейтрализуется, возникает обратная, позитивная, реакция: неприязнь к другому становится удовольствием, убийство – источником наслаждения. Тейлор пишет о возможности «наслаждаться актом убийства»[54 - Taylor, Cruelty. – S. 60.]. Если это проявляется слишком явно, в нас возникает ужас и отвращение[55 - Taylor, Cruelty. – S. 60: «Чем больше мы понимаем значение садистских мотивов в жестоком обращении с человеком, тем выше вероятность того, что мы не только осудим последнее из моральных оснований, но сделаем это с сильным негодованием и отвращением к виновным».]. С точки зрения психологии в этом процессе пересекаются бессознательные и сознательные, рациональные и либидинальные моменты. Итак, согласно Тейлор, существует ряд факторов, подталкивающих к жестокости, – чаще всего они встречаются в определенной комбинации, – это идеология и религиозные традиции, месть, страх, тревога и отвращение. Речь идет об экзистенциальном страхе, социальной власти, статусе, обычаях, целях, защите. В этом случае общим является ощущение, что собственная идентичность находится под угрозой[56 - Taylor, Cruelty. – S. 195–200.].
VI. Насилие и власть
Исследование Кэтлин Тейлор, в котором не всегда проводится четкое различие между насилием и жестокостью, проливает свет на сопутствующие им навязчивые идеи с психологической точки зрения. Тема настоящей книги – жестокость в ее дискурсивном аспекте – в работе Тейлор возникает тогда, когда тот или иной дискурс приглушает или усиливает жестокость, поощряет ее или сводит на нет. При этом нераскрытой остается связь между насилием и властью.
Вслед за Ханной Арендт мы будем различать насилие и власть в том смысле, что первое имеет процессуальный, динамичный и временной характер, тогда как вторая обладает структурой, постоянством и, что почти одно и то же, существует в форме институтов. Насилие является дополнением власти, поскольку, как отмечал Мишель Фуко, оно основано на системе возможных физических и/или психологических наказаний, которая образует как бы символический горизонт власти. То, что Фуко называет политическим телом, в некотором смысле проясняет его взгляд на соотношение власти и насилия[57 - Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / пер. с фр. В. Наумова. – М.: Ad Marginem, 1999. – С. 37–47.]. Но и независимо от выводов французского мыслителя есть подозрение, что власть, основанная исключительно на терроре и насилии, не может оставаться стабильной в течение более или менее долгого времени, а целенаправленное применение насилия свидетельствует о слабости политической элиты.
Тот, кто часто применяет насилие, беспокоится о сохранении собственной власти и стремится уничтожить всех – как реальных, так и воображаемых – врагов. Понятно, что насилие формирует горизонт власти, но оно же и угрожает ей: серия неконтролируемых насильственных действий разрушает авторитет власти как максимально надежной контролирующей инстанции. Скорее, насилие приводит к противоположности задуманному, создавая прямую угрозу действующему властному порядку. В этом смысле существование любой формы власти обеспечивается за счет ее принудительного или добровольного принятия социальным субъектом.
Исходя из этого, жестокость в политической сфере в первом приближении можно понять как форму разросшегося насилия, поддерживающего власть. Но ограничивать описание жестокости только этим было бы неверно. Эта форма насилия, для которой характерно парадоксальное обращение к другому, несомненно, включает нарциссический аспект. Она не только методично решает свою задачу, но существует за счет знания о боли, которую причиняет другому человеку. Извращенный характер такого насилия заключается в том, что оно предполагает определенную чувствительность со стороны преступника, но в то же время подводит к тому, чтобы мучить другого или других. В разговорной речи перверсия значит «извращение». Это точно отражает то, что происходит на психологическом уровне. Отсюда чрезмерность садистской жестокости. Фактически, как следует из формулы Марселя Энаффа «насилие в насилии», тем самым совершается потенцирование насилия.
VII. Terreur[58 - Террор (фр.). – Прим. пер.], или Субъект задает себя сам
Вопреки своему названию, эссе немецкого журналиста Хеннинга Риттера «Крики раненых» посвящено в первую очередь мыслителям, стремившимся положить конец политической жестокости[59 - Henning Ritter, Die Schreie der Verwundeten: Versuch ?ber die Grausamkeit, M?nchen, 2013.]. В исследовании Риттера центральное место занимает насыщенный событиями XIX век, идеологически подготовивший и предвосхитивший исторические катастрофы первой половины XX столетия. Автор описывает дилемму великого историографа Жюля Мишле: как защитить Французскую революцию, не оправдывая «систему уничтожения»[60 - Ritter, Die Schreie der Verwundeten. – S. 29.], началом которой стала казнь короля, а кульминацией – период террора. Мишле с самого начала видит «недостаток Революции в том, что она отказала королю в сострадании и прощении»[61 - Ritter, Die Schreie der Verwundeten. – S. 40.]. Мишле гордится «слезным даром»[62 - Ritter, Die Schreie der Verwundeten. – S. 40 f.] и говорит о засухе и пустыне, оставшихся после якобинского террора[63 - Якобинский террор – массовые аресты и казни, происходившие во Франции в 1793–1794 годах во время гражданской войны. Для борьбы с несогласными Конвент (состоящий из участников Якобинского клуба) принял закон «о подозрительных», который позволял арестовать любого, кто не мог доказать свою верность новому правительству. – Прим. ред.].
Мишле берет на себя роль зрителя и наблюдателя, то есть, согласно концепции Кэтлин Тейлор, третьей стороны в жестоком событии. Как исторический наблюдатель, Мишле явно отождествляет себя с жертвами и, подобно Георгу Бюхнеру, обрушивает свой гнев на преступников, хотя фактически принимает их революционный дискурс. Как могут сочетаться провозглашение прав человека и коллективное убийство невинных людей? Этот непростой вопрос Риттер ставит в отношении будущего жестокости и ее нейтрализации. В то же время это повод для диалога с французским историком.
Эссе Риттера о Максимильене Робеспьере, одном из лидеров якобинцев, и наблюдателе Мишле подтверждает точку зрения Тейлор о том, что жестокость сама по себе может быть моральным понятием: в ее основании лежит заповедь об убийстве, которую также можно назвать жестокой, поскольку она лишает убитого человека всякой моральной репутации. Не без оглядки на Мишле, описывающего последние часы жизни Робеспьера как конец Революции, Риттер сосредотачивается на самом известном представителе «безжалостного якобинского террора» и характеризует его как «тип исполнителя, который вновь появится в XX веке, всерьез воспринимающего призыв „от слов к действиям“»[64 - Ritter, Die Schreie der Verwundeten. – S. 38 f.]. Неприметный, скромный, неподкупный человек, он мог бы закончить жизнь простым адвокатом где-то во французской глубинке, но вместо этого он неожиданно вырывается вперед, становится революционером и государственным террористом, который вместе со своими соратниками борется за право на террор и устрашение, чтобы продвигать дело революции назло своим врагам. Неумолимость строгой морали, а не ее дефицит, в итоге делает Робеспьера, наряду с Луи Антуаном де Сен-Жюстом, самой кровавой фигурой Французской революции. Эта неумолимость, как пишет Риттер, сочетается с «жаждой чистоты», с «мыслью о страшном, всеобщем, абсолютном очищении»[65 - Ritter, Die Schreie der Verwundeten. – S. 30.]. Чтобы установить новый порядок, необходимо героическое насилие, справедливое уничтожение врагов, деяние, наводящее страх и ужас на наблюдателей. Те, кто призывает к умеренности, автоматически становятся противниками, поскольку они отвергают мораль жестокости во имя чистоты. Недостаток радикализма – их реальная вина и их «объективное» преступление против нравственности. То, что сам Робеспьер становится жертвой, укладывается в логику спирали насилия, развязанной в эпоху террора. Развитие этой логики и системы добродетелей может быть остановлено только смертью их создателей.
Отсюда видно, что в данном контексте складывается тип дискурса, в котором заметную роль играют пафос и абсолютизация «добродетели». Это относится как к якобинцам, так и к большевикам и их карикатурному образу – Сталину. Исламская революция в Иране в 1979 году также с самого начала проходила под знаком блюстителей добродетели: революционеры пытались навязать обществу свои прогосударственные, религиозно обоснованные ценности с помощью террора и устрашения и преуспели в этом. Terreur как неотъемлемая часть Французской революции – ключевая тема для Риттера, поскольку она касается вопроса о роли жестокости в современную эпоху. Признание прав человека подразумевает программу полного прекращения террора в коллективно-государственной и революционно-политической формах. Это драматический и, соответственно, театрально инсценированный разрыв как с прошлым старого режима, так и с логикой жестокости, действовавшей с момента возникновения высоких культур. Теперь эта же логика в измененном виде ставится в центр революции, которая провозглашает ее от имени Просвещения.
С этим неудобством и двусмысленностью революционного наследия имеет дело не только Жюль Мишле, но и писатель и политический деятель Бенжамен Констан, чей либерализм направлен именно на предотвращение и прекращение революционного террора, и аристократ Алексис де Токвиль, который с самого начала вынужден констатировать contre cCur[66 - Неохотно (фр.). – Прим. пер.], что более демократическое и равное общество в его понимании совершенно неожиданным образом складывается не в Европе, а в Северной Америке. Политическая умеренность и уменьшение агрессии, провоцирующей готовность к насилию, идут рука об руку. Поэтому необходимо создать автономные институты, «защищенные от деспотизма и тирании»[67 - Ritter, Die Schreie der Verwundeten. – S. 51.]. Таким образом, либеральная позиция, наследница революции, занимает узкое, неприглядное место между двумя враждебными лагерями – реакционным и революционным, который, в свою очередь, как показал пример terreur, также стремится к деспотизму и тирании. Либералы хотят сохранить достижения революции и в то же время положить конец насилию, исторически сопровождавшему ее. Избегая измов[68 - Измы – общее ироническое название ультрасовременных модных направлений в философии и искусстве. – Прим. ред.], можно утверждать – и это наверняка немаловажно в то время, когда либерал открыто подвергается политическому давлению, – что такие позиции и дискурсы обладают устойчивостью к жестокости и психологической резилентностью[69 - Психологическая резилентность – врожденное динамическое свойство личности, лежащее в основе способности преодолевать стрессы и трудные периоды конструктивным путем. – Прим. ред.]: наряду со «слезным даром», который Риттер в своей книге представляет на примерах философа Артура Шопенгауэра и основателя Красного Креста Анри Дюнана, сюда относятся отказ от поляризующей риторики, дух примирения и готовность к компромиссу и, кроме этого, способность видеть различия. Однако именно отсутствие радикализма и мягкость вызывают насмешки их критиков как слева, так и справа. Поэтому подход Риттера также следует понимать как призыв к открытости и либеральности, которые он рассматривает как противоядие от жестокости XIX и XX веков. По мнению американского философа Ричарда Рорти, ироничный либерал боится не только чужого, но и своей собственной способности к насилию[70 - Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность / пер. с англ. И. Хестановой, Р. Хестанова. – М.: Русское феноменологическое общество, 1996. – С. 103–130.]. «Лучший способ причинить людям долго не проходящую боль – унизить их, представив все то, что кажется им самым важным, как пустое, ветхое и бессильное», – пишет Рорти, ссылаясь на американского политолога Джудит Шкляр[71 - Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. – С. 123–124.].
VIII. Историко-культурный и историко-литературный подходы
Жестокость – сложное и многогранное явление. Она принимает различные формы и по-разному проявляется в истории, начиная с первых цивилизаций, затем в европейском и, возможно, арабо-османском обществах в Средние века вплоть до современности. В разных книгах и антологиях по истории культуры и мысли приводятся различные наборы текстов. Полиморфизм crudelitas[72 - Жестокость (лат.). – Прим. пер.] отражается и в исследовательской литературе, где жестокость в целом характеризуется как специфическая потенцированная форма насилия.
Исследование профессора Джоди Эндер – возьмем в качестве примера одну из работ – посвящено жестокости в Средние века. Автор рассматривает пытки и истязания как наследие античности. Подобные формы систематического травмирования и зачастую произвольных расправ практикуются в рамках законного стремления к познанию истины, заложенного в классической риторике как вид испытания и наказания, осуществляемого более сильным над более слабым и предполагающего зрелище и удовольствие зрителей[73 - Jody Enders, The Medieval Theater of Cruelty. Rhetoric, Memory, Violence, New York, 1999. – S. 3: «Европейское Средневековье восприняло классическую риторическую традицию, в которой пытка рассматривалась как герменевтический законный способ поиска истины, способ доказательства, форма наказания, применяемая более сильными к более слабым, как жанр зрелища или развлечение».]. Этот дискурсивный режим, как и все остальные, порождает форму оправдывающей его культурной самоочевидности.
В работе американской писательницы и профессора эстетики Элейн Скарри, которая посвящена Средним векам и опирается, в частности, на труды Алека Меллора, Генри Ли, Эдварда Питерса, Пьеро Фиорелли, Пейджа Дюбуа, Кеннета Берка, Жака Деррида, Жиля Делеза и Феликса Гваттари, также рассматривается преимущественно физическая боль[74 - Elaine Scarry, Body in Pain. The Making and Unmaking of the World, Oxford, 1985.]. Центральный тезис исследования заключается в том, что организованное насилие создает фантастическую иллюзию власти. С точки зрения Скарри, публичные пытки до начала Нового времени, то есть до возникновения современной системы надзора, описанной Мишелем Фуко, представляли собой гротескный пример компенсаторной драмы[75 - Scarry, Body in Pain. – S. 7, 21.]. Последняя выполняла функцию риторической схемы, запускающей механизм катарсиса[76 - Scarry, Body in Pain. – S. 8, 235.].
Теоретическое исследование о жестокости французского философа Клемана Россе, в котором обсуждаются тексты Марселя Пруста и Эрнесто Сабато, философские концепции Лукреция, Эпикура, Монтеня, Паскаля и Леопарди, бесспорно, находится в тени Фридриха Ницше и маркиза де Сада. Россе, в частности, утверждает, что теория должна быть непримиримой по отношению к своему создателю[77 - Clement Rosset, Joyful Cruelty. Toward a Philosophy of the Real, Oxford, 1993. – S. 70: «Я хочу быть резким и сухим и ничего не украшать. Теория должна быть безжалостной и оборачиваться против своего создателя, если тот не относится жестоко к самому себе». Ср.: Деррида Ж. Письмо и различие / пер. с фр. А. Гараджи, С. Фокина, В. Лапицкого. – СПб: Академический проект, 2000. – С. 293–316.]. Тем самым значение жестокости смещается в сторону невозмутимости и ясности, как и у Жака Деррида в его интерпретации театра жестокости Антонена Арто. Арто призывает нас «понимать под словом „жестокость“ лишь „строгость, неумолимое решение и претворение“, „необратимую решимость“, „детерминизм“, „подчинение необходимости“ и т. п. – вовсе не обязательно „садизм“, „ужас“, „кровопролитие“, „распятие врага“»[78 - Деррида Ж. Письмо и различие. – С. 302.].
Клеман Россе представляет реальное как бессмысленное и сущностно связанное с молчанием. Его этика построена на двух принципах – карающей реальности и неопределенности. Жестокость в его глазах не является чем-то исключительным: французский мыслитель видит в ней динамичную, болезненную и трагическую природу самой реальности – грубой, то есть сырой, кровавой и отталкивающей[79 - Rosset, Joyful Cruelty. – S. 76.]. В ней заключено жестокое и действенное наказание для человека: подобно смертному приговору, который совпадает с исполнением и лишает осужденного времени, необходимого, чтобы он мог попросить пощады, реальность игнорирует и пресекает любую просьбу о помиловании[80 - Rosset, Joyful Cruelty. – S. 76 f.].
В своем исследовании, посвященном жестокости в современной литературе, профессор литературы Кэтрин Тоал разрабатывает идеи Россе и Арто[81 - Catherine Toal, The Entrapments of Form. Cruelty and Modern Literature, New York, 2006.]. Важность ее работы состоит, среди прочего, в том, что она вводит в контекст своих размышлений и разбирает взгляды античных философов, таких как Сенека, Цицерон или Аристотель, и средневековых теологов, в частности Фомы Аквинского. Вместе с тем Тоал ссылается на фундаментальные работы Джудит Шклар[82 - Judith Shklar, Ordinary Voices, Cambridge/Mass 1984. Judith Shklar, Punishing Cruelty. Cruelty and Mercy. Criminal War und Philosophy (2004), Harvard Public Law Working paper 08–04. – S. 7–18.].
В фиксированный литературный корпус этого дискурса входят: «Левиафан» (1651) Томаса Гоббса, «Трактат о терпимости» (1713) Вольтера, «Опыт о достоинстве и добродетели» (1699) Шефтсбери, «О пенитенциарной системе в Соединенных Штатах и ее применении во Франции» (1833) Алексиса де Токвиля и Гюстава де Бомона, «Философия в будуаре» (1745) и «Жюльетта» (1797) маркиза де Сада, «Бенито Серено» (1855) Германа Мелвилла, «Поворот винта» (1898) Генри Джеймса, «Песни Мальдорора» (1869) Лотреамона, а также сочинения Эдгара Алана По и Шарля Бодлера. В центре внимания этого и других исследований – эстетическая трансформация жестокого в литературе.
Наконец, следует упомянуть эссе современных теоретиков Ивана Каллуса и Стефана Хербрехтера[83 - Ivan Callus, Stefan Herbrechter, Humanism without Itself. Robert Musil, Giorgio Agamben and Posthumanism, in: Andy Mousley (Hg.), Towards a New Literary Humanism, London, 2011. – S. 143– 58.], вошедшее в коллективный труд под редакцией Энди Моуслея, который, в свою очередь, выступает против эстетизации жестокости и призывает к новому литературному гуманизму[84 - Andy Mousley (Hg.), Towards a New Literary Humanism, London, 2011. – S. 1–19.].
Выделяя эти работы из огромного числа публикаций, не всегда относящихся к строго определенной теме, и перечисляя их, мы имеем в виду исключительно прагматические, а отнюдь не полемические цели. В задачи нашего исследования не входит подробное и систематическое рассмотрение этических и эстетических проблем, связанных с репрезентацией чрезмерного и постановочного насилия в том виде, в каком они представлены в литературоведении. Иными словами, мы не касаемся вопроса о том, следует ли и как именно оценивать литературную или кинематографическую репрезентации насилия: в смысле катарсического воздействия или как выражение сочувствия жертве; или как непременное удвоение насилия; или же как изысканное представление, использующее разрушительный литературный вымысел, чтобы показать обратную сторону мира, где, по идее, насилие не одобряется, хотя, очевидно, все еще практикуется.
Если мы обсуждаем литературные произведения, то делаем это с точки зрения философии и теории культуры, чтобы раскрыть их значение для эссеистической, движущейся по кругу мысли, которая ищет пробелы и противоречия, не охваченные концепциями жестокости.
IX. Краткая история дискурса жестокости. Методологический очерк
В нашем исследовании рассматриваются дискурсы, которые допускают жестокость, несмотря на то, что это весьма парадоксальное поведение для человека – конкретное, физическое знание о боли, причиняемой другим людям, – и, словно нажатием рычага, подавляют сострадание, столь высоко оцененное Мишелем де Монтенем, в отличие от стоиков. В этом смысле книга вносит вклад в теорию культуры: с помощью имманентного анализа философских и литературных текстов и метода медленного чтения в ней раскрываются дискурсы, составляющие основу культа жестокости. Мы приводим обширные выдержки из иностранных источников, чтобы вступить с ними в диалог и спор и дать возможность читателям стать участниками размышлений. При этом необходимо иметь в виду или, точнее говоря, сознавать несомненное притяжение, исходящее от насилия, которое отмечали такие мыслители, как Антонен Арто и Фридрих Ницше. Арто в своем определении пытается уйти от идеи грубого насилия. Он делает это явно с оглядкой на Ницше, который, принимая божественный праздник жестокости, стремится узаконить ее фактичность (см. главу 6).