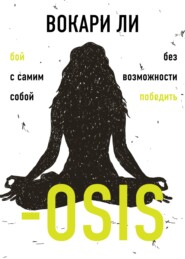скачать книгу бесплатно
–OSIS
Вокари Ли
RED. Современная литература #1
"-OSIS" – душа, вывернутая наизнанку, в которой каждый узнает себя. Цельная реальность, единая для каждого из героев, обретает для каждого из них особую форму, искажаясь уязвимостью психики. Их сознание образует из привычных образов череду сменяющих друг друга циклов, где никто никому не приходится даже отдалённым знакомым. Герои борются со внутренними демонами, но каждый раз возвращаются к витку тянущей на дно петли. Непохожие друг на друга люди объединяются сражением за свободу мысли и творчества, но как сложится их судьба, если в один из дней им придётся обнаружить врага внутри себя?
Комментарий Редакции: Экзистенциальный сборник с непривычным названием откроет свою суть только тем, кто действительно умеет видеть незримое, чувствовать невозможное и слышать самые тонкие материи. Как знать, может быть, вы – один из них?
Вокари Ли
–OSIS
Девочка, которая рано умерла
Ютящийся в углу коридора кабинет математики по праву считался самым неприятным местом в школе. Дети старались как можно дольше избегать его общества: переминались у дверей, стараясь не заглядывать внутрь, набивались в тесные кабинки туалетов и носились по коридорам, путаясь в ногах старшеклассников.
В кабинете не было ничего, помимо тухлого запаха, доносящегося от стен и пыльных шкафов. Выкрашенные в ядовито-зелёный стены сжимали воздух; от их кислотности сбегали даже парты, плотно прилипшие друг к другу ровными боками. Лишь изредка занозы цепляли нежность капроновых колгот. Старые книги за стеклянными стеллажами высовывали рёбра, прикладываясь к учительскому столу. Их ветхие кости хрустели, соприкасаясь с силой грузных рук.
Учитель математики, женщина лет сорока, незаслуженно прозванная «старушкой», носила массивные очки, которые то и дело сползали с её носа. Она поправляла их подушечкой пальца, линии которого, казалось, навечно забились меловой крошкой.
Из-под выпуклых стёкол выглядывали мелкие глазки, они бегали в поисках будущего отвечающего и не вызывали у ребят ничего, кроме отторжения, приправленного едва проскальзывающим сочувствием.
Ещё большее отвращение вызывала «странная девочка», сидевшая за первой партой. Ребята негласно дали ей такое нелепое прозвище; ни у кого не было тому никаких объяснений: девочка просто была чудачкой, носившей несуразные очки, окаймленные красным, и застиранный вязаный сарафан – его она, кажется, не снимала никогда. Пользуясь узорами её одежды, школьники могли изучать географию: белёсые подтеки удивительно напоминали оторвавшийся кусок Антарктиды. Даже учителя обращались к ней с долей брезгливости, цедя фамилию сквозь скученные зубы, будто та прогорклой ириской могла прилипнуть к языку и нёбу. Некоторые всё же относились к ней с пониманием: вероятно, видели в заляпанных пальцами очках что-то родное.
Девочка выписывала в толстую голубую тетрадь все впечатлившие её события. Например, совсем недавно она выделила отдельную колонку для случайно завалившейся под стол маковой булки. Когда девочка обводила слова цветной ручкой, на лице её играла загадочная улыбка.
Своими хрупкими пальцами, чуть подрагивающими от мельчайшего напряжения, она фанатично вырисовывала буквы. Почерк непослушно прыгал от строчки к строчке, паста размазывалась запястьем, оставляя на нём и окружающих предметах синеватые полосчатые кляксы. Девочке казалось, что чернила беспрекословно её слушаются.
Колонка «о завалявшейся булке» расположилась прямиком под главной заметкой недели: как-то вечером у её матери ужасно чесалось колено, из-за чего ночь оказалась неудобной и шумной. Девочка никак не могла заснуть и, разозлившись, коротко вписала черной пастой: «Проклятые комары». Рядом гордо расположился нарисованный простым карандашом комар. Ни его лица, ни мимики разглядеть было нельзя. Кривые лапки задевали текст, поэтому были беспощадно затёрты обрывком ластика. Чёрным девочка часто обозначала предчувствие смерти.
Несмотря на свои странности, она была добродушной и непонятливой, поэтому насмешки пропускала мимо ушей. Никто не слышал от неё ни единого грубого слова – это смирение производило множество слухов: сама того не ожидая, отвратительная девочка стала центральной фигурой отвратительного класса. Она ловко владела сознанием своих напыщенных сверстников, не прилагая к этому никаких усилий. Девочку мало заботила окружающая обстановка – мир заключился в всё более надувающейся тетради. Такая беспечность вызывала в обозлившихся детях ещё большую ненависть.
Девочка никому не позволяла прикоснуться к тетради, которую бережно выкладывала на угол стола, раз за разом сводя её контуры с контурами парты. Когда голубое пятно наконец занимало отведённую ему часть, она поднимала руки и всем телом вытягивалась вперёд – ни один любопытный нос не мог перейти воссозданное ограждение. Пальцы цеплялись за края стола, пошатывая его из стороны в сторону. Это сопровождалось скрипом, потрескиванием поднявшегося на дыбы линолеума и щёлканьем перекатывающихся по парте ручек.
Даже презрительно смотревших одноклассников удивляла почти полная неподвижность лежащих на столе вещей. За всё время чудачеств «странной девочки» ничто и никогда не касалось пола без позволения. В её жестах читалась непокорная властность.
С каждым днём одноклассники всё больше злились: что-то внутри говорило им о надвигающейся катастрофе. Однако никто из них не предпринимал активных действий, ограничиваясь хихиканьем и пустотой слов, которые рассеивались уже в момент своего зарождения.
Им приходилось наблюдать за порабощением со стороны. С определённого момента, который был безответственно упущен, их власть над творением истории была безвозвратно утеряна.
С негласной диктатурой вынужденно смирились и учителя. В их снисходительном тоне появилась опасливость и беспокойство – девочка смотрела на сменяющихся один за другим людей с нечитаемым выражением лица. Постепенно все вовсе перестали её понимать: плоскость её существования – или многомерное пространство – выталкивала из себя сторонних наблюдателей. Самым смышлёным казалось, что она давно умерла: в детских глазах не плескалась жизнь. Казалось смышлёным, а живой не воспринимали все – дети учились у взрослых с первых шагов.
Так и родилась «странная девочка, которая рано умерла».
Стоило девочке лишь однажды ослабить оборону, упустить момент, заковырявшись в вылезших петлях своего сарафана, как длинные пальцы одноклассника с пугающе гладкими и большими ногтями выхватили тетрадь, полную маковых булок, коленей, комаров и едва проросшей моркови, стали бегать по ней в по-звериному быстром темпе, приказывая тонким губам зачитывать ломанные буквы вслух. Поток речи сотрясал стены смутившегося кабинета. Отражённый от них свет лампы перестал казаться тягостным – сквозь его застывшее хладнокровие проклюнулись поляны зацветающих вьюнков. Мальчик продолжал читать, ухмыляясь обнищавшим ртом, но голос его с каждой строкой замедлялся; буквы отрывались друг от друга с нарастающим рвением и затихали, впитываясь в отошедшие плинтусные панели.
Он, схватившись за возможность изменить историю, забыл, что шанс давно повернулся спиной к каждому, кто находился в классе.
Так кого же он крепко держал за ноги?
Лица невольных слушателей исказила гримаса стыда и ужаса.
Побледневшим и затихнувшим ребятам на секунду показалось, что и сами они были плодом воображения «странной девочки» с первой парты.
Совершенно невероятным образом в тетради оказались записаны все тайны небывалых рисунков их жизни.
Весёлый клоун
Человек грузно выходит из метро, свинцовыми ногами обжигая хрустящую под ним плитку. Бетонная тяжесть покачивается в такт вздрагивающим ботинкам, несмело отворачивает лицо от очередного прохожего, но всё-таки подмечает некоторые детали: его спутанные волосы на опущенных плечах, пляшущие в глазах искры; в безумии он таращится на снующих мимо людей. Те смотрят в ответ, проходят мимо, оглядываются и опасаются обращаться к подозрительно вздрагивающему человеку. Борясь с непослушными конечностями, он выпрыгивает вперёд, пятится, поворачивается, упирается потным лбом в ребристую стену, мычит, сжимая зубы, воет, вцепляясь пальцами в клоки волос. Золотящиеся на солнце пряди кривятся в блеске влажных ладоней. Несколько волосков, укрываясь от глаз, ветром разносятся по ближайшим переулкам и отдают своё беспокойство скитаниям.
Человек расстаётся с ними без сожалений; он даже не осознаёт потери – присаживается, впиваясь взглядом в плиточный шов; вскакивает, топает ногами, кусает губы и несётся вперёд с искаженным в животном испуге ртом.
Человек мечется из стороны в сторону, припадая к первой, второй, третьей скамейке, ложится на них, стучит по глухоте отсыревших деревяшек раскрытой ладонью, шепча под нос случайно сложенный набор слогов. Они с трудом складываются в слова, проскальзывающие по ушным раковинам прохожих и застревающие на рукавах их разноцветных футболок. Они принесут мольбы уличного чудака домой, часть выложат на тумбе в прихожей, часть – оставят в запылившихся туфлях, а небольшой отрезок, стекший по предплечьям, смоют тугим напором проточной воды.
Человек не замечает украденный у него голос; шаткая походка ведёт его задумчивыми зигзагами – он то и дело замирает, оценивая пространство диким и загнанным взглядом. Он готовится к уже проигранной борьбе, последним солдатом выходит из строя, вынеся себе смертный приговор. В его грудь устремляются тысячи остро заточенных кинжалов, рвут сердце, выдёргивая из него податливые мышечные нити.
Из глаз его брызжут слёзы, губы вытягиваются в трубочку, выдавая протяжное «у-у-у», – происходящее настолько похоже на искусное цирковое представление, что проходящие мимо дети весело указывают пальцем в сторону «смешного дяди» с пугающей гримасой. Он смешон себе, себе и страшен – шаги шумят, глаза слезятся, попавшие в порыв разозленного ветра. Ветер снуёт внутри разорванной груди, сквозит через образовавшееся отверстие и вдруг отзывается на робкий зов о помощи.
Он собирает остатки оборванного сердца, капельки сбившегося дыхания, слизывает пот со взмокшего лба, стучит по напряжённым ногам, принося им желанное расслабление, щекоткой проходится по глазам, возвращая зрению былую ясность. Солнце улыбчиво смотрит на открывшийся вид: ничто не напоминает о случившемся несколькими минутами ранее. По дорогам скользят машины, скрипят колёсами велосипеды и пищат светофоры. Жизнь возвращается в обмякшее тело, человек может наполнить грудь остывшим воздухом, не чувствуя стеснения и боли.
Грустный клоун, почувствовав облегчение, выдыхает – его лицо покрывается гипсовой маской. Под ней прячутся страх и радость, вырывающиеся наружу лишь редким шёпотом и движениями неспокойных пальцев. Клоун плавно вышагивает по плитке, опасливо озираясь; до скрипа сжимает в дрожащих руках бутылку воды, делает глоток и подходит к нужному зданию. Он удивляется сам себе, страх и бесстрашие встают в единый ряд, улыбаются, смотрят в замершее под маскарадным костюмом лицо, пытаясь пробудить в нём морщинящееся «нечто».
Грустный клоун остаётся неподвижным. Втягивает воздух с дрожью проходящем по телу свистом и долго выдыхает – лишь неровность этого выдоха бросает тень на клоунскую невозмутимость.
Дверь открывается: на пороге столичного офиса коллеги встречают вернувшегося с победой гордого весёлого клоуна.[1 - В рассказе описывается паническая атака – приступ сильной тревоги, сопровождаемый многовариантными телесными и психическими симптомами.]
Смирение и гордость
В кабинете было недостаточно темно, чтобы зажечь свет, но и недостаточно светло, чтобы не чувствовать дискомфорта. Он замер между «можно» и «нельзя», в искусственности момента читалась пропитавшая его неопределённость.
Дети переглядывались с минуту, не решаясь заговорить. Кто-то закашлялся, кто-то прикусил любопытный язык, и лишь спустя время пристального наблюдения один из учеников сказал что-то провокационное, отпечатавшееся на лицах одноклассников межбровными складками и нахмуренным лбом. Навстречу его едкому высказыванию бросили множество не восполняющих образовавшуюся смысловую яму слов. Именно так раздражение и личные счёты вновь послужили толчком развития.
Среди насупившихся школьников ожидаемо началась литературная дискуссия. Их лица краснели в такт выстраивающимся в головах логическим цепочкам. Чем больше витков накручивалось на хрупкие стержни детского мышления, тем грубее становились их лица: казалось, что от напряжения сплетённые прялками ума мысли выпрыгнут из черепных коробок подобно игрушечным клоунам.
По решению учителя зажегся свет в люминесцентных лампах – темнота обостряла колкость накалившегося воздух. Хлопнули по столу учебники, открылись тетради, обнажающие прыгающие по строчкам буквы, а затем случилось «оно». То, что случалось каждый раз, когда в деревянные двери учебной комнаты случайно попадал дух классических трудов. Ещё в молчании, окутавшем стройные ряды парт, был заметен невесомый след шагающего по головам рьяного обсуждения. Нельзя было не начать спор: до того, как класс заполнился потоком входящих в его двери школьников, случившееся было запечатлено на стенах и мутной от меловых разводов доске. Пространство знало о предстоящем и оживлённо к нему готовилось.
Каждый оправданно мнил себя правым: девочки мысленно вцеплялись друг другу в волосы, мальчики пытались перекричать девочек. За ничего не значащий предмет разговора сражаться, жертвуя спокойствием и отведенными на изучение прозаических текстов часов, было тоскливо. Однако в этот раз даже учитель не позволил себе снисходительно закивать головой.
Что-то в классе переменилось. В обиженно-решительных лицах девочек и мальчиков впервые получалось разглядеть склоняющихся к земле стариков.
– Невозможно совмещать в себе гордость и смирение, – подытожил молчавший до этого длиннорукий ученик. – Каждый должен сделать выбор в пользу чего-то одного.
Удовлетворившись ответом, он сел на жёсткий стул, высоко задрав голову в ожидании достойной оценки своей мудрости. Мальчик почувствовал, как по макушке его расползается гордость. Мог ли кто-то из желторотиков поспорить с жизненным опытом?
«Никто более не додумался до такой простецкой ерунды», – подумал он, ощутив, как нектар превосходства течёт по лбу, поднимая брови в выражении нескрываемой надменности.
Мальчик смаковал свою победу, упивался её сладостью, чувствуя, как золотая корона водружается на его голову его же длинными руками.
Фыркнув, он красными чернилами отметил в дневнике четвёртое сентября: день, в который все всё поняли.
Мальчик искренне залюбовался надписью: такой красивой она получилась. Буквы ещё никогда не выводились настолько ровными и уверенными; никогда ранее они не хранили в себе столько ценности. Всё в его маленьком пространстве соответствовало величественному статусу – мысль перекрасить стены кабинета и заменить простенькие жалюзи на шторы из красного бархата сама собой промелькнула в голове родившегося несколько минут назад повелителя.
Именно из-за открывшегося вида и осязаемого всевластия мальчик опешил, получив в лоб крепкий щелчок влажного пальца одноклассника под оглушительный смех.
Он возмутился, но, заметив на себе пристальные грызущие взгляды озлобившейся толпы, отвернулся и начал нервно почёсывать лицо. На него вдруг нахлынул зудящий стыд. Внезапно полная зрителей площадь, подарившая ему власть, превратилась в пугающий своей обнажённостью эшафот. Лицо учителя потерялось где-то среди обжигающей наготы.
Мальчику показалось, что под кожей у него завелись безобразные клещи: они ползли ото лба, с которого всё ещё не сошла горделивая маска, к приоткрытому рту, в котором наверняка можно было увидеть отражение краха его недолговечной империи. Он ощутил, что вот-вот его лицо покроется серо-гнойными прыщами, содержимое которых выльется на страницы хохочущего над ним дневника. Что-то внутри мальчика надломилось: ему пришлось почувствовать себя деревянным дураком, щербатым поленом, высохшим клоком пережёванного сена.
Он готов был сдаться, прыгнуть в лапы короткоруких вчерашних друзей, смотревших на него с омерзением. Их блестящие языки и липкие от слизанного с него достоинства губы разбудили в нём плохо понятное колючее чувство, давно заснувшее в корнях волос. Оно лениво переползло на сморщенное в гримасе отчаяния лицо: забралось в уголки рта и упрямо потянуло их вверх, обнажив желтоватые зубы. От носа спустились скруглившиеся ямки, в которых не было видно ни недовольства, ни ненависти, ни гнездящийся в межбровной складке зависти.
В конце концов, и гордость, и смирение, соседствуют в морщинистом лице, стоящем у последней путевой развилки.
Мальчик не потерял улыбки – повторно обвёл дату в дневнике, позволяя гильотине лизнуть взмокшую шею.
Писатель
Шёл по городу, присел на сырую лавочку и с важным видом черкнул на смятой бумажке пару строк.
Буквы смотрели друг на друга свысока. Каждая норовила вытеснить соседку из обрамления тусклых клеток – они ютились в объятиях печати, загораживая солнце едва складывающимся словам.
Если бы под рукой у человека оказался телефон с затерявшимся в потёмках компьютерной памяти обрывком незаконченной повести, ситуация приобрела бы совсем иные оттенки.
В письме на бумаге было сокрыто совершенно другое искусство, писательством его назвать не поворачивался язык. Когда в руке оказывался тетрадный лист с потрёпанными краями, свежий блокнот, пахнущий издательской печатью, или случайно попавший в карман чек из ближайшего продуктового, перед «человеком в глупой шляпе» – как он сам себя называл – вставали тяготящие обязательства. Ему непременно казалось, что текст должен выглядеть выпущенным из-под пера мастера золотого века: буквам стоило класть круглые, квадратные и витиеватые головы на плечи своих соседей, запятым полагалось ставиться без промаха.
С телефоном не возникало никаких сложностей: пальцы молотили по блохоподобным кнопочкам, предложения и смыслы разделялись движениями внутреннего голоса. Никакого конфликта – только взаимопонимания разума цифрового и сердечного, родственника Райских садов и пепла Преисподней.
Ценнейший алмаз не нуждался в опиливании. Бриллиантовую огранку он оставлял балующимся своими писульками и ничего не смыслящим в языке подражателям.
Тяготить себя, плавая в глубоководье писательского ремесла, было никак нельзя; такие опыты над душевным устройством могли вылиться в ещё большее наваждение и породить на свет низкосортную литературу и дешёвые бульварные романы. Человек в глупой шляпе был создан для великого: он мнил себя не менее чем творцом истории, лицом молодой литературы – лицу было немногим за тридцать три.
Перед ним открывалось множество возможностей: на свете было столько всего, что можно описать! «Красивые облака на голубом небе, падающий снег и разноцветный закат», – Творец восхищался втягивающим его в свою глубину потоком, делясь едва сдерживаемым восхищением с бумагой. Ему хотелось отложить ручку и кричать прохожим просьбы осмотреться и преумножить его восторг горящими глазами, встречающими переменчивый нрав природы. Он взмахивал руками, захлёбываясь эмоциями, но оставался не замеченным мелькающей мимо толпой.
Творец едва заметно похрюкивал, стоило светлой голове впустить в себя новую нить вдохновения. В такие моменты человеку казалось, что извилины его целиком состоят из строк будущих романов. И од, конечно же, од Великому. Паутинка чувств, оплетшая его тонкую натуру, начинала цеплять на себя всё новые бусины капель росы.
В душном вагоне метро толпа топталась друг у друга под носом, наступала на ноги, выбирая общую жертву, обречённую выйти на свет в белёсых разводах, размазанных по чёрной замше. Человек смотрел на них свысока, придерживая рукой глупую шляпу. Никто из пассажиров не смел посягнуть на её выпученный глаз.
Разозлившись на толпу, сбившуюся в кисель с сомнительно приятным ароматом, писатель указал на открытые зубастые рты. Широкие челюсти и расплывшиеся в гневе смотрящие на него глаза оказались в одном абзаце с едва ползущим эскалатором, управлял которым, очевидно, самый злостный нарушитель общественного порядка, – человек обернулся и сильнее запахнул пахнущее бензином пальто – наверняка желавший задержать его прибытие домой.
Рвущееся из груди желание писать восходящую к беспробудному злу картину, рождать искусство в болезненных потугах и плестись к выходу, едва перебирая ногами, должно было вызывать в людях благоговение. Толпа должна была склониться к его ногам, вглядеться в переплетение петляющих мыслей и проникнуться их содержанием; испробовать сочетания света и тени, радости и скорби, добра и зла, чтобы отразить желание мира вылиться на бумагу последовательным буквенным воспоминанием. Люди, окружившие писательскую натуру, должны были стать призмой, гранёным стаканом, роняющим на стол рассеявшиеся лучи. Человек смотрел прямо перед собой, смотрела и его шляпа: в них ощущалось растущее презрение – вода черпалась голой ладонью, собравшей пыль с поручней вагона.
Проклятая железная дверь, едва не столкнувшаяся с покатым лбом, опустилась на абзац ниже: была ли она виновна в подлом умысле последнего к ней прикасавшегося?
Человек, блуждая пальцами по спёртому воздуху подземелья, почувствовал исходящий из неизвестности аромат свежести улиц. Он сочетал в себе свежесть, окутавшую воздух после дождя, тяжесть выхлопных газов, парфюма и новой резины, трущейся о щербатый асфальт. Запах манил его своей прозрачностью. В нём ощущалось родство с бегающими буквами: сейчас есть – завтра нет. В нём не было ни отсутствия, ни присутствия. «Прозрачность. В самое сердце».
Невидимость свободы, её касание, шёпотом ложащееся на одежду и кожу, стучало в висках и падало к вздрагивающим в предвкушении ногам.
Человек поднимался по лестнице, чувствовал тяжесть, сковавшую бёдра, и выступивший на лбу пот. Он почти отёр его напряжённой рукой – поднял острый локоть к плечу идущего неподалёку полноватого мужчины. Писатель вовремя спохватился: в пальцах он сжимал листок с едва поплывшими буквами. «Я мог упустить всё!» – подумал он, бесстрашно взбираясь на очерченную жёлтым ступень.
Улица встретила его гулом машин, перекликающимся с ещё звенящим в голове стуком вагонных колёс. Запах свободы оказался реальным: перед глазами открывался мир. Тот мир, который был описан ранее на скомканных в руке сантиметрах потёртой бумаги. Буквы ликовали, ликовал и Творец, нашедший свою правоту в изгибах плитки, бегущих по небу облаках и свисающей через плечо сумки спешащих прохожих.
Люди, сотворившие через него картину своего будущего, давно разошлись: среди обозначенных ими дел сегодняшний эпизод был лишь слякотным пятнышком на белом капоте.
Человек готов был отдать жизнь во благо Творения. Он был Творцом, способным излагать большее в меньшем. Его история началась: человек шагнул вперёд с гордо поднятой головой – ему вторили улицы и изредка мелькающие над головой птицы.
Человек погрузился в новое переживание, способное открыть удивительный горизонт. Оно представало эфемерным, едва отличимым среди зрительного изобилия, оттенком приближающегося торжества.
Творец услышал резкий и грубый – «как можно допустить такое неуважение к благородно трудящемуся!» – сигнал несущегося на «зелёный» автомобиля, обнаружил себя в середине распластавшейся по дороге зебры и испуганно вскрикнул.
Синий «Форд» объехал его сутулую спину; бегущий навстречу мужчина напоследок толкнул в зудящий бок рукояткой зонта. Вокруг поднялась суета, толпа плотно окольцевала человека – весь мир будто решил злостно над ним подшутить.
Серое небо слепило глаза, скрежет несущихся в тоннеле вагонов царапал слух. На лицо падал отражённый от листьев свет, кожу пропитывала скопившаяся в лужах мутнеющая вода.
Подземные ходы и узкие дороги ещё несколько минут враждебно косились на неподвижно лежащую шляпу.
Икона
Солнце сидело низко; что-то шептали птицы, но я не мог выделить ничего значимого из отзвуков их беседы. Ветер рвался в приоткрытые окна – свистел и шелестом пробегал по шторам. Стремительный поток замирал перед ведущей к веранде лестницей, нерешительно топтался у порога, хватаясь за позолоченные перила. Сущая безвкусица.
Я смотрел на мелькающих неподалёку бабочек. Четыре пары крыльев заходились в настолько быстром движении, что казались недвижимыми. Преследуя друг друга до ветвей смородинового куста, они плыли по нагревающемуся летнему воздуху. Разлитый над землёй кипяток застревал в полотнах крыльев, гладил нежность узоров и их отставленную теплоту.
Чашка угнетала своим присутствием, не взирая на пытающееся пробиться к свету умиротворение. Вкус кофе не хотелось ограничивать эмалированным кругом – не-форма не существовала без формы. Пальцы грубо схватили ручку посуды, сдавили её глянцевую беспомощность и потрясли перед прищуренными глазами: солнце бликами отражалось от гладких стенок. Где-то на сетчатке отпечатывалось предвкушение начавшегося дня.
Я увидел свой вытянувшийся нос и отходящие от нахмуренного лба морщины. Паром над чашкой дышала сама смерть.
– Ты закончил или нет? – над ухом зажужжал голос, было неясно, как он сумел так быстро переместиться по сырым гниющим доскам, не оповестив скрипом меня и усевшихся на крыше пугливых птиц. Пол, покрытый зеленоватым мшистым ковром, скрипнул.
Дом, на который я потратил добрую часть жизни, по-видимому, собрался работать мне в ущерб.
Я повернулся к источнику звука, но от взгляда М. стало настолько не по себе, что в то же мгновение я уставился на беспокоящие чашку кофейные волны. В них отразилась нестойкость настоящего момента.
– Если я жив философствованиями, то ими же и умру, – я сделал глоток осевшей пенки и процедил пузырьки сквозь зубы.
– Ты жив своим идиотским языком, – ответила М. и, постояв рядом ещё несколько мгновений, потеряла ко мне всякий интерес. Её переменчивый нрав угнетал мою настойчивость и радовал моё безрассудство. В умеющем спрятаться или сказать несвязную ерунду языке скрывался весь секрет нашего сожительства. М., стремящаяся к определённости телом и умом, не терпела ответов невпопад.
Иногда мне становилось жаль её сил: она тратила слишком много времени на то, чтобы сочетать свою жизнь с планами и графиками, но её попытки настроить внутренние часы никогда не приводили к успеху. Я наблюдал за крушением выстраданной Вселенной женщины, которую, кажется, когда-то любил. Империя сыпалась мне под ноги, и я не знал, как реагировать на хрустящий под ногами песок.
Я вновь смог сосредоточиться на кофе; после состоявшегося разговора напиток стал горчить – за болтовнёй всегда упускаешь что-то важное. Ещё немного покрутив чашку в руках, я опустил её на стол, заставив коричневатые подтёки плавно спускаться по стенкам. Керамическое витилиго увлекало историей своей глубины. Где были зёрна до моего рождения?
На небе сгустились тучи – мне стало не по себе от их тяжести. На плечах чувствовалась влага и непосильный груз. Я поспешил укрыться в доме, так и не убрав за собой посуду: чашка осталась улыбаться на выцветшем столе.
Взъерошенная М., совсем не похожая на ту, что я видел несколькими минутами ранее, пробежала перед моим лицом – на мгновение мне показалось, что из-за проклятой чашки случилось нечто ужасное. Вокруг М. сконцентрировалась далёкая от понимания таким глупцом, как я, аура предвкушения трагедии. Сбежав от туч, я не получил успокоения в родных стенах. Дом точно что-то против меня замышлял – хотел ли выдавить из дверей в лапы непогоды?
Любовь М. к суете в погоне за порядком я не разделял, но тёплое переживание к её плечам и бёдрам вынудило меня вновь втянуться в театральную сцену. Я похлопал себя по карманам и не подал вида, нащупав ключи. В подыгрывании чьему-то самолюбию меня привлекала одна деталь: в складывающейся ситуации никогда нельзя было найти победителя и проигравшего.
Я, как полагает ответственному домохозяину, стал метаться из стороны в сторону, гладить глазами полки и сминать пальцами завалявшиеся по столам бумажки.
– Ты постоянно что-нибудь теряешь! – одёрнула мои поиски М. План приходил в действие, погружая меня в едва скрываемый экстаз. Хаос на голове М. беспомощно свернулся в подобие локонов. Постепенно она становилась всё более узнаваемой – сейчас стянет оставшийся бардак тугой резинкой, побежит вниз, чертыхаясь себе под нос, а затем остановится, пытаясь сохранить достоинство. Будет медленно шагать, но вскоре снова сорвётся на спешный темп.
Предпочитая не отвечать на выпад, будто он вовсе меня не задел, я потерял всякое желание продолжать представление для такого нервного зрителя. М., очевидно поняв мои намерения, фыркнула, в очередной раз попросив поторопиться. С её губ не сорвалось ни единого ругательства.