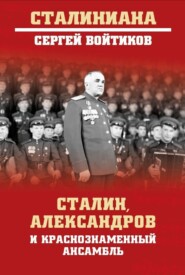скачать книгу бесплатно
Такой красоты мужского пения, такой силы и бодрости в звучании хора я еще не слушал. Голоса искрились и звенели, слова складывались во фразу, над густой, басовой основой звонко парил серебристый подголосок. Я вскочил и стал прислушиваться к мелодии, радуясь ее красоте, но песня вдруг переменилась, и над Волгой зазвенел новый напев:
Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке,
Сизый селезень плывет.
Я стоял и слушал, забыв о плавании, обо всем на свете, и не знал, что эта встреча не случайна, что будущая моя жизнь, все помыслы и заботы, надежды и творчество надолго будут связаны с солдатской песней, с военной музыкой, с армией. А эти две звучащие из-за Волги мелодии пройдут через всю жизнь своеобразным лейтмотивом, каждый раз напоминая о первой встрече, увлекая в новое неведомое.
“Эй, в Таганроге” с измененными словами, созданными бойцами Красной армии, получила широкое распространение. Отец сделал обработку этой песни для мужского хора без сопровождения, используя присущую русской народной песенности подголосочную распевность:
Гей, по дороге!
По дороге войско красное идет.
Гей, оно стройно,
Оно стройно песню красную поет.
В праздничную картину превращалась в исполнении ансамбля и [песня] “Вдоль да по речке”. Каждый куплет имел свои краски, принятые в солдатском пении: посвистывания, гиканья, ритмические сдвиги, синкопы, акценты. Позже я сделал более развернутую аранжировку этих песен для мужского хора и оркестра, придав им симфоническое развитие»
.
Музыкальное образование Александрова-младшего началось, когда ему было семь лет: отец привел его в свой хор. Одновременно Борис стал посещать занятия по классу фортепиано в организованной отцом музыкальной школе
.
Однако многое было получено мальчиком именно в семье: «Часто вечерами мы музицировали, играли с братом Сашей в четыре руки. Отец, как правило, […] присутствовал, переворачивал нам ноты, восхищался музыкой и на удачные места восклицал: “Ай да Мусорянин [Мусоргский]!”, или “Ай да Петр Ильич [Чайковский]!”, или “Где нам до них!”. Некоторые места отец заставлял повторять по нескольку раз, одно место из финала 9?й симфонии мы повторяли раз десять»
.
В Центральном государственном архиве города Москвы хранится письмо Бориса Александрова приятелю тех лет, очевидно, предлагавшему художественному руководителю Краснознаменного ансамбля попробовать себя в деле сочинения советской оперы. Подчеркнуто корректный ответ народного арт[иста] СССР содержит интересные сведения о его детских увлечениях:
«Уважаемый т. Глебов!
Получил Ваше письмо еще в марте месяце и хотел сразу ответить, но частные выезды из Москвы и моя занятость не позволили мне этого сделать.
Буду откровенным: Ваше письмо меня взволновало. Ведь прошло почти 50 лет, целая жизнь и как-то не верится, что мы были мальчишками, бегали, озорничали и, как Вы пишете, “помните меня очень шустрым и озорным пареньком, увлекавшимся книжками о Пинкертоне”. Действительно, это так! Несколько я себя помню, учился я в те годы плохо, как говорят, “из-под палки”, озорничал и даже покуривал. Во всем этом видел какое-[то] удальство.
Но мало кто знал из моих сверстников, что уже в то время я увлекался музыкой и часами сидел за роялем. Это увлечение я почему-то скрывал. Читал тоже много, но все подряд, что подвернется под руки. Классика у меня свободно уживалась с бульварщиной – тем же Пинкертоном. Пробовал в то время сочинять, и не что иное, а оперу, и сюжет для этого взял из пьесы “Маскарад” Лермонтова. Ну, конечно, это были мальчишеские мечтания и больше ничего, опера, конечно, не получилась. Эти мечтания остались и сейчас – написать советскую оперу. В какой-то мере это компенсируется работами над советскими опереттами. Одна из них стала известной – это “Свадьба в Малиновке”. В оперном театре был поставлен мой балет “Левша” по Лескову. […]
Спасибо, что вспомнили “озорного паренька”.
Благодарю за Ваши теплые сердечные пожелания!
Крепко жму руку, будьте здоровы и счастливы!
Народный арт[ист] СССР Б. Александров»
.
Вернувшись в Тверь в 1913 г., А.В. Александров вел большую работу в учебных заведениях по музыкальному воспитанию, в частности создал собственную Тверскую музыкальную школу, причем 28 октября 1915 г. обратился с ходатайством о разрешении превратить школу в место подготовки будущих студентов консерватории; ходатайство, разумеется, отклонили
.
Заметим, что среди учеников А.В. Александрова был А.А. Жданов – сталинский соратник, один из авторов книги «История ВКП(б). Краткий курс» (1938). Однажды в Кремле, когда А.В. Александрову вручали правительственную награду, Жданов, по воспоминаниям Бориса Александрова, «напомнил ему, что учился у него в реальном училище, пел в его хоре и занимался в вокальном кружке. Отец был крайне удивлен: “Неужели это были вы?” И потом гордился, что среди его музыкальных питомцев был будущий государственный деятель…»
Октябрьская революция 1917 г. сломала сложившиеся жизненные стереотипы, открыв все двери перед молодыми талантами. Семья Александровых переехала в Москву, вновь ставшую в 1918 г. столицей – якобы по приглашению руководства Московской консерватории (странно, что Борис Александров, склонный к точности в деталях, не упомянул, кто именно пригласил его отца)
. Так или иначе, спустя четыре года А.В. Александров – профессор Московской консерватории, в которой по его инициативе был создан в 1923 г. хормейстерский класс
.
Сразу после переезда семьи А.В. Александрова в столицу 13?летнего Бориса приняли в детский хор Большого театра, который он признал впоследствии своим «первым музыкальным университетом»
.
Из книги Б.А. Александрова «Песня зовет»: «Приехали мы весной и поселились в доме в Соймоновском проезде, где жили многие артисты и хористы Большого театра. Однажды наш сосед П. Тимченко, с сыном которого Николаем я дружил, повел меня прослушиваться в детский хор Большого театра, куда я и был принят. В то время в этом хоре пели дети артистов и музыкантов, а также мальчики из бывшего синодального хора. […] Для нас, детей, каждый новый спектакль, в котором [мы] участвовали, превращался во что-то сказочное. Мы попадали в разные страны, эпохи. Представьте себе, что всюду, на сцене и за кулисами, ходят люди, одетые в старинные костюмы. Так, в “Пиковой даме” П.И. Чайковского действие происходит в XVIII в. Напудренные парики, платья со шлейфом и фижмами, мундиры офицеров, свечи, канделябры, прекрасная музыка, чудесно звучащий хор, и мы, дети, одеты в сюртучки, ощущаем себя не мальчиками трудного, голодного и неповторимого революционного времени, а ребятами другой, непонятной и далекой страны. На следующий день мы попадали во времена героев драмы Проспера Мериме “Кармен”. Нас окружали одетые в красивые, пышные платья испанские женщины, подтянутые, стройные мужчины, звучала темпераментная музыка Бизе. Мы переносились на солнечные просторы Испании, ощущали напряженную страсть толпы в ожидании корриды. Детское воображение воспринимало все происходящее как действительные события, хотя мы и знали, что это сцена, театр»
.
Поколение Первой мировой и Гражданской войн не могло воспринимать происходящее на сцене главного театра страны иначе, как сказку, поскольку в стране царила разруха, а в столице творческая интеллигенция постоянно опаздывала на «службу» (по большей части бесцельную) в «советские учреждения», стоя в бесконечных очередях, – «за молоком на Кудринской, за воблой на Поварской, за конопляным [маслом] на Арбате»
.
Борису Александрову, обладателю красивого альта и абсолютного слуха, посчастливилось в составе детского хора Большого театра принимать участие в спектаклях, в которых блистали такие выдающиеся певцы, как Ф.И. Шаляпин, А.В. Нежданова, Н.А. Обухова, Г.С. Пирогов, В.Р. Петров, Л.В. Собинов
. Практически ни одни русские мемуары той эпохи не обходятся без упоминаний о феноменальном самородке – Ф.И. Шаляпине. Из книги Б. Александрова: «Еще более яркие впечатления связаны с оперой “Борис Годунов” М.П. Мусоргского. Могучая музыка и главный герой оперы – царь Борис, которого тогда чаще других пел Фёдор Иванович Шаляпин. Вот он стоит, величественный и красивый. Нам казалось, что он отрешен от всего, что происходит за кулисами, лишь музыка привлекает его внимание. К Шаляпину в театре было особое отношение. Его любили все – от ведущих солистов до рабочих сцены. Проходя за кулисы, он здоровался, спрашивал, как здоровье, как домашние. В спектаклях, где он участвовал, всегда ощущалась какая-то взволнованность, праздничность»
.
Как и отец, Борис Александров выступал во многих творческих ипостасях. В частности, он записался на отделение изобразительного искусства Пречистенских рабочих художественных курсов: «Сдал экзамены, прошел. Занятия проводились опытными художниками, и я усиленно начал учиться рисовать. Писал картины, лепил. Вскоре мои работы стали отмечаться, а скульптура – портрет старика – была даже послана на выставку. Но самым неожиданным оказалось то, что всем курсантам (так в тексте. – С.В.) выдавался продуктовый паек – горбуха хлеба, хвост селедки и два кусочка сахара. Это было счастьем»
. Талантливый человек, как известно, талантлив во всем (или почти во всем). «Увлечение живописью не прошло, пустив глубокие корни. И я всю жизнь в отпускные месяцы продолжаю рисовать, лепить, очень серьезно интересуюсь, знаю и люблю изобразительное искусство, собираю картины»
. Последнее принесло семье Александровых одно горе, но об этом речь впереди.
Занятия в хоре Большого театра и в художественном училище не освобождали Бориса от занятий музыкой – за этим пристально следил отец. Из книги «Песня зовет»: «Мне посчастливилось в Москве попасть к замечательному педагогу, ученице Сергея Ивановича Танеева Софье Ивановне Богомоловой, человеку доброму, сердечному, но необыкновенно требовательному во всем, что касалось музыки»
. С.Т. Богомолова «открыла» Борису Александрову «истинную красоту фортепьянного искусства»
. В ее доме «стояло два рояля. Один из них всегда был закрыт чехлом. Позже узнал, что это инструмент Сергея Васильевича Рахманинова, с которым Софья Ивановна была знакома и дружна. “Рояль Серёженьки”, – говорила Богомолова и разрешала играть на нем лишь в праздничные дни, особенно в день своих именин. Игра на рояле Рахманинова почиталась для нас чем-то священным, и добиваться этой чести приходилось упорным трудом. Не всегда, к своему теперешнему огорчению, я был добросовестным учеником. В те дни, когда нетвердо выучивал программу, бросался на хозяйственные дела в доме учительницы: колол и носил дрова, топил печь, выполнял мелкие поручения»
. Словом, заглаживал вину как мог. Помимо всего прочего, С.Т. Богомолова «тактично и умело»
познакомила Б.А. Александрова с особенностями столичной жизни.
Одновременно Б.А. Александров начал заниматься на фортепианном отделении Мерзляковского музыкального училища, затем в Музыкальном техникуме им. А.Н. Скрябина
.
У него завязались дружеские отношения со многими студентами, и прежде всего – с Дмитрием Кабалевским, который, «когда отсутствовали педагоги», случалось, сам проводил «занятия, толково объясняя непонятное […] из области теории музыки, гармонии, музыкальной литературы»
.
Дружба оказалась весьма плодотворной. Во-первых, два будущих композитора в четыре руки играли многие музыкальные произведения – к примеру, Брамса. Во-вторых, в рамках дружеского соревнования оба они приобрели первые навыки композиторской работы: «решили, соревнуясь, написать по фортепианному концерту»
. Сам же он «взял за образец музыкальной формы один из концертов Бетховена»
. Услышав игру сына, А.В. Александров поинтересовался, что исполняет Борис, но, получив ответ, что это его музыка, в восторг не пришел, «а еще раз напомнил, что главное – учеба и выполнение заданий»
.
Теплые отношения с Д.Б. Кабалевским Борис Александров поддерживал на всем протяжении их жизни. В РГАЛИ отложился ряд поздравительных телеграмм Бориса Александровича «Дорогому Мите»
и (полушутливо) «Дорогому Дмитрию Борисовичу»
и личные письма, три из которых приведем целиком:
«Дорогой Митя!
Сегодня, в день твоего юбилея, мне хочется от всей души, от всего сердца горячо поздравить тебя, пожелать доброго здоровья и успехов в работе.
Вспоминаю нашу молодость, Консерваторию, хождение на концерты, нашу игру в четыре руки и многое другое, что связано с днями юности.
Бесконечно рад тому, что ты стал большим музыкантом, общественным деятелем, что твоя кипучая творческая жизнь продолжает бить ключом и приносит людям большую радость.
Крепко обнимаю.
Твой Борис Александров.
P.S. Вместе со мной тебя поздравляет моя жинка и наша внучка Лера, которая будет петь сегодня в детском хоре».
РГАЛИ. Ф. 2017. Оп. 2. Д. 242. Л. 8.
Автограф синими чернилами.
«Дорогой Митя!
Я был бы очень счастлив, если бы ты с супругой смог приехать ко мне в понедельник 11 октября к 7 часам вечера, чтобы в семейной обстановке отметить бокалом доброго вина мое 60?летие.
С уважением,
твой Б. Александров».
РГАЛИ. Ф. 2017. Оп. 2. Д. 242. Л. 9.
Автограф синими чернилами.
«Дорогой Митя!
Поздравляю тебя и семью с праздником 50?летия Великого Октября.
Желаю здоровья, счастья, многих лет жизни и новых творческих побед!
Обнимаю!
Твой старинный дружище!
Б. Александров».
РГАЛИ. Ф. 2017. Оп. 2. Д. 242. Л. 10.
Автограф черными чернилами.
В школьные годы началась подработка Бориса Александрова в клубе типографии «Искра революции», длившаяся и в период его консерваторской учебы. В клубе будущий композитор занимался музыкальным сопровождением немых фильмов, проще говоря, был тапером: «…с товарищами мы организовали драматический кружок, участвовали в программах “Синей блузы”. Рабочие запросто бывали у нас дома и нередко просили поиграть на собрании или вечере. Обычно приходил рабочий Артамонов и, бася, говорил: “Ну, Александров, уважь людей, поиграй…”»
12 июня 1924 г. Борис Александров получил выпускное свидетельство об окончании 18?й школы 2?й ступени в Большом Кисловском переулке, куда перевелся годом ранее
. Из всех педагогов Александрову-младшему (что вполне естественно, учитывая его вечную занятость) запомнилась лишь одна учительница – и то по причине отличных от советских стандартов облика и манер: «До революции в этом здании был женский пансион, директриса которого, бывшая смолянка (выпускница Смольного института благородных девиц. – С.В.) осталась работать в советской школе и преподавала французский язык. Ходила по школе строгая и требовательная, с лорнетом на цепочке, а в специальном карманчике у нее был флакон с каплями и нюхательной солью. Когда ученики отвечали плохо, она доставала флакончик и нервно нюхала его, горько печалясь о нашем несовершенном произношении. Не раз и мне в ответ на бесхитростный “нузавон” говорила: “Ну как же вы, Александров, такое произношение!”»
Из школьного прошлого запечатлелся и эпизод организации драмкружка. На поставленный ребятами спектакль удалось пригласить руководителя театральной студии, актера и режиссера Ю.А. Завадского. Впрочем, визитом будущего мэтра история кружка, как видно, и завершилась. Завадский коротко отметил, что «не почувствовал» в их инсценировке «Звезды» В.В. Вересаева «атмосферы подлинного искусства»
. Равнодушию удивляться не приходится: в скором прощании с незрелыми постановками и не вполне, по их мнению, способными актерами тон задавали К.С. Станиславский и Вл. И. Немирович-Данченко
.
По воспоминаниям Бориса Александровича, его отец «как правило […] сочинял [музыку] без ф[ортепья]но. Сначала набрасывал эскизы, затем садился за ф[ортепья]но – проигрывал, импровизировал, а затем начисто переписывал. Композиторская техника, а особенно хоровая, у него была на большой высоте. Я не знаю ни одного хорового произведения А[лександра] В[асильевича], чтобы хор плохо звучал и было бы неудобно петь. Мне пришлось много заниматься у отца. Одно лето (1922 г. – С.В.) он готовил меня и еще дирижера Тимофеева (ныне – проф[ессора] М[осковской] г[осударственной] к[онсерватории]) в консерваторию. Доставалось нам обоим здорово. Но зато основы настолько были крепкие, что до сего времени весь курс гармонии я помню наизусть»
.
Естественно, в консерваторию сына привел А.В. Александров, хотя по тогдашней традиции ни на кого не давил, и своим относительным успехом Борис был обязан самому себе, чувству юмора директора да погодным условиям: «Незадолго до летних каникул 1923 г. отец решил показать мои сочинения профессорам [Московской] консерватории и ее директору Александру Борисовичу Гольденвейзеру. […] В просторном кабинете директора уже собралось несколько человек, и, когда мы вошли, присутствующие обернулись. Вдруг за большими окнами раздался оглушительный треск, загрохотал гром, и невиданная гроза разразилась над Москвой. Все бросились к окнам. Потоки воды обрушились на город. Сразу же образовались огромные лужи, а из улицы напротив хлынула настоящая река, неся на поверхности различные предметы, ящики и даже бочку. В ту же минуту Гольденвейзер, ни слова не говоря, сел за рояль и начал играть знаменитый эпизод из оперы “Сказка о царе Салтане” Римского-Корсакова – “Бочка по морю плывет”. Это было так неожиданно и остроумно, что присутствующие заулыбались, оживились. В такой обстановке мне было легче сосредоточиться и проиграть свои произведения. Мнение комиссии было следующим: по сочинению может поступать в консерваторию, а по фортепиано надо тщательнее подготовиться. На том и порешили, хотя отец остался недоволен моей игрой и тем, что учеба на фортепианном факультете на время откладывалась»
. На лето 1923 г. А.В. Александров, дабы сын не терял профессиональные навыки, устроил его в вокальный квартет братьев Ширяевых, с которым сам он занимался постановкой голоса и ансамблем. В обязанности Бориса входил аккомпанемент на фортепиано
.
В Московской консерватории Бориса Александрова зачислили в класс профессора С.Н. Василенко, однако вследствие болезни последнего довольно быстро перевели в класс композитора Р.М. Глиэра. Рейнгольду Морицевичу Глиэру Борис Александров уделил значительное место в книге своих воспоминаний. Р.М. Глиэр вроде бы называл учеников «по имени-отчеству» («вроде бы» потому, что далее в прямой речи то и дело – фамилия); «стремился своим авторитетом не подавлять индивидуальных способностей ученика, но незаметно, день за днем обучал мастерству на примерах творчества больших композиторов, на разборе отдельных произведений, на анализе какой-то части сонаты, симфонии, концерта: “А как это сделано у Моцарта, как у Бетховена, как у Скрябина?” Учил уму-разуму»
; внушал, что «композитор должен свободно ориентироваться в музыке, помнить темы классических произведений, знать о них все – какая гармония, фактура, принципы развития»
, дабы, опираясь на опыт «мастеров прошлого и лучшие сочинения современников», следовать «дальше»
; требовал «не только добросовестной работы в классе по […] заданиям, дома по композиции, но и того, чтобы» студенты «постоянно ходили на концерты, в театры, на выставки», т. е. «духовно обогащались», разъясняя: «Знакомство с другими искусствами рождает массу идей. Советую на музыкальные спектакли и симфонические концерты непременно ходить с партитурой»
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: