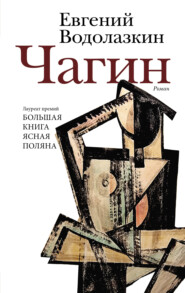скачать книгу бесплатно
– В этом, строго говоря, нет необходимости. – Закрыв дверь, он положил чай на стол. – Милейшее представление – как жаль, что я вас прервал. И часто вы так?
Улыбнулся.
– Зависит от того, чьи бумаги. – Я покрутил головой, как бы демонстрируя кругозор. – От характера, так сказать, материала… Да и просто от настроения.
Освободив большую чашку от ложек и вилок, наполнил кипятком и ее. Ловким движением перебросил в нее ситечко. Мы молча ждали, пока чай заварится и в ней. Слушали, как усилившийся дождь барабанил по крыше.
Гость пил чай из чашки с ручкой, а вот мою чашку так просто было не взять. Пальцы скользили по горячей гладкой поверхности, на сколах ручки – шершавой. Мне оставалось только ждать, когда чай хоть немного остынет.
– Я всё пытался представить себе, – надкусив печенье, директор отпил чая, – как выглядело жилище этого необычного человека.
– И как же, Аскольд Романович?
Директор сделал громкий глоток и встал.
– Именно так я его себе и представлял. – Он подошел к двери. – Да, главное. Ввиду небольшой ценности этого жилья его, возможно, передадут Архиву. В качестве, ну, как бы, подсобной площади. Так что предварительный разбор бумаг можете спокойно производить здесь.
Он втянул ноздрями воздух:
– Спа-кой-на.
Когда этот энергичный человек ушел, я (вздохнув с облегчением) растянулся на кровати поверх покрывала. Панцирная сетка скрипела при каждом движении. Я представлял, как под этот скрип проходила жизнь Исидора.
А может, скрипа и не было. Скорее всего, Исидор просто не шевелился. Лежал себе – руки вдоль тела или, допустим, сложенные на груди. Возможно, что даже и не дышал – на него это так похоже.
– Можете спа-кой-на работать здесь, – повторил я голосом директора. – Как, впрочем, и качаться на панцирной сетке – это ваше право.
Покачавшись на кровати, я встал. Ответил собеседнику прохладно:
– Я всегда спокоен, Аскольд. – Величавый отпускающий жест. – Сегодня, Аскольд, вы мне больше не нужны.
* * *
Вернувшись вечером домой, я объявил, что переселяюсь на служебную площадь. Сказал это после ужина, поскольку проблемные заявления лучше делать после еды. Так они лучше воспринимаются. Мать уже убирала со стола посуду, отец направлялся на балкон курить, сестра Маргарита несла из своей комнаты тарелку с несъеденным пловом. Маргарита, трудный подросток, всегда ест в своей комнате. Точнее – не ест, потому что худеет.
Фраза моя прозвучала буднично, как-то даже очень спокойно, отчего впечатление только усилилось. Отец прикрыл балконную дверь, мать поставила посуду на стол, а Маргарита застыла на пороге кухни со своим пловом. Собственно, я не планировал всерьез уходить – хотел только сказать об этом. Но, сказав, подумал, что, может быть, и в самом деле уйду.
– Тебе что, с нами плохо? – спросила мать.
– Хорошо… Не хочется тратить времени на дорогу.
– Всё естественно, – сказал отец. – Парень стремится к независимости.
Ему хотелось курить, и он щелкал зажигалкой.
– Я тоже стремлюсь к независимости, – сообщила Маргарита.
– Мне двадцать девять, тебе – пятнадцать, – напомнил я сестре. – Всё, что ты можешь делать, это ужинать в своей комнате.
Маргарита замахнулась на меня тарелкой, и плов с нее плавно съехал на пол. Мать показала Маргарите на стоящий в углу веник, но та не шелохнулась.
– Птенцы покидают гнездо, – от долгого щелканья сигарета отца зажглась сама собой. – Процесс грустный, но неизбежный.
Он выпустил дым в полуприкрытую дверь балкона.
– Побереги мудрость, – сказала мать. – Лучше подумай о том, что происходит с детьми.
– Всё нормально, мам, – успокоила ее Маргарита. – Он нашел себе архивистку.
Внимательный взгляд матери.
– Правда?
– Оренбургский пуховый платок. – Маргарита зябко повела плечами. – Колечко с камеей.
– Это лучшее, что может быть, – отец сделал еще одну затяжку.
Я кивнул. С этим нельзя было не согласиться.
* * *
Я все-таки переехал к Исидору. Спросил для порядка разрешения у директора, взял постельное белье, кое-что из необходимого – и переехал. Директор расценил это как тягу к полному погружению в материал. Крайнюю, что ли, степень исследовательского интереса: человек ночует на работе. Такое объяснение мне не приходило в голову, но возражать я не стал. В конце концов, в этой мысли ничего плохого не было. Теперь у меня были все условия для занятий наследием Чагина, и в первую очередь – его Дневником.
Прежде чем вести ежедневные записи, Исидор дает краткий очерк детства. Вспоминает, какой невкусной была еда в детском саду. Манная каша, вся в комках, успевала остыть, еще не добравшись до стола. Пшенная каша, наводя на мысли о песке, хрустела на зубах. Окаменевшие бруски свеклы в борще. Слипшиеся, словно покрытые слизью макароны. Желеобразный кисель с застывшей пленкой наверху. Упреждая возможные протесты, воспитательницы говорили, что в голодные годы у людей не было и такого. Этим людям Исидор тайно завидовал.
Требовалось всё доедать до конца. Выходя из-за стола, каждый должен был показать пустую тарелку. Тарелки – тяжелые, щербатые, без рисунков. Показывал свою тарелку и Исидор, а потом, зайдя в туалет, выплевывал то, что не смог съесть и держал за щеками. В туалете пахло хлоркой. Любопытно: Исидор пишет, что, включи они в столовой какую-нибудь музыку, он смог бы даже это доесть до конца. С музыкой еда хоть частично получала бы приемлемый вкус, потому что хорошая музыка – вкусна.
Исидору купили шаровары. Даже в то далекое время, когда одежде большого значения не придавали, было видно, что они недопустимо широки. Бабушка вывернула их наизнанку и, собрав лишнее, прострочила изделие на «Зингере». Она не хотела тратить черные нитки, которые и так недопустимо быстро расходовались. Использовать благоразумно решила оранжевую нитку, поскольку изнаночной стороны всё равно ведь никто не видит.
В детском саду у Исидора спросили, что означают сборки сзади на его шароварах. Сборки же означали единственно то, что шаровары надеты наизнанку: бабушка забыла вывернуть их обратно. Дети смеялись над необычным фасоном шаровар, особенно над оранжевой ниткой, а Исидор стоял, прислонившись к печи спиной, чтобы злосчастные сборки не были видны. Но их уже все успели увидеть, и оттого, что Исидор их скрывал, детям было только смешнее. Он чувствовал шершавость кафеля и жар печи, но в еще больший жар его бросал стыд перед детьми. «Дети – злы», – записывает в конце рассказа Исидор.
Поездка с матерью в Москву. День, проведенный в парке Горького. При входе в парк мать купила ему эскимо, обертку от которого он сохранил. Затем они катались на карусели. Исидор описывает катающихся. Его воображение почему-то поражает то, как свободный полет сочетается в карусели с полной зависимостью от цепи. Мне показалось это хорошим символом: полет и цепь. Никаких таких сопоставлений Исидор не делает.
Катались на колесе обозрения, смотрели на Москву. Заходили в комнату смеха. Смеялись. Качались на качелях-лодочках. На настоящих лодках плавали по пруду. В скобках указывается стоимость всех билетов. Не думаю, что Исидор был меркантилен: его интересовала цена радости.
Елка в иркутском Доме пионеров. Дед Мороз предложил Исидору прочитать стихотворение, но мальчик его почему-то не прочитал. Тогда вместо него вышла девочка со стихотворением «Ленин и печник». Она прочла его без запинки и с выражением. В заключительной фразе («Да у Ленина за чаем засиделся, – говорит…») перешла на крик и разрыдалась.
Когда Дед Мороз спросил, почему она плачет, девочка ответила, что просто ей жалко Ленина. Доброго и беззащитного – жалко. Который то и дело всех прощал, включая неблагодарного печника. Дед Мороз сочувственно кивнул: Ленин запросто ведь мог сдать печника в ЧК (недаром эти слова рифмуются) или в частном порядке сжечь его в той же, допустим, печке… Рука деда в меховой рукавице описала эллипс и, нырнув в мешок с подарками, преподнесла девочке елочный шар с нарисованным на нем зайцем.
– Это от Ленина? – спросила девочка.
– Да. В каком-то смысле, – ответил, подумав, Дед Мороз. – Тут радоваться надо, а не плакать.
– Я плачу оттого, что Ленин умер, – она вытерла слезы. – Или он не умер?
Дед Мороз погладил девочку по голове.
– Умер, конечно, но как бы не совсем. Способен, как видишь, делать разные мелкие подарки.
Исидор тоже заплакал: он вспомнил печь в детском саду. Он плакал всякий раз, когда ее вспоминал. А еще ему было обидно, что он не получил игрушки. Он знал это стихотворение – в СССР его знали все, – так почему же он его не прочитал? Мальчика никто не утешал, поскольку плакал он беззвучно.
Мысленно отмечаю, что в раннем возрасте ничто не говорит о феноменальной памяти Исидора.
Как звали Исидора в детстве? Неужели Исидором? Сидором? Какое-то же должно было быть у него детское имя. А может, и не должно. Трудно представить Исидора с иным именем – даже в детстве. Он был так непохож на других, что именоваться ему надлежало как-то по-особенному. Мысль дать ребенку такое имя принадлежала, кажется, его отцу. Чагин-старший прожил с семьей недолго. К такому отцу можно относиться как угодно, но перед тем как уйти в неизвестном направлении, этот человек подарил сыну две важнейших вещи: жизнь и имя.
В Дневнике подробно описываются школьные годы – вплоть до особенностей парт (стучали при вставании) и надписей, вырезанных перочинным ножом под откидывающимися крышками.
В восьмом классе Исидор влюбляется в Лену Цареву, сидящую с ним за одной партой. Он вспоминает все ее случайные прикосновения, которые неизбежны при таком тесном соседстве. Ее слова. Кому-то они могут показаться малозначительными. Но не Чагину.
– У тебя нет запасной ручки?
– Есть, – ответил Исидор.
Затем следует подробное описание раздумий Исидора о том, правильно ли он ответил. Может быть, нужно было сказать: конечно. Или даже: а то! Немудреное есть кажется автору ответом банальным и неспособным вызвать ответное чувство.
Когда Лена Царева смотрит на доску, Исидор разглядывает ее ухо. Левое: Царева сидит справа от него. В солнечных лучах оно становится полупрозрачным и розовым. В Дневнике подробно описано, каково ухо на просвет и как оно иногда скрывается за прядью волос. Влюбленный мысленно касается его губами.
Исидору хочется проводить Лену домой и нести ее портфель, как он видел это в кинофильмах. Как это делали некоторые из его одноклассников. Правда, такие пары дружно высмеивались как жених и невеста, при этом рифмы ради упоминалось тесто. Боясь, что его и Лену также назовут женихом и невестой, Исидор отказывается от своего намерения. Он представляет себя и Лену сидящими перед раскатанным бабушкой тестом. Изначально оно было бесформенной массой, но превратилось в большую тонкую лепешку с неровными краями. Бабушка деликатно уходит, и пара (вот она, интимная сторона брака) отщипывает от лепешки кусок за куском. Доля жениха и невесты незавидна, поскольку сырое тесто – не ахти какой деликатес.
На этом детские воспоминания оканчиваются. Судя по всему, о любви Исидора Лена Царева так и не узнала. Или узнала? Интересно, что думала об Исидоре Лена – не могла же она не заметить его чувства. Каким он остался в ее памяти? Да и жива ли она вообще?
Когда я уже подумал, что составил о детстве Чагина более или менее полное представление, то тут, то там на полках стали возникать новые коробки с бумагами и фотографиями. Они именно что возникали – там, где прежде их вроде бы не было. В одной из коробок я нашел обертку от эскимо: плотная бумага, в центре – пингвин. Внутренней стороны обертки я коснулся языком. Сладость ее ушла. Как уходит, подумалось мне, сладость пережитого.
* * *
В первую же ночь моей жизни у Чагина по крыше мансарды кто-то ходил. Было слышно, как под ногами неизвестного прогибаются листы кровли. Я выключил свет и посмотрел в окно. Оно не было темным. В нем клубился питерский туман, отражавший свечение города.
В мерцающем прямоугольнике окна появилась фигура. Припав к стеклу, всматривалась в мрак комнаты. Я не шевелился, потому что каждое мое движение сопровождалось бы скрипом пружин. Кто это был – злоумышленник? Тень Исидора? Лена Царева? Но ведь Лене должно быть под восемьдесят – возраст, прямо скажем, не руферский. Да и зачем ей это? Сосредоточиваясь, закрыл глаза. Зачем?
Ну, не знаю… Пришла, например, попросить ручку. Заодно – почему нет? – упрекнуть одноклассника в отсутствии смелости. Сказать, что жизнь могла бы сложиться иначе, решись Исидор ее проводить. А портфель – он до сих пор в ее руке, ни на минуту не выпускала, всё ждала. Влюбленные медленно удаляются по крыше. В Исидоровой руке – Ленин портфель.
Встал утром с тяжелой головой. Думал о фигуре в окне. О том вообще, хочу ли я здесь оставаться. Не хочу. При этом возвращение домой тоже не было большой радостью. Родители еще ничего, но Маргарита… Я по-настоящему устал от непростого ее взросления. Всё так. Но здесь, в Исидоровой квартире, я почувствовал к домашним едва ли не нежность.
Может, и в самом деле вернуться?
В дверь позвонили. Помня о ночной фигуре, я прильнул к глазку. Перед дверью стояла Маргарита. Когда я открыл, она показала глазами на комнату.
– Ты один?
– Один.
– Жаль. – Войдя, Маргарита положила на стол бумажный пакет. – Мать передала. Завтрак архивиста.
Я зашел в ванную набрать воды в чайник. Сквозь шум струи из комнаты пробилось ритмичное лязганье панцирной сетки.
Вернулся. Молча наблюдал, как Маргарита, сидя на кровати, болтала ногами. Сказал:
– Хорошо скрипишь.
Она кивнула. Мать будто бы хотела привезти завтрак сама, но оказалось, что у нее, Маргариты, дела на Невском – отчего же не заехать? Отчего не поскрипеть, если уж выдалась такая возможность?
Никаких дел на Невском у моей сестры, конечно, не было. И не думаю, чтобы мать стала передавать мне завтрак. Просто позавчера Маргарита придумала архивистку, а сегодня пришла на нее посмотреть.
Я достал из пакета пару уродливых бутербродов.
– Твоя работа?
– Нет, ресторан «Метрополь». – Маргарита рывком встала с кровати и выглянула в окно. – Здороваешься с Пушкиным по утрам? Наша бедная лачужка… Чаю можешь мне налить, а есть я не хочу.
Она прошлась по комнате и заглянула в ванную.
Улыбнулась:
– Обстановка полулюкс.
– Это не ты вчера ходила по крыше?
Сейчас я был почти уверен, что ходила она.
Маргарита отпила чая.
– Насыщенная у тебя жизнь. По крыше ходят. – Ее рука прохладно коснулась моего лба. – А она у тебя случайно не поехала, крыша-то?
– Кто-то ходил и заглядывал в окно.
– Поклонницы. Поклонницы-архивистки.
Нет, это не она: я знаю, когда она врет.
* * *
В одной из коробок я обнаружил свидетельства студенческой жизни Исидора: конспекты лекций, четыре курсовые работы и одну дипломную. Чагин, оказывается, учился на философском факультете. Наш Исидор – философ. Первая его курсовая называлась «Марксистско-ленинское понимание памяти».
Она пестрела множеством сносок. Очевидно, это был черновой вариант работы, потому что некоторые сноски остались не раскрыты. Не проставлено, к примеру, авторство цитаты «Материалистический подход к человеческой памяти наглядно демонстрирует, что важнейшее ее свойство – запоминать». Найти источник высказывания Исидору не удалось. На полях – догадка: «Маркс и Энгельс?» И ниже, другим почерком (научный руководитель?): «Ленин и Печник?» Это можно рассматривать как свидетельство популярности стихотворения, а также, пожалуй, того, что в пору учебы Чагин вращался в среде умеренно вольнодумной.
В выборе темы впервые обозначился интерес Исидора к памяти. Судя по дальнейшим курсовым, этот интерес не ослабевал. О связи темы работ Чагина с собственной жизнью говорится и в его Дневнике. Он описывает странное свойство своей памяти, о котором раньше не задумывался: способность запоминать большие объемы текста. «Интересно, – пишет Исидор, – это свойство было у меня всегда, и я его попросту не замечал? Или же это свойство я не замечал единственно потому, что такового не было?» Действительно, интересно. Уж если сам Чагин не мог ответить на собственный вопрос, то я – тем более.
Этот вопрос возникает у Исидора на втором курсе, когда им была написана работа «Разоблачение буржуазных философских представлений о памяти». Неожиданным образом на защите рецензентом был разоблачен сам автор курсовой: работа дословно повторяла фрагменты книги с тем же названием. Автором ее был факультетский профессор Спицын, также присутствовавший на защите.
Когда Исидору сказали, что он переписал исследование Спицына, автор курсовой не согласился. Рецензент помрачнел и поинтересовался, уж не из головы ли взял Чагин этот текст. Исидор отвечал, что – да, из головы. Рассердившись не на шутку, рецензент попросил его изложить хотя бы приблизительно то, что читалось в предисловии к курсовой.
Чагин не стал излагать приблизительно. Слово в слово он произнес свое предисловие, оказавшееся по стечению обстоятельств заодно и предисловием к книге Спицына. Рецензент ткнул пальцем еще в одно место курсовой, и Чагин воспроизвел его с такой же точностью. Когда изумленные профессора спросили у Исидора о причине полного совпадения двух работ, он простодушно ответил, что текст, хранящийся в его памяти, случайно принял за свой. Из этого сделаем осторожный вывод, что раньше удивительные способности Чагина никак не проявлялись и к их возникновению автор курсовой оказался просто не готов.
Как бы то ни было, история закончилась для Исидора благополучно. Рецензент уже вдохнул, чтобы заклеймить плагиатора, но слово неожиданно взял декан. Он призвал присутствующих не судить автора строго за несамостоятельность и указал, что в каком-то смысле было бы хуже, если бы в области буржуазных теорий студент начал мыслить самостоятельно. Ему, декану, было хорошо известно, к чему это приводит. Юноша не стал гнаться за оригинальностью и воспользовался книгой – не са?мой, возможно, интересной, не самой, возможно, глубокой, но (декан взвесил книгу Спицына на ладони) идеологически взвешенной.
«Мне показалось, что декан не любит Спицына», – записывает в Дневнике Исидор.
Мне тоже так показалось. Удивляло лишь то, что явный случай плагиата остался (по крайней мере, в изложении Исидора) без внимания. Выражаясь словами декана, взвешенность победила оригинальность, и в каком-то смысле это было идеалом философского исследования тех далеких лет.