
Полная версия:
Социология публичной жизни

Эдмунд Внук-Липиньский
Социология публичной жизни
Edmund Wnuk-Lipiński
Socjologia życia publicznego
© by Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z. o. o., Warszawa, 2005, 2008
© Мысль, 2012
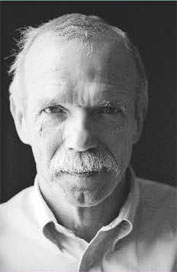
Эдмунд Внук-Липиньский (род. 1944 г.) – польский социолог, основатель Института политических исследований Польской Академии наук. Работал приглашенным исследователем в Institut fur die Wissenschaften von Menschen в Вене, преподавал в Университете Нотр-Дам (г. Саут-Бенд, шт. Индиана, США) и в Wissenschaftskolleg (Берлин).
Учебник «Социология публичной жизни» представляет собой попытку очертить поле исследований для одноименного раздела социологии, а также упорядочить новейшие теоретические знания и эмпирические установления именно с этой точки зрения.
У социологии публичной жизни более широкая сфера, чем у социологии политики, потому что в поле интереса первой находятся любые проявления общественной жизни, возникающие между стихией домашних хозяйств и других неформальных социальных микроструктур, с одной стороны, и уровнем национального государства – с другой. Публичную жизнь любого общества не удается свести к политической сфере: существует огромная территория публичной жизни, которая носит аполитичный характер. Многие – а возможно, даже большинство – из институтов и проявлений активности гражданского общества, заполняющих пространство публичной жизни, носят именно такой, сугубо аполитичный характер.
Предисловие
Данная книга создавалась в Институте политических исследований Польской Академии наук (ПАН). Несомненно, она была в значительной степени инспирирована дискуссиями в отделе общественно-политических систем названного института. Книга наверняка получилась бы беднее, если бы отсутствовал еще один источник того интеллектуального воодушевления и стимулирования, которые проистекали от регулярных встреч на кафедре социологии в Collegium Civitas[1]. Благодарю проф., д-ра наук Ядвигу Коралевич (Jadwiga Koralewicz) и проф., д-ра наук Анджея Антошевского (Andrzej Antoszewski) за их рецензию на первый замысел этой работы. Особую благодарность должен выразить проф., д-ру наук Александру Мантерису (Aleksander Manterys), чьи проницательные замечания позволили мне улучшить текст. Хочу также выразить признательность рецензенту данной работы проф., д-ру наук Хиерониму Кубяку (Hieronim Kubiak) за возможность использования его дельных и весьма существенных соображений. Нет нужды добавлять, что любые недостатки и оплошности, которые заметит читатель, лежат исключительно на моей совести.
В конце должен также высказать слова благодарности проф., д-ру наук Петру Штомпке, который предложил мне написать данную работу, а также проф., д-ру наук Яцеку Рациборскому (Jacek Raciborski), чьи тактичные, хотя и неусыпные напоминания об уходящем времени помогли мне завершить работу в разумные сроки. Наконец, хочу поблагодарить свою жену и дочь, которые в меру терпеливо выносили мои длительные téte-á-téte (свидания с глазу на глаз) с компьютером.
Вступление
Без малого пять столетий назад {видный польский гуманист и общественный деятель} Анджей Фрыч Моджевский (1503–1572) писал: «Sit igitur finis hic rei publicae, ut civibus omnibus bene beateque, hoc est honeste recteque vivere liceat» («Таковою должна быть цель государства, дабы все его граждане могли жить хорошо и счастливо, честно и благородно»)[2]. В атмосфере Ренессанса, которая завладела тогда почти всей Европой – а Польша была одной из крупных монархий на континенте, – создание государства, дружелюбного к людям и защищающего гражданские добродетели, казалось достижимым. Сегодня, обогащенные историческими сведениями, а также знаниями, черпаемыми из общественных наук, мы воспринимаем требование Фрыча Моджевского как утопическое, чтобы не сказать наивное. Нигде в мире на протяжении прошедших с той поры веков не возникло такое идеальное государство, основополагающей и реализованной целью которого было бы благо и счастье его граждан, не материализовалась мифическая Аркадия, где все живут «честно и благородно». Опыт минувших столетий доказывает скорее нечто противоположное: возникло множество государственных структур, основанных на эксплуатации и порабощении своих граждан; таких государств, где система вознаграждала скорее подлость и низость, нежели благородство или честность. Аушвиц (Освенцим) и Колыма стали в XX веке мрачными иконами предельной – как представляется – развращенности государства, последствиями чего стали чудовищные преступления геноцида, совершенные против как собственных граждан, так и граждан других государств, которые были завоеваны насилием или обманом. Проявления исторического опыта скорее склоняли бы нас к пессимизму.
Но ведь исход XX века, особенно после падения мировой коммунистической системы, явился вместе с тем периодом подлинного взрыва демократии. Никогда в мировой истории количество демократических государств не было столь велико. И, хотя тогдашний прогноз, который провозглашал, что мы являемся свидетелями окончательной победы либеральной демократии над другими формами правления, в наши дни выглядит – как минимум – преждевременным (если вообще верным), все-таки это правда, что в настоящий момент число граждан, живущих в странах с демократическим строем, больше, чем когда-нибудь ранее, а та глобальная тенденция, которую Сэмюэл Ф. Хантингтон (Huntington, 1991) назвал третьей волной демократизации, по-прежнему обнаруживает много энергии, и не видно симптомов, сигнализировавших бы о ее быстром угасании.
Публичная жизнь старых и новых демократий претерпевает эволюцию, отдаленные последствия которой сегодня трудно предвидеть. Даже в авторитарных системах, кажущихся реликтом эпохи холодной войны, происходят медленные преобразования публичной жизни, которые, быть может, принесут в будущем плоды в виде ее качественного изменения. Пространство публичной жизни тем самым представляет собой поле для наблюдения увлекательных и порой даже захватывающих явлений, в которых мы выступаем свидетелями или же сознательными либо невольными действующими лицами, иначе говоря деятелями («акторами»[3]).
Основная цель данного учебника состоит в ознакомлении читателя с актуальными знаниями на указанную тему. Возникает, однако, необходимость объяснить, почему в его заголовке оказалось выражение «социология публичной жизни». Другими словами, можно ли вычленить из социологии такой раздел или субдисциплину, которую можно было бы назвать социологией публичной жизни, и если да, то чем эта отрасль социологии могла бы отличаться от, например, социологии политики? Различие это представляется относительно простым. Социология политики занимается политической проблематикой, а следовательно, тем фрагментом коллективной жизни, который более или менее тесно увязывается со сферой властвования. Стержнем указанной сферы является проблема власти, ее распределения, правомочности, функционирования и т. д. Таким образом, предметом интереса для социологии политики являются институты, акторы, взаимоотношения, явления, установки, формы и варианты поведения, верования, нормативно-инструктивные материалы, указания и многие другие аспекты, которые в ясно и четко определенном смысле относятся к власти.
Тем временем публичную жизнь всякого общества не удается свести к политической сфере – точно так же, как не удается свести статус гражданина к политической активности. Дело в том, что существует огромная территория публичной жизни, которая носит аполитичный характер (иногда «программно» аполитичный). Многие – а возможно, даже большинство – из институтов и проявлений активности гражданского общества, заполняющих пространство публичной жизни, носят именно такой, сугубо аполитичный характер. Тем самым публичная жизнь определенного общества по своему охвату оказывается шире, нежели его политическая жизнь. Видимо, как раз по этой причине часть теоретиков (о чем еще пойдет речь в настоящем учебнике) проводит различие между политическим обществом и гражданским обществом sensu largo (в широком смысле).
Аналогично у социологии публичной жизни более широкая сфера, нежели у социологии политики (хотя отчасти сферы этих двух разделов общей социологии перекрываются), потому что в поле интереса первой находятся любые проявления общественной жизни, возникающие между стихией домашних хозяйств и других неформальных социальных (общественных)[4] микроструктур, с одной стороны, и уровнем национального государства – с другой. Предметом исследований для социологии политики является само государство и его институты. Тем временем для социологии публичной жизни государство представляет собой один из самых существенных факторов, устанавливающих граничные условия[5] функционирования публичной сферы определенного общества, и, следовательно, оно является существенной точкой отсчета для попыток объяснить и истолковать эту сферу публичной жизни, но не предметом исследования per se (само по себе). Государство представляет собой одну из ключевых независимых переменных – если воспользоваться языком эмпирической социологии, – с помощью которых объясняется функционирование публичной сферы.
Это, разумеется, не означает, что политика не должна входить в поле интересов социологии публичной жизни. Скорее напротив, ведь политика – как бы ex definitione (по определению) – «вершится» в публичном пространстве. Исключение этой проблематики из рассмотрения и концентрация единственно на аполитичных публичных акторах и действиях было бы процедурой искусственной, чтобы не сказать странной, особенно с учетом того, что те или иные действия, которые были интенционально (по своим намерениям)[6] аполитичными, вполне могут порождать политические последствия. Встает, следовательно, вопрос о том, где должна проходить демаркационная линия, отделяющая социологию публичной жизни от социологии политики.
Провести между ними точную границу наверняка не удастся, да в этом и нет необходимости. Невозможно, например, строгое разграничение политологии и социологии политики, что не воспринимается ни политологами, ни социологами политики как некий особый дискомфорт. Аналогичным образом обстоит дело и в данном случае.
Интуитивно можно принять, что обсуждаемая здесь потенциальная субдисциплина социологии могла бы концентрироваться на том фрагменте общественной реальности, где она носит публичный характер, хотя и необязательно институционализированный. Ключевой исследовательской проблемой был бы тогда вопрос социальной субъектности индивидов и групп, социальных взаимоотношений в публичной сфере, а также того весьма разнообразного спектра социальных ролей, которые можно исполнять только в публичной сфере. Поэтому очевидно, что особый интерес возбуждали бы такие роли, из которых складывается понятие гражданства, хотя нет разумных причин ограничивать интересы исследователей только подобными ролями. Если нам бы не хотелось, чтобы рассмотрение этих центральных проблем повисло в вакууме, то надлежало бы соотносить их с более широким социальным контекстом, а следовательно, с одной стороны, с государством и общественной системой вместе с логикой их функционирования, а с другой – со стихией неформальных социальных микроструктур, из которых вырастает значительная часть динамики публичной жизни. Впрочем, у этой проблематики довольно зыбкие границы, но другими они и не могут быть.
Настоящий учебник представляет собой попытку очертить поле исследований для социологии публичной жизни, а также упорядочить новейшие теоретические знания и эмпирические установления именно с этой точки зрения.
Конструкция данного учебника опирается на предположение, что наиболее существенным фактором, определяющим условия функционирования публичной сферы (иначе говоря, са́мой существенной «независимой переменной»), является национальное государство, понимаемое в соответствии с просвещенческой, а не романтической традицией. Современное национальное государство необязательно должно быть этнически гомогенной (однородной) общностью[7]. В сегодняшнем мире вместе с миграциями, усиливающимися в глобальном масштабе, существует все больше государств, внутренне дифференцированных с этнической точки зрения, хотя это не означает, что они перестают быть организационной формой народа или нации. Это такая нация, в рамках которой этнические критерии не теряют существенности применительно к формированию индивидуальной идентичности ее членов, однако применительно ко всей общности, организованной в государство, они имеют второстепенное значение. Типичным примером такого государства служат Соединенные Штаты Америки. Дефиниция «национальное государство» будет здесь применяться по отношению к народу, который определяется политически, а не этнически.
Отдельные проблемы, укладывающиеся в тот диапазон, который охватывает социология публичной жизни, будут обсуждаться в рамках понимаемого именно так современного национального государства. Разумеется, это не означает, что мы станем игнорировать более широкий контекст функционирования современных национальных государств, а особенно глобализацию. Во внимание будут также приниматься контексты локальных сообществ, функционирующих ниже уровня национального государства. Как глобальный контекст, так и контекст местный, локальный во все более отчетливой степени совместно устанавливают условия функционирования публичной сферы, а следовательно, их никак нельзя обойти в наших рассуждениях. Однако по-прежнему наиболее важным фактором в этом смысле останется национальное государство, и именно оно явится главной точкой отсчета для предпринимаемых нами попыток объяснения публичной жизни.
Современные национальные государства в огромной степени дифференцированы, и нет возможности учесть все их модели, встречающиеся в мире. Посему возникает проблема отбора и применяемых для этого критериев. Наши рассуждения будут в первую очередь касаться публичного пространства в тех национальных государствах, у которых за плечами имеется исторически совсем недавний опыт коммунистической системы и которые представляют собой относительно «молодые» демократии.
Ибо этот фактор – так же как и травма перехода от коммунистической системы и распорядительно-распределительной экономики к демократической системе и свободному рынку[8] – в довольно существенной степени определяет отдельные специфические свойства функционирования публичной жизни в этих странах. Там, где это необходимо, будут проводиться сравнения с публичным пространством в демократических национальных государствах Запада, а также в таких еще продолжающих существовать государствах, где действует авторитарная или даже тоталитарная система.
Книга начинается главой, где подвергнутся обсуждению различные теории радикального общественного изменения. Естественно, наиболее радикальным общественным изменением является революция, результатом которой становится полное изменение общественного порядка, а вместе с ним фундаментально иная организация публичной жизни. Однако демократические революции, которые возбудили третью волну демократизации, значительно отличались от классических революций в смысле как своего протекания, так и роли масс в указанном перевороте. Посему специфика демократических революций, особенно тех, что сопровождали падение коммунистических режимов, будет показана на фоне классических теорий революции, которые в данном случае могли объяснить ход событий лишь в ограниченных пределах. Повергнутся систематизации и разнообразные теории системной трансформации, будет показана их полезность для описания и интерпретации как самого изменения, так и его последствий. Дело в том, что исследования перехода от недемократической системы к демократии создали некую типичную транзитологическую парадигму[9], плодом которой явилась весьма обильная социологическая литература. Коль скоро речь идет о переходе к демократической системе, то в данной книге необходимо представить – по крайней мере, хотя бы на самом элементарном уровне – и избранные теории демократии. Данная проблема будет показана как в ее динамичном аспекте, так и в сравнительной перспективе. Это даст возможность обрисовать причины системного изменения и фазы перехода от недемократической системы к демократии. А также позволит обратить внимание на два параллельных и синхронных процесса, формирующих переход к демократической системе, а именно на либерализацию и демократизацию.
Вторая глава посвящена обсуждению структурных детерминант для разных вариантов поведения в публичной жизни. Прежде всего, будет предпринята попытка ответить на вопрос, действительно ли место в социальной структуре существенным образом обусловливает участие в публичной жизни. Чтобы ответить на данный вопрос, следует ввести понятия стратификации и общественного (социального) статуса, а также понятия легитимированного и нелегитимированного социального неравенства. Ведь лишь на их основании можно формулировать утверждения об относительной депривации и ее влиянии на установки и варианты поведения, проявляющиеся в публичной жизни. Очередным шагом является обсуждение принципов социальной справедливости, а также способа их функционирования в публичной жизни. Ибо я исхожу из предположения, что признание определенных принципов социальной справедливости (на почве которых вырастают разнообразные идеологии) выступает в качестве ключевого фактора легитимации тех или иных типов социального неравенства либо отказа им в правомочности. В свою очередь, те виды и проявления неравенства, которые не располагают общественной легитимацией, образуют первичный источник относительной депривации. Если же относительная депривация перешагнет за пределы уровня социальных микроструктур и обретет общий вектор, то она высвободит коллективные действия, нацеленные на устранение или по меньшей мере на сокращение нелегитимированного социального неравенства.
Главной проблемой очередной главы является вопрос социальной субъектности и чувства действенности {т. е. способности к активной, волевой деятельности}. Как известно, одним из самых существенных мотивов, который подтолкнул поляков к коллективным выступлениям в 1980 году (когда родилась первая «Солидарность»), было желание восстановить социальную субъектность, а также чувство контроля над собственной жизнью. Лишь после восстановления субъектности можно реалистически думать о воздействии не только на превратности собственной биографии, но и на судьбы того сообщества, к которому принадлежишь, и шире – на судьбы всей страны. Вдобавок к этому чувство социальной субъектности является необходимым (хотя и не достаточным) условием появления гражданского общества. Ведь гражданство неразрывно связано с социальной субъектностью, а та, в свою очередь, с определенной сферой свободы в пространстве публичной жизни, предоставляющей возможность не только гражданской экспрессии (внешнего выражения), но и свободной институционализации общественных сил, создающих плюралистический конгломерат организаций, объединений и партий, которые заполняют своей активностью пространство между уровнем социальных микроструктур (семьей и малыми неформальными группами) и уровнем государства и народа. Чувство субъектности связывается с чувством действенности (agency), а оно, в свою очередь, связано с чувством ответственности за собственные поступки и их последствия. Нельзя быть ответственным за нечто такое, на что не имеешь реального влияния, – точно так же, как нельзя избежать ответственности за нечто такое, что является непосредственным следствием хорошо поддающейся идентификации собственной действенности.
Обсуждение этих взаимоотношений и взаимозависимостей необходимо для более глубокого понимания того контекста, в котором появляется феномен гражданства (что явится темой главы 4), а также гражданского общества (глава 5).
Вопрос гражданства обсуждается применительно к концепции Т. Х. Маршалла (T. H. Marshall)[10] ходы, которые помещают проблему гражданства в контекст перехода от авторитарной системы к демократии. Обрисованы также различия между гражданином, потребителем и клиентом. Подвергнется обсуждению и концепция «плюралистического гражданина», а также проблема гражданства в глобализирующемся мире.
Следующая глава начинается указанием источников исторических гражданских обществ, восходящих к временам Древней Греции и Рима. Указанный материал образует, однако, лишь кратко изложенный контекст, который позволяет лучше понять историческую эволюцию данного понятия и всего того комплекса общественных явлений, которые оно образует. Приводится объяснение довольно широкого и обобщенного понимания гражданского общества, а также его специфики в Центральной и Восточной Европе. Особое внимание уделяется формированию гражданского общества именно в этом регионе мира, поскольку многие из теоретиков придерживаются мнения, что нынешний ренессанс гражданского общества в общественных науках и в публичном дискурсе нужно в большой мере считать обязанным как раз событиям в Центральной и Восточной Европе на склоне XX века.
Либеральная и республиканская перспективы (а также, в определенных пределах, и родственная последней коммунитарная перспектива) по-разному позиционируют индивида в социальном контексте. Спор по этому поводу, ведущийся уже много лет, касается не только единичного человека, но переносится также на понимание общества в целом и гражданского общества в особенности. На сегодняшний день это весьма серьезная теоретическая дискуссия, последствия которой носят практический характер, например в сфере идеологии и политики. Поэтому реконструкция позиций, занимаемых сторонами этого спора, становится существенным дополнением к знаниям о гражданском обществе. Часто бывает так, что публичные дебаты вытекают из различающихся исходных предпосылок, на которые молча, а иногда и бессознательно опираются разнообразные антагонисты, и в итоге подобные диспуты редко приводят хотя бы к лучшему пониманию позиции противоположной стороны, уже не говоря о консенсусе.
Гражданское общество не тождественно национальной общности, хотя почти все члены обоих типов совокупностей – это одни и те же лица. Тем не менее участие в каждой из названных общностей характеризуется различными свойствами и чертами, которые подвергаются в данной главе краткому обсуждению. С похожими отличиями мы сталкиваемся при описании гражданского общества, которое контрастно сопоставляется с обществом политическим. И в данном случае будет полезным ознакомление с природой указанных различий.
В последние годы определенные структуры гражданского общества пересекают границы национальных государств и начинают функционировать в глобальных масштабах. Подобные явления склоняют некоторых исследователей к следующему выводу: мы наблюдаем современные зачатки чего-то такого, что в не столь уж отдаленном будущем может стать глобальным гражданским обществом. А в более радикальной версии – что мы уже сейчас имеем дело с таким явлением. Поэтому есть смысл указать на осложнения, которые должен был бы преодолеть процесс формирования глобального гражданского общества, чтобы стать реальным общественным явлением. Размышления на эту тему присутствуют в главе 6.
Следующая глава поднимает проблему качества демократии. Ведь нельзя не согласиться с мнением, что отдельные конкретные демократии, которые похожи между собой с процедурной точки зрения, все-таки отличаются, причем иногда весьма отчетливо, с точки зрения качества. В свою очередь, для качества демократии решающую роль играют, с одной стороны, четкость и эффективность демократических институтов, а с другой – гражданская культура. Стоит сразу же отметить, что гражданская культура не тождественна культуре политической. Разъяснению этих понятий, а также их отношения к качественному уровню демократии и будет посвящена основная часть данной главы. Одним из существенных мерил качества демократии является прозрачность применяемых процедур, обязательность одних и тех же правил участия в публичной жизни (в том числе и в политической жизни) по отношению ко всем индивидуальным и групповым акторам, а также принятие на себя ответственности за свои действия и решения перед теми, на кого указанные действия и решения оказывают влияние. В англосаксонской литературе эта последняя проблема определяется термином accountability (подотчетность). На польском языке его точный эквивалент отсутствует, и поэтому используются описательные приближения (которые напрямую переносятся в русский текст. – Перев.).
Мы обсудим также вопрос, зависит ли четкое и эффективное функционирование демократической системы (democratic performance) от гражданской культуры – как это предполагается в некоторых теориях – или же скорее от четкости и эффективности функционирования институтов и правил игры. Опережая приводимую там аргументацию и умозаключения, есть смысл сразу констатировать, что мы имеем здесь дело с синергическим (взаимоусиливающимся) союзом двух вышеназванных факторов. Высокая гражданская культура и эффективные институты, а также понятные, прозрачные, повсеместно применяемые и устойчивые правила игры взаимно подкрепляют друг друга. Низкая гражданская культура может «испортить» теоретически эффективные институты, а также ограничить понятность правил игры, подорвать их стабильность и поставить под сомнение их повсеместность. Аналогично неэффективные институты и туманные, непонятные правила игры с постоянно растущим числом привилегированных исключений для неких индивидов или групп могут снизить уровень гражданской культуры.



