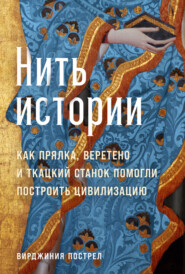скачать книгу бесплатно
В IV или V веке н. э. в некоем доме вспыхнул пожар, и вещи внутри обуглились и подверглись консервации, в их числе – множество семян, хранившихся, по-видимому, для посадки. Вымочив семена в воде и пропустив через сито, Брайт очистила их от грязи. Она разложила образцы по контейнерам размером с кассету для фотопленки и передала Марстону, чтобы тот выяснил, какому растению они принадлежат.
«Я поразился, когда, поместив первый образец под микроскоп, обнаружил, что это точно семя хлопчатника», – вспоминает Марстон, ныне сотрудник Бостонского университета. «Ну нет, не хлопчатник, – подумал он. – Я ошибаюсь. Это что-то другое. Да, похоже на хлопчатник, но другое: его там быть не должно». Никто не ожидал встретить хлопчатник так далеко к северу – в поселении возрастом не позднее 500 года н. э. Однако образцы прекрасно сохранились, семена безусловно принадлежали хлопчатнику, и их было слишком много для того, чтобы принять их за обычный мусор. Жители Кара-Тепе выращивали хлопок.
Если не учитывать проблему заморозков, в этом был смысл. Хлопчатнику требуется очень много солнца, нужны тепло и не слишком частый дождь, поэтому он оказался хорошо приспособлен к условиям жаркого, засушливого региона с засоленными почвами и разливающейся в конце весны – начале лета рекой, которая питает поля. Жизненный цикл хлопчатника гармонировал с циклами местных продовольственных культур. К тому же население Кара-Тепе вполне могло получить семена.
«Этот регион явно вел торговлю с Индией, – объясняет Марстон. – Так что это не тот случай, как если бы мы нашли кукурузу или нечто совершенно невозможное», – растение, которое встречается только на другом конце света. Но зачем индийские крестьяне вывели хлопчатник, который мог расти и в Кара-Тепе? Почему население региона, не знающего заморозков, занималось растением, вызревание которого не зависит от длительности светового дня?
Возможно, к переменам привела торговая конкуренция. Предположим, вы выращиваете хлопчатник в долине Инда – месте, откуда хлопчатобумажную ткань вывозили еще во времена Геродота (V век до н. э.). Если ваши хлопковые деревья (речь идет о древовидном хлопчатнике) начинают цвести раньше, чем у соседа, то вы прежде него попадете на рынок и быстрее продадите свой товар. В случае если спрос велик, вы даже сможете навязать покупателям собственную цену. Чем раньше созревает хлопок, тем это выгоднее земледельцу.
Жаждущие прибыли земледельцы могли отбирать скороспелые растения, не зависящие от длительности дня. Они могли пересаживать такие деревья или, возможно, продавать их семена. Конкуренция способствовала тому, что период цветения отодвигался на все более ранний период, пока хлопчатник (прежде урожай собирали зимой) не стали собирать в конце лета – начале осени. Земледельцам больше не было нужды помнить, что созревание хлопчатника уже не зависит от продолжительности дня. Им не нужно было думать о заморозках. Все, что от них требовалось, – это отбирать те растения, которые раньше дадут урожай. Так они постепенно вывели хлопчатник, который цвел даже в местах наподобие Кара-Тепе. Здесь, на севере, холод все же мог погубить растения – но лишь после сбора урожая. Новую культуру требовалось пересаживать весной. В холодных регионах хлопчатник уже не выглядел как роща из деревьев – и стал пропашной однолетней культурой[16 - Другая возможность – сопротивление вредителям рано созревающего хлопчатника. Именно это произошло с хлопковым долгоносиком в южных штатах США.].
Мы не знаем, кроме этого последнего этапа, что в действительности произошло, однако чтобы на севере Узбекистана рос хлопчатник, его свойства сначала пришлось изменить. «До этой перемены – биологической, генетической перемены – люди не собирались завозить сюда хлопчатник и выращивать его, – объясняет Марстон. – Поэтому не думаю, что мы в самом деле нашли первые признаки этой новой, генетически модифицированной культуры». Семена хлопчатника из Кара-Тепе, как и льняная ткань из пещеры Нахаль-Хемар, – это признаки уже широко распространенной практики.
В следующие века, с расширением Арабского халифата и распространением новой религии, культивирование скороспелого хлопчатника стало еще популярнее. Ислам обещал правоверным в раю шелк, на этом свете запрещенный мусульманам-мужчинам. Ношение хлопчатобумажных тканей стало признаком набожности, и спрос на хлопок рос с каждым обращенным. «Обычный белый хлопок (в Египте – лен) указывал на приверженность человека, его носящего, истинному исламу и маркировал его как разделяющего эстетику арабских завоевателей», – отмечает историк Ричард Булье. После мусульманского завоевания, утверждает он, выращивание хлопчатника и торговля превратили Иранское нагорье в «самую плодородную и значительную в культурном отношении область мусульманского халифата». В IX веке мусульманские предприниматели, скорее всего арабы-переселенцы из Йемена, начали закладывать города в засушливых районах, например в провинции Кум. Они занимали «мертвые земли» по мусульманскому закону, позволяющему объявить их своими тому, кто станет их обрабатывать и «оживит». Для орошения зерновых они строили подземные каналы – канаты. Эти канаты, несмотря на свою дороговизну, круглогодично подводили воду с окружающих гор и отлично способствовали выращиванию хлопчатника, стоившего дороже основных зерновых культур. «В отличие от пшеницы и ячменя (как правило, озимых), – пишет Булье, – хлопчатник был яровой культурой, нуждающейся и в долгом, теплом вегетационном периоде, и в постоянном орошении, которое мог обеспечить канат».
Экспорт хлопка, который по большей части вывозили в Ирак, в свою очередь, способствовал распространению ислама. Обещание выгоды привлекало работников в новые поселения, где они принимали новомодную веру. Обращение в ислам давало землевладельцам-зороастрийцам меньше прав на труд мигрантов и затрудняло их принудительное возвращение на прежнее место[17 - Принявшие ислам получали более высокий статус в обществе, и землевладельцам-зороастрийцам было трудно прогнать их со своих земель.]. «Таким образом, – отмечает Булье, – производство хлопка способствовало быстрому распространению ислама в сельских районах, примыкающих к главным арабским административным центрам и гарнизонам». За столетие новые поселения превратились в города. Мусульманские предприниматели, многие из которых были богословами, чрезвычайно разбогатели.
Примерно то же, что случилось в Персии, произошло по всему исламскому миру. Ислам подстегивал спрос на хлопок, и выращивавшие его мусульмане расширяли производство. «К X веку, – отмечают Брайт и Марстон, – хлопчатник выращивали почти во всех областях мусульманского мира, от Месопотамии и Сирии до Малой Азии, от Египта и Магриба до Испании»[17 - Elizabeth Baker Brite and John M. Marston, "Environmental Change, Agricultural Innovation, and the Spread of Cotton Agriculture in the Old World," Journal of Anthropological Archaeology 32, no. 1 (March 2013): 39–53; Мак Марстон, личная беседа, 20 июля 2017 года; Лиз Брайт, личная беседа, 30 июня 2017 года; Elizabeth Baker Brite, Gairatdin Khozhaniyazov, John M. Marston, Michelle Negus Cleary, and Fiona J. Kidd, "Kara-tepe, Karakalpakstan: Agropastoralism in a Central Eurasian Oasis in the 4th/5th Century A. D. Transition," Journal of Field Archaeology 42 (2017): 514–529, http://dx.doi.org/10.1080/00934690.2017.1365563 (http://dx.doi.org/10.1080/00934690.2017.1365563).]. Когда в Америке испанцы обнаружили хлопчатник, они хорошо понимали, что ищут.
* * *
Хлопок – одно из сокровищ Нового Света, от Мексики до Эквадора. Коренные народы Америки выплачивали тонкой хлопчатобумажной тканью дань, пользовались ей в торговле и церемониальных целях. Хлопчатобумажные паруса приводили в движение прочные плоты из бальзы, ходившие вдоль тихоокеанского побережья Латинской Америки. Кожаные доспехи ацтекских и инкских воинов имели ватную подкладку. Из хлопка изготавливались шнуры для кипу, узелкового письма инков. Когда инки впервые встретились в бою с испанцами, их лагерь растянулся на 5,6 километра. «Было видно так много палаток [из хлопковой ткани], что это поистине испугало нас, – сообщал испанский хронист. – Мы и подумать не могли, что индейцы в состоянии содержать такое великолепное имущество и имеют столько палаток»[18 - Kim MacQuarrie, The Last Days of the Incas (New York: Simon & Schuster, 2007), 27–28, 58, 60; David Tollen, "Pre-Columbian Cotton Armor: Better than Steel," Pints of History, August 10, 2011, https://pintsofhistory.com/2011/08/10/mesoamerican-cotton-armor-better-than-steel/ (https://pintsofhistory.com/2011/08/10/mesoamerican-cotton-armor-better-than-steel/); Frances Berdan and Patricia Rieff Anawalt, The Essential Codex Mendoza (Berkeley: University of California Press, 1997), 186.].
До начала XIX века, однако, в Америке хлопчатник выращивали главным образом в тропиках. Дорогой длинноволокнистый хлопок «си-айленд» (Sea Island cotton; один из сортов G. Barbadense) способен расти в некоторых теплых районах на побережье США, но попытки возделывать его на остальной территории Юга оказались тщетными из-за заморозков. Хлопчатник двух сортов, цветущих до холодов, имел предрасположенность к болезням, к тому же небольшие коробочки этих растений было непросто собирать и очищать. Плантаторы искали такой сорт хлопчатника, который успешно произрастал бы на плодородных землях в низовьях Миссисипи – в то время юго-западной границы республики[19 - Сорт «си-айленд» относится к виду Gossypium barbadense, первоначально возделываемому в Перу. К этому виду принадлежит также длинноволокнистый хлопчатник «пима» (и его вариация, известная на рынке под наименованием «супима») и некоторые египетские сорта. Более распространенный «упланд» – это Gossypium hirsutum, коротковолокнистый вид с полуострова Юкатан. В настоящее время на сорта G. hirsutum приходится около 90 % мирового товарного производства хлопчатника, а на сорта G. barbadense – почти весь остальной объем. Вне зависимости от того, появился ли сорт (раса, порода; variety) случайно, естественным путем, или был выведен искусственно для улучшения определенных (полезных для человека) свойств, он остается разновидностью одного и того же вида (например, и пудель, и дог остаются собаками).].
В 1806 году Уолтер Берлинг обнаружил его в Мехико.
Берлинг принадлежал к тем безнравственным авантюристам, которые принесли молодому капитализму дурную славу. В 1786 году, когда Берлингу было чуть за двадцать, он убил на дуэли отца своего юного племянника (однако вышла ли тайно замуж (за этого человека) сестра Берлинга – вопрос до сих пор спорный). Через шесть дней, прельстившись заработками работорговцев, Берлинг с партнерами занялся куплей-продажей невольников на острове, который теперь называется Гаити. В 1791 году островитяне-рабы восстали, и во время Гаитянской революции Берлинг получил ранение в бедро. Он вернулся в Бостон. В 1798 году Берлинг стал первым американцем, совершившим путешествие в Японию, откуда через два года привез среди прочего тамошние художественные изделия и груз яванского кофе.
Берлинг женился на женщине из Бостона, отправился на фронтир и около 1803 года обосновался в Натчезе, штат Миссисипи. Через несколько лет он стал адъютантом еще одного безнравственного авантюриста – генерала Джеймса Уилкинсона, губернатора Луизианы. Уилкинсон не только был сообщником Аарона Бэрра по заговору с целью основать на юго-западе (нынешних США) независимое государство, но и шпионил в пользу испанцев.
В Мехико Берлинга отправил именно Уилкинсон. Он поручил Берлингу передать испанскому вице-королю письмо с требованием уплаты ему, Уилкинсону, 122 000 долларов за раскрытие заговора Бэрра с целью захватить Мексику, а заодно нанести на карту возможные пути вторжения в эту страну армии США. Уилкинсон был из тех, кто работал, покуда платили, на кого угодно.
Денег Берлинг не получил: испанцы, очевидно, посчитали, что уже в достаточной мере вознаградили Уилкинсона, зато нашел в Мексике хлопчатник того сорта, который, по его мнению, мог прижиться в Миссисипи, и тайно вывез семена в США. Согласно легенде, долго сохранявшей популярность в миссисипских школах, Берлинг испросил у вице-короля позволения вывезти семена, получил отказ, поскольку их экспорт был незаконен, но «сумел забрать домой столько кукол, сколько захотел; куклы были набиты семенами хлопчатника». Берлинг умер в 1810 году, не оставив завещания, с огромными долгами[20 - Jane Thompson-Stahr, The Burling Books: Ancestors and Descendants of Edward and Grace Burling, Quakers (1600–2000) (Baltimore: Gateway Press, 2001), 314–322; Robert Lowry and William H. McCardle, The History of Mississippi for Use in Schools (New York: University Publishing Company, 1900), 58–59.]. Но его мексиканская находка изменила историю.
Новый сорт хлопчатника действительно оказался идеальным для Миссисипи. Растение рано вызревало, избегая, таким образом, холодов. Все коробочки появлялись примерно в одно время, что давало богатый урожай, они были крупными и очень широко раскрывались, благодаря чему хлопок было гораздо легче собирать. «Благодаря этому необычному свойству, – пишет специализирующийся на истории сельского хозяйства исследователь Джон Хеброн Мур, – сборщики могли собирать в день в 3–4 раза больше мексиканского хлопка, чем прежде культивировавшегося сорта "джорджия грин сид"». Соотношение объема волокна и семян в нем существенно выгоднее. Волокна после очистки от семян оказалось примерно на треть больше. При этом мексиканский хлопчатник был устойчив к гнили – заболеванию, угрожавшему уничтожить хлопковое производство региона. К 1820-м годам фермеры из низовий Миссисипи уже широко использовали новый сорт. Кроме того, они улучшили его – и случайно, и намеренно. Легкомысленно допустив перекрестное опыление мексиканского хлопчатника и хлопчатника «джорджия грин сид», фермеры случайно получили гибрид, сохранивший большую долю преимуществ мексиканского сорта и избавленный от его главного недостатка: если коробочки не собирали сразу после вызревания, они опадали. После этого селекционеры уже целенаправленно улучшали семенной материал. К началу 1830-х годов долину Миссисипи покорил и хорошо прижившийся восточнее, на красноглинье, новый гибрид «пети-галф» (на основе мексиканского).
По словам Мура, находка Берлинга «настолько повысила урожайность и улучшила качество американского хлопка, что в Зале славы старого Юга она заслуживает места рядом с хлопкоочистительной машиной Илая Уитни». Запатентованное в 1794 году изобретение Уитни (и спустя несколько лет менее известная, однако более успешная, созданная на основе пилы модель Ходжена Холмса) с помощью валов и щеток отделяло семена от хлопкового линта (lint); за счет механизации трудоемкого процесса выработка хлопка сильно увеличилась[21 - John Hebron Moore, "Cotton Breeding in the Old South," Agricultural History 30, no. 3 (July 1956): 95–104; Alan L. Olmstead and Paul W. Rhode, Creating Abundance: Biological Innovation and American Agricultural Development (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 98–133; O. L. May and K. E. Lege, "Development of the World Cotton Industry" in Cotton: Origin, History, Technology, and Production, ed. C. Wayne Smith and J. Tom Cothren (New York: John Wiley & Sons, 1999), 77–78.].
Реклама семени хлопчатника, 1858 год. Объявления об «улучшенном хлопке» встречаются во многих сельскохозяйственных изданиях 1850-х годов (Duke University Library, Emergence of Advertising in America: 1850–1920 collection)
Теперь, с появлением новых семян, новой техники для обработки сырья и благодаря быстрорастущему спросу со стороны североанглийских фабрик, обострилась «хлопковая лихорадка», привлекавшая на «хлопковый фронтир» пионеров наподобие Берлинга. «Спрос на американский хлопок до 1860 года ежегодно рос более чем на 5 %, и Юг стал почти идеальной в доирригационную эпоху областью для выращивания хлопчатника, – пишет историк экономики. – Говорили, что американский хлопок "упланд" не имел себе равных в "прочности волокна вкупе с его мягкостью и длиной"». На землях хлопкового фронтира делались огромные деньги.
В 1810–1850 годах население Миссисипи увеличилось почти в 15 раз: с 40 352 до 606 526 человек[22 - Gavin Wright, Slavery and American Economic Development (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2006), 85; Dunbar Rowland, The Official and Statistical Register of the State of Mississippi 1912 (Nashville, TN: Press of Brandon Printing, 1912), 135–136.].
Не все первопроходцы долины Миссисипи были дерзкими плантаторами, мечтавшими разбогатеть на хлопке. Почти половину населения – 1 млн человек за полвека до освобождения – составляли рабы, насильно оторванные от семей, друзей и родины. Их мучительный опыт представлял собой второе изгнание, повторение на американской земле пути из Африки. Жертвы сравнивали пережитое с похищением. «Они украли ее в Вирджинии, привезли в Миссисипи и продали ее Марсу Берри», – вспоминала слова своей бабушки бывшая рабыня Джейн Саттон[23 - Edward E. Baptist, "'Stol' and Fetched Here': Enslaved Migration, Ex-slave Narratives, and Vernacular History," in New Studies in the History of American Slavery, ed. Edward E. Baptist and Stephanie M. H. Camp (Athens: University of Georgia Press, 2006), 243–274; Federal Writers' Project of the Works Progress Administration, Slave Narratives: A Folk History of Slavery in the United States from Interviews with Former Slaves, Vol. IX (Washington, DC: Library of Congress, 1941), 151–156, www.loc.gov/resource/mesn.090/?sp=155 (http://www.loc.gov/resource/mesn.090/?sp=155).]. Порой невольниками становились похищенные работорговцами свободные граждане – как в случае Соломона Нортрапа, чьи мемуары «Двенадцать лет рабства» (Twelve Years a Slave) легли в основу удостоенного «Оскара» одноименного фильма 2013 года.
Чаще они были невольниками с востока страны, хозяева которых отдавали их в уплату долга или просто ради выгоды: на западе требовались рабочие руки. Работорговцы набивали этими несчастными корабли, шедшие в Новый Орлеан, или, сковав их друг с другом, гнали за сотни километров на запад. Такие невольничьи караваны были привычным зрелищем на дорогах в конце лета и начале осени, когда погода позволяла совершить двухмесячный марш.
Других невольников, попадавших на запад вместе с хозяевами, нередко насильно разлучали с супругами и детьми. «Моя дорогая дочь! У меня одно время была надежда увидеть тебя в этом мире, но теперь эта надежда пропала навсегда», – писала рабыня Фиби Браунригг своей дочери (свободной) Эми Никсон незадолго до того, как хозяин в 1835 году отправил ее из Северной Каролины в Миссисипи. В одном из редких писем, написанных отправляемой на запад рабыней от своего имени, говорилось: «Пускай мы встретимся возле небесного престола Отца нашего и никогда уж не разлучимся».
Американцы могли заселить и обрабатывать земли хлопкового фронтира и без помощи невольников. Вскоре после Гражданской войны и отмены рабства урожайность хлопка восстановилась и превысила прежний уровень. Небольшие фермерские хозяйства стали производить все больше сырья. Но привлечение добровольных переселенцев, которые мирились бы с тяготами жизни фронтира и жарким, влажным и нездоровым климатом региона, заняло бы существенно больше времени. С помощью подневольной рабочей силы плантаторы сумели быстро освоить новые земли.
«Плантаторы и работорговцы ввозили больше невольников, чем приезжало белых пионеров, – отмечает историк, – и к 1835 году большинство населения Миссисипи составляли темнокожие». Плодородная почва и появление улучшенного посевного материала ускорили распространение рабства и сделали его выгоднее. Там, где самым дефицитным ресурсом был труд, переселенцы-хлопководы привлекали рабочую силу, которая не могла никуда уйти и, более того, сама могла выступать залоговым имуществом при финансировании производства[24 - В 1860 году, перед Гражданской войной, США производили 4,56 млн тюков хлопка, в 1870 году – 4,4 млн, в 1880-м – 6,6 млн. В 1860–1870 годах количество хлопководческих хозяйств площадью до 40 гектаров на Юге увеличилось на 55 % из-за разорения прежних плантаций и продажи их по частям. Теперь и темнокожие, и белые южане работали как фермеры – на собственной земле, как испольщики, или на арендованной. В 1880-х годах появились эффективные удобрения и новые сорта хлопчатника с более крупной коробочкой, что облегчило сбор урожая. См.: May and Lege, "Development of the World Cotton Industry," 84–87; David J. Libby, Slavery and Frontier Mississippi 1720–1835 (Jackson: University Press of Mississippi, 2004), 37–78. О влиянии на производительность труда и выгодах для рабовладельцев права собственности на невольников см.: Wright, Slavery and American Economic Development, 83–122.].
Согласно расхожему мнению, довоенный Юг – это территория технологической отсталости, где никто никуда не торопится и царит традиционный уклад, – в противоположность Северу, где орудуют находчивые янки. Хлопкоочистительную машину и ту изобрел выходец из Новой Англии. Однако Юг тешил собственные научные и технические амбиции, пусть даже в сфере сельского хозяйства, а не промышленности. Пильный волокноотделитель Холмса из Саванны превзошел валичный механизм Уитни. Жатка (на конной тяге) Сайруса Маккормика, заполонившая собой пшеничные поля Среднего Запада, была сконструирована на виргинской плантации с помощью невольника Джо Андерсона[25 - Cyrus McCormick, The Century of the Reaper (New York: Houghton Mifflin, 1931), 1–2, https://archive.org/details/centuryofthereap000250mbp/page/n23 (https://archive.org/details/centuryofthereap000250mbp/page/n23); Bonnie V. Winston, "Jo Anderson," Richmond Times-Dispatch, February 5, 2013, www.richmond.com/special-section/black-history/jo-anderson/article_277b0072–700a-11e2-bb3d-001a4bcf6878.html (http://www.richmond.com/special-section/black-history/jo-anderson/article_277b0072%E2%80%93700a-11e2-bb3d-001a4bcf6878.html).]. Рабство было бесчеловечным, однако вполне совместимым с новаторством.
Глубоко укоренившиеся в коллективном сознании образы отсталого довоенного Юга мешают проводить различия между «технологиями» и машинами и оттесняют на задний план такие не менее важные формы технологии, как селекционные семена. В отличие от коллег-северян, плантаторы Юга не были в первую очередь заинтересованы в механизации труда и с энтузиазмом приветствовали такие новшества, которые позволяли добиться большего от имеющейся земли и невольников-рабочих. Они поощряли тех изобретателей, чей посевной материал обещал больший урожай.
«В последние 20–30 лет хлопчатник, несомненно, добился существенного прогресса, и единственно благодаря селекции», – писал в 1847 году Мартин Филипс, миссисипский плантатор с научным складом ума[26 - Moore, "Cotton Breeding in the Old South," 99–101; M. W. Philips, "Cotton Seed," Vicksburg (MS) Weekly Sentinel, April 28, 1847, 1. О Филипсе также см.: Solon Robinson, Solon Robinson, Pioneer and Agriculturalist: Selected Writings, Vol. II, ed. Herbert Anthony Kellar (Indianapolis: Indianapolis Historical Bureau, 1936), 127–131.].
В 1800–1860 годах благодаря работе семеноводов среднее количество хлопка, собираемого в день работником в южных штатах, увеличилось вчетверо – примерно с 11,3 до 45 килограммов. (Лучшие работники собирали гораздо больше.)
Спрос на селекционный хлопчатник и другие инновации был характерен в первую очередь для новых штатов по течению Миссисипи. «Большинство технологий появились в долине Миссисипи, – указывают историки экономики Алан Олмстед и Пол Род, изучившие сотни отчетов об урожае с плантаций, чтобы понять эффект влияния нового посевного материала, – и были лучше приспособлены для ее геоклиматических условий, чем для условий, общих для большей части территории Джорджии, Северной Каролины и Южной Каролины, не говоря уже об Индии и Африке». По мере того как поля становились урожайнее, хлопководство на Юге год за годом смещалось к западу[27 - Alan L. Olmstead and Paul W. Rhode, "Productivity Growth and the Regional Dynamics of Antebellum Southern Development" (NBER Working Paper No. 16494, Development of the American Economy, National Bureau of Economic Research, October 2010); Olmsted and Rhode, Creating Abundance, 98–133; Edward E. Baptist in The Half Has Never Been Told: Slavery and the Making of American Capitalism (New York: Basic Books, 2014), 111–144. Последний автор утверждает, что рост производительности труда обусловлен совершенствованием методов принуждения и наказания рабов, что способствовало более эффективному сбору хлопка. Однако это объяснение не годится, поскольку рост производительности оказался слишком велик, к тому же влияние нового посевного материала подробно описано в документах. Разумнее, исходя из имеющихся данных, предположить, что управляющие на плантациях заставляли рабов собирать хлопок как можно проворнее, насколько позволяла технология посева. См.: John E. Murray, Alan L. Olmstead, Trevor D. Logan, Jonathan B. Pritchett, and Peter L. Rousseau, "Roundtable of Reviews for The Half Has Never Been Told," Journal of Economic History, September 2015, 919–931; "Baptism by Blood Cotton," Pseudoerasmus, September 12, 2014, https://pseudoerasmus.com/2014/09/12/baptism-by-blood-cotton/ (https://pseudoerasmus.com/2014/09/12/baptism-by-blood-cotton/), and "The Baptist Question Redux: Emancipation and Cotton Productivity," Pseudoerasmus, November 5, 2015, https://pseudoerasmus.com/2015/11/05/bapredux/ (https://pseudoerasmus.com/2015/11/05/bapredux/).].
Таким образом, «умное» селекционирование хлопчатника имело огромные последствия для людей и для истории. Появление улучшенного хлопчатника стимулировало движение на запад, в том числе принудительную миграцию рабочих-невольников. Экономические позиции рабства укрепились, что еще сильнее обострило противоречия между свободным Севером и рабовладельческим Югом, в итоге приведшие к американской Гражданской войне. Поставки сырья на британские и новоанглийские фабрики увеличились. Это ускорило промышленный подъем, что способствовало росту благосостояния на планете до невиданного в истории уровня. Производители хлопка из США получили преимущество перед хлопкоробами Индии, Вест-Индии и так далее.
Селекционеры хлопчатника не в большей степени предвидели эти геополитические последствия, чем появление в будущем блюза и джаза, романов Уильяма Фолкнера и Тони Моррисон или джинсов и футболок, которые во второй половине XX века стали символизировать молодость и свободу. Эти люди просто пытались получить больше хлопка лучшего качества. Но текстиль никогда не был отделен от остальных аспектов жизни, и они, к добру или к худу, оказались вплетены в ткань цивилизации.
* * *
Шелководство, то есть выращивание и сбор шелковичных червей, – древнее искусство. Белки шелка найдены в почве под телами в китайских захоронениях возрастом 8500 лет. Судя по белкам ткани, она изготовлена, вероятно, из коконов дикого тутового шелкопряда. Со временем китайские селекционеры одомашнили это насекомое и стали получать нить из коконов Bombyx mori. Древнейшим из найденных шелковых тканей около 5500 лет. В них, судя по всему, завернули тело перед тем, как положить в гроб в форме куколки шелкопряда. В эпоху династии Шан-Инь (1600–1050 годы до н. э.) шелководство оформилось в достаточной степени для того, чтобы стать обыденным объектом для гаданий и обзавестись собственным ритуалом жертвоприношений[28 - Yuxuan Gong, Li Li, Decai Gong, Hao Yin, and Juzhong Zhang, "Biomolecular Evidence of Silk from 8,500 Years Ago," PLOS One 11, no. 12 (December 12, 2016): e0168042, http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0168042 (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0168042); "World's Oldest Silk Fabrics Discovered in Central China," Archaeology News Network, December 5, 2019, https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2019/12/worlds-oldest-silk-fabrics-discovered.html (https://archaeologynewsnetwork.blogspot.com/2019/12/worlds-oldest-silk-fabrics-discovered.html); Dieter Kuhn, "Tracing a Chinese Legend: In Search of the Identity of the 'First Sericulturalist,'" T'oung Pao, nos. 4/5 (1984): 213–245.].
Уход за тутовым шелкопрядом. По «Картинам хлебопашества и ткачества» (Yu zhi Geng zhi quan tu), 1696 год (Chinese Rare Book Collection, Library of Congress)
В результате тысячелетий целенаправленной селекции Bombyx mori стал зависеть от человека. Теперь взрослая бабочка не умеет летать, что делает удобнее ее содержание, и лишена защитной окраски, позволявшей ей жить в дикой природе. Чтобы получить шелк, гусениц кормят свежими листьями тутового дерева. Насекомые живут на специальных подносах, защищенных от непогоды. Люди подкладывают гусеницам палочки, на которых те сооружают коконы, и после внимательно наблюдают за ними. «С того дня, как мы сметаем яйца на подносы, – объясняла путешественнику сунской эпохи старуха, собиравшая листья тутового дерева, – мы ходим за ними, как за новорожденными»[29 - Angela Yu-Yun Sheng, Textile Use, Technology, and Change in Rural Textile Production in Song, China (960–1279) (неопубликованная диссертация, University of Pennsylvania, 1990), 185–186.].
Уход прекращается ровно перед вылуплением бабочек. Шелководы собирают коконы и нагревают их, чтобы бабочки погибли, не успев выйти, и не повредили шелк. Вылупиться и оставить потомство позволяют немногим насекомым.
Каждый этап этого процесса требует точности и аккуратности: верной плотности коконов и листьев, верной температуры и верного выбора момента. Постепенное совершенствование может иметь большое значение.
В период правления династии Сун (960–1279) спрос на шелк увеличивался. Чтобы покупать мир у соседних государств, одевать растущее войско и поддерживать блеск императорского двора, правительство повысило налоги на шелковую пряжу и ткани. Тогда же городские ремесленники стали закупать больше сырья для изготовления роскошных тканей для нужд растущего чиновничества.
Как и хлопковые плантаторы Юга США, крестьяне стремились получить больше шелка, задействовав те же самые земельные и трудовые ресурсы. С этой целью, по словам исследователя текстиля Анджелы Ю-Юн Шэн, они «разработали новые приемы производства, задним числом кажущиеся простыми, но на самом деле оригинальные и изощренные. Эти методы экономили время и увеличивали производительность».
Шелководы додумались скрестить тутовые деревья из двух областей Китая, привив побеги густолиственного сорта люй на ствол более стойкого дерева цзин. Кроме того, они начали прищипывать побеги, чтобы листьев стало больше. Эти два усовершенствования обеспечили стабильно пополняемый, круглогодично доступный запас пищи для насекомых. Так крестьяне сумели вывести шелкопряда, дающего несколько поколений за один сезон (поливольтинный вид). Обычно рождалось два или три поколения насекомых, но некоторые особенно ценные подвиды имели до восьми поколений в год.
Как и в случае хлопчатника, желательно, чтобы коконы созревали одновременно, но не портились прежде, чем их успеют переработать. Поэтому шелководы придумали, как управлять урожаем. Для контроля над вылуплением они научились регулировать температуру кладок. Яйца высыпали на подносы из толстой бумаги и раскладывали их (примерно по десятку) в глиняные сосуды, которые погружали в холодную воду. Подносы периодически вынимали из сосуда, давали яйцам согреться на солнце и снова убирали. Эта мера, кроме отсрочивания вылупления, имела дарвинистское значение. «Этот метод дал преимущество в виде отсеивания слабых яиц, поскольку холод и ветер выдерживали лишь сильные», – отмечает Шэн.
После вылупления шелковичных червей буквально закармливают листьями тутовника. Чтобы вырасти как можно быстрее (и дать шелк), насекомым требуется тепло. Но необходимость в нагревании порождала технические затруднения: доступное топливо имело выраженные недостатки. Дым от сжигания дров может повредить насекомым. Сжигание же кизяка им не вредит, но и дает не так много тепла.
Удобным решением оказалась переносная печь: в ней можно было сжечь дрова, а после внести ее в помещение с шелковичными червями, покрыв раскаленную печь слоем золы или смешанного с землей и соломой навоза, чтобы тепло долго сохранялось. Другая техника, которую предпочитали крупные заводчики, заключалась в том, чтобы вырыть яму в середине помещения, заполнить ее слоями сухой древесины и навоза и поджечь слои примерно за неделю до того, как яйца вылупятся. Огонь тогда будет равномерно гореть примерно до тех пор, пока не появятся шелковичные черви. На этом этапе дверь в помещение держали открытой ровно настолько, чтобы дым выветривался, и закрывали ее, чтобы сохранить тепло, пока насекомые вылуплялись и росли. Применяя эти два приема, отмечает Шэн, «крестьяне в государстве Сун сократили продолжительность второй стадии роста» насекомого, когда личинка перед окукливанием несколько раз линяет, «с 34–35 дней до 29–30, даже до 25 дней».
Кроме того, выяснилось, что готовые к сбору коконы можно сохранять еще неделю, если их обработать солью. Это позволило отложить очень неудобную процедуру сматывания шелка и увеличить его выход. Наконец, соль улучшала качество шелка.
Ни одно из этих нововведений в отдельности не имело судьбоносного значения, но вместе они позволили получать гораздо больше шелка при тех же трудозатратах и на той же площади. Резкое повышение производительности помогало крестьянам-шелководам справляться с грузом растущих податей – и при этом осваивать новые рынки. Некоторые даже забросили свои хозяйства и сосредоточились на изготовлении текстиля[30 - Sheng, Textile Use, Technology, and Change, 23–40, 200–209.]. История шелководства в сунском Китае (и хлопководства на Юге США) показывает, что для технического прогресса машины не обязательны.
* * *
Природа – это не только растения и животные, дающие людям волокна, но и их враги, и не все угрозы столь же очевидны, как досаждавший Югу США хлопковый долгоносик. Микробиология, коренным образом изменившая знание об инфекционных болезнях и спасающая миллионы жизней, началась с усилий по спасению шелководства.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: