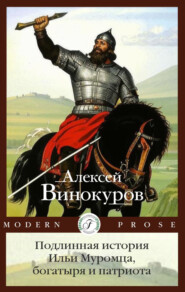скачать книгу бесплатно
Подлинная история Ильи Муромца, богатыря и патриота
Алексей Юрьевич Винокуров
Modern Prose (Flauberium)
Из всех русских богатырей Илья Муромец, пожалуй, самый популярный. Однако подлинные обстоятельства его жизни скрыты в силу того хотя бы, что нас и его разделяют многие века. Скудные же сведения, которые можно получить из сказаний и былин, часто звучат фантастически и уж никак не могут развеять мрак неизвестности вокруг его биографии.
Перед вами – попытка художественным образом восстановить и переосмыслить наиболее важные и яркие эпизоды из жизни Ильи Муромца. Вероятно, кому-то они покажутся не слишком серьезными, но, как доподлинно свидетельствуют ученые, в древнерусские времена смеха и шуток было гораздо больше, чем сейчас.
Алексей Винокуров
Подлинная история Ильи Муромца, богатыря и патриота
Часть первая
К тридцати годам Илья-сидень не обзавелся ни домом, ни семьей, ни женой с детишками. Были у него только старики-родители, Ефросинья и Иван, Тимофеев сын, по прозвищу Бык. Целыми днями Илья лежал на печи и глядел в грязный, закопченный потолок. Изба топилась по-черному, и на потолке можно было рисовать узоры – но охотников рисовать что-то не находилось.
Мать не верила в болезнь сына и бранила Илью на чем свет стоит – пыталась пробудить в нем совесть.
– Все люди, как люди, один он лежит на печи. Пошел бы, сделал хоть чего, родителям помог. А то ишь, лежит, боров!
Илья отмалчивался, проглатывал несправедливость.
Особенно тяжко приходилось во время сева и жатвы. Отец с матерью приходили уставшие, еле добредали до полатей и сразу валились спать. Но, и засыпая, мать в полусне бранила Илью:
– Не хочет ничего делать, боров жирный! Рожала, думала, помощник будет, кормилец, а он лежит. Ни рук, ни ног – какая теперь от тебя польза?
Илья молчал, ничего не говорил. Молчал и отец. Когда узнал, что сын его болен, горе придавило его, стал молчалив, ни с кем не разговаривал. Много разных бабок водил к Илье, из ближних сел и из дальних. Бабки удивлялись здоровому виду Ильи и тому, что он при таком виде – калека, шептали над ним молитвы, брызгали водой, плевали в углы.
– Заплевали всю избу, а толку нет, – ворчала мать, провожая бабок, уносящих в платках кур и яйца.
На тридцатилетие отец справил Илье новую красную рубашку. Илья сидел на печи в рубашке, причесанный, красивый, мать кормила его с ложечки.
– Эх, найти бы ему девку хорошую, чтобы обихаживала его, – говорила мать, подбирая краюхой остатки щей, – мы-то ведь с тобой, старый, скоро умрем. Да только кому он такой нужен?
Весной Ивана придавило бревном. Хоронили его всем селом, даже Илью вынесли посмотреть в последний раз на отца. Лежал он в просторной деревянной домовине, строгий, торжественный, будто говорил оставшимся: «Ужо вам! У меня не забалуешь!» Чудилось Илье, что сквозь прикрытые веки глядел он в небо – что там, как отнеслись к его смерти, правильно ли поняли? С неба не было никаких знаков, только тучка набежала, и дождь заморосил.
– В дождь хоронить – добрая примета, – тихо сказал бондарь Егорий старосте. Тот кивнул в ответ.
Илья сидел как каменный, только капли текли по лицу, и невозможно было разобрать – то ли это слезы, то ли дождь лицо намочил.
Поп еще махнул кадилом, забормотал молитву, и гроб с телом стали опускать в землю…
Мать не выдержала горя, слегла. Еле хватало сил встать с постели, обиходить Илью, о себе уже не думала. Крепкое когда-то хозяйство пришло в упадок. В хлеву визжали голодные свинята, кричала недоеная корова – уж и не знали, что делать с животиной. Однако добрые люди не оставили сирот своим попечением: кто куренка утащит, кто жердь из забора вынет, кто поросенка незаметно уволочет. Так потихоньку вопрос со скотиной и решился.
Несколько раз заходил поп, отец Василий, смотрел на разорение, вздыхал, вел беседы с матерью. С Ильей не разговаривал, только осенял крестом и руку давал целовать.
Ночью Илья слышал, как мать плакала. С горящим лицом он лежал на печи, не в силах вымолвить слова, в отчаянии глядел на белеющие в темноте руки. В голове крутилось глупое присловье: «Эх вы, ноги мои нехожалые, эх вы, руки мои – недержалые!»
К осени матери полегчало, стала ходить – сначала по избе, потом по двору, делать кой-какую работу. Живность, которую не стащили, вся перемерла, выжил только одичавший пес Мурза, который в соответствии с татарским своим именем приспособился в виде возмездия таскать кур из соседних дворов.
Чтобы прокормить себя и сына, мать пошла работать на монастырь, стоявший рядом с селом. На день она оставляла рядом с Ильей миску каши и кувшин воды. Илья подползал к миске и ел с нее, захватывая кашу губами. Так же пил и из кувшина.
Как-то он сделал неудачное движение, кувшин не удержался и полетел с печи на пол, Илья, испугавшись, кинулся за ним. Уже падая, понял, что летит лицом прямо в пол. Из последних сил рванулся и внезапно почувствовал острую боль – упал на руку.
Мать нашла его на полу. Рядом с ним валялся пустой кувшин, вода из него растеклась лужей, замочила штаны. Мать с помощью соседей взвалила Илью обратно на печь, ругая на чем свет стоит, но он был как-то особенно тих и задумчив и даже, показалось ей, на лице его появился какой-то радостный свет.
Ночью он не спал и думал о том, как же рука его могла оказаться между головой и полом, и ничего другого не смог придумать, кроме как то, что он сам сумел двинуть ею. При мысли об этом горячая волна залила его лицо, и весь он исполнился такой бурной, бешеной радости, что сам испугался. Всю оставшуюся ночь он молился Богу, чего не случалось с ним, наверное, уже лет десять. Не то чтобы он снова уверовал, а просто хотелось ему с кем-то поделиться своей радостью.
На следующий день он с нетерпением ждал, пока мать уйдет в монастырь. Потом лег на спине прямо, вытянулся, зажмурился. Вдохнул воздуху побольше и приказал руке «Подымись!»
Рука лежала, как мертвая.
– Подымись! – повторил Илья. В голосе его была угроза.
Рука опять лежала.
– Подымись! – в полный голос крикнул Илья. – А ну, подымись! Велю!
Через полчаса он был весь в поту, а рука так и лежала – не шевелясь.
– Ничего, – прошептал Илья, морщась. – А мы другую попробуем…
Пришедшая мать застала его, как он, закатив глаза, бормотал вне себя: «Подымись! Подымись!» Она окликнула его – он не ответил. Толкнула его – лежал, не шевелясь, и только шептал в беспамятстве: «Подымись!» С трудом отлили его водой, но и после этого до конца в себя он не пришел, лежал лицом в стену, как бы повредившись в уме.
Мать испугалась.
– Ой, господи, это что же? Раньше только не двигался, а теперь и не слышит, и не говорит…
Позвала знахарку. Знахарка глядела на него, мяла щеки, дула в уши.
– Голос есть, – сказала она. – И ухи слышит. Нет никакой болезни. Корми лучше.
– Да уж я кормлю-кормлю, куда уж лучше-то, – посетовала мать.
– Жирнее корми, гуще, – строго велела знахарка, и ушла прочь.
Мать стала ходить в лес за грибами, жарить их. Но Илья ел вяло, и все как будто о чем-то думал.
– Все думает, и думает, и слова не скажет, – жаловалась мать соседкам. – А чего ему думать? Был бы он князь или вот хоть монах. А то обыкновенный хрестьянин.
– Тоскует, видно, – сочувствовали соседки, и бежали домой – кормить скотину.
– А мне и кормить некого, – говорила мать со вздохом, – вся скотина перемерла, один только Мурза и остался.
«Что же, – думал Илья, – неужто я вовсе не хозяин своим рукам? Без меня она двинуться может, а со мной – не хочет? Как такое случилось?»
Через неделю он окликнул из окна пробегавшего мимо мальчишку и попросил принести ему веревок и чурбачок потяжелее. Мальчишка принес. В дом он вошел, пугливо озираясь и обнюхиваясь – лежащий на печи здоровый калека был ему страшен. Но Илья говорил с ним ласково, угостил грибами и кашей, и тот осмелел.
Илья попросил мальчонку привязать веревки одним концом к чурбаку, подложить его ему, Илье, под голову, другой конец перекинуть через балку и привязать к рукам.
Мальчонка оказался смышленый, сделал все правильно. Илья отпустил мальчика, попросив прийти к вечеру, а за то обещал накормить его еще кашей.
Теперь у Ильи появились тяжи. Опускаешь голову – руки вверх веревками тянет, поднимаешь – руки вниз падают. Так он и опускал-поднимал целыми днями. Передыхал только, когда шея совсем отламываться начинала.
Мальчишка бегал к нему каждый день утром и вечером, снимал-одевал тяжи. Илья кормил его за это кашей, учил грамоте, которой сам научился в детстве от церковного дьячка.
Так прошла осень, зима. Весной в село ворвалась татарва, била все, грабила, насиловала девок и молодок. Двое узкоглазых в шапках с лисьими хвостами заглянули и к ним в избу, но, увидев нищую обстановку, старуху и сына-калеку на печи, ушли, ничего не говоря.
На третий день хоронили убитых. Было их трое: поп Василий, местный кузнец и его жена. Кузнец вступился за свою молодую жену, убил двух татарчат, но его зарубили кривыми мечами и под горячую руку еще и попа. Молодая жена лежала рядом с кузнецом – наложила на себя руки после смерти мужа. Илья глядел на три черных гроба, кулаки его сжимались, лицо костенело.
– Вишь ты, попа убили, нехристи, – тихо говорил бондарь старосте. – Верно сказано: Бог-то Бог, да и сам будь неплох.
Староста согласно кивал головой.
Отпевал покойных незнакомый монах из ближнего монастыря. Похоронил их на кладбище, за вербами, установили кресты, отслужили молебен, стали жить дальше – что поделаешь, горе горем, а жить надо. Один Илья не мог жить, как прежде, ночью снились ему кошмары: снились врывающиеся в село хрипящие татарские кони, снились горящие стрелы, падающие на избы, кривые мечи, обагренные кровью, снились летящие по воздуху гробы, а в них – мертвые лица убитых.
Днем уже был не нужен ему мальчонка, он сам мог поднимать и опускать ноги и руки, с каждым днем наполнялись они новой, неизведанной до сего времени силой. Мать, впрочем, ничего не замечала, а Илья сам пока помалкивал. «Не время еще, – думал он. – Нужно потерпеть. Терпеливых Бог любит».
О Боге он опять думал не по религиозности, а больше по привычке, по воспитанию. Люди его времени о Боге думали серьезно, а точнее, как будто еще дышали его присутствием, словно только вчера он вознесся на небеса. Ну, а не вчера, так на их еще памяти, или на памяти их отцов.
В конце лета прошел по деревне слух, что в их монастырь издалека пришел какой-то святой старец. Старец, по общему мнению, был страшно могуч и чудотворен. В монастыре старец был проездом. Куда? Никто этого не знал, даже монахи. Более того, никто не знал, откуда старец взялся. Но, как водится на Руси, к старцам претензий не было, никто не требовал с них документов. Более того, любой проходимец мог прикинуться старцем – докажи только свою чудотворность, или, на худой конец, святость – и ты уже старец, и можешь всюду ходить без документов. В те годы много мазуриков и просто разбойников изображало из себя старцев, но кредит доверия к старчеству еще не был подорван.
Вот и этого старца приняли с распростертыми объятиями. Разместили его в монастыре в лучшей келье, окружили почетом. Сразу к нему потекли люди с дарами и болезнями. Старец даров не брал, но и болезни тоже не исцелял, чем еще больше повысил свой авторитет. «Не затем я сюда приехал! – объявил он ошеломленной братии. – Не тело, но дух ваш нудит об исцелении».
Мать Ильи, Ефросинья, встрепенувшаяся было бежать к святому и просить об исцелении для сына, снова упала духом.
– Прогневили мы Бога, – говорила она Илье, приходя по вечерам домой. – В кои-то веки привалило нам чудотворца – и тот не хочет исцелить.
Илья только улыбался, тайком ощупывая ноющие после тяжей руки и ноги.
– Что это ты улыбаешься? – с подозрением говорила мать. – Плакать надо, а не улыбаться. Чудотворец – и тот вон за тебя не взялся.
– Может, он и не чудотворец вовсе, – говорил Илья.
– А кто ж еще? – недоумевала мать. – Смотри Илюшка, против Бога не иди.
Неожиданно во дворе забрехал Мурза.
– Кого еще нечистая несет? – заворчала мать.
– Кыш, бесенок, – послышался со двора хрипловатый голос. Илья выглянул в окно и сквозь мутный бычий пузырь увидел старика в черной рясе, который отгонял палкой наскакивавшего Мурзу. Наконец старик, видно, вышел из терпения и огрел пса клюкой по голове. Мурза заскулил и на четырех лапах поскакал прочь.
Мать выбежала наружу и заохала:
– Батюшки! Отец Никодим! Илюша, кого нам Бог послал! Это ж отец Никодим!
– Благослови Господи, – сказал, входя в избу, высокий старец с маленькой козлиной бородой. – Шел мимо, уморился. Жара.
– Молочка вот испейте, – засуетилась Ефросинья.
– Водицы, – прервал ее старец. – Водицы дай, матушка.
Ефросинья засуетилась, побежала к колодцу за свежей водой. За ней увязался присмиревший Мурза, решивший, видно, не покушаться больше на авторитет православия.
Старец посмотрел на Илью острым взглядом.
– Все лежишь?
– Лежу, – улыбнулся Илья.
– Лежать, оно, конечно, хорошо, – согласился старец. – Умом обрастаешь, жиром. Но только лежать – закиснешь.
Он подошел к Илье, неожиданно взял его за руку, перевернул ладонью вверх и, увидев мозоли от тяжей, кивнул довольно. Илья застыдился, спрятал руку…
– Вставать-то когда думаешь?
– Не знаю, – отвечал Илья.
– Пора вставать, – настойчиво повторил старичок.
– Не могу пока, – признался Илья. – Рано мне.
– Рано? – нахмурился старец. – А ты откуда знаешь? Ты кто такой, что все сроки тебе ведомы – Христос? Бог-отец? Или, может, Пресвятая Богородица?
Илья испугался и не знал, что сказать, поскольку был он ни то, ни другое, ни третье.
– То-то и оно, – сурово заметил отец Никодим. – Сейчас, может, и рано вставать, да завтра поздно будет.
Вошла, сгибаясь под тяжестью ведер, Ефросинья. Поставила ведра на земляной пол, ковшом черпанула воды, поднесла старцу. Но тот не взял.
– Что это, – сказал он сурово, – хозяин лежит на печи, а мать-старуха с ведрами корячится? Пускай он встанет и подаст гостю воды, как положено.
– Больной он, батюшка, – испугалась мать. – Тридцать лет и три года лежит на печи, ни разу не вставал. Уж и знахарки его пользовали, и святой водой отпаивали – не движет ни рукой, ни ногой.
– Ни рукой, ни ногой, говоришь? – грозно спросил старец, и, повернувшись к Илье, велел ему:
– А ну, встань!
Илья, подпираясь руками, сел на печи, свесил ноги вниз. Мать ахнула, закрыла рот платком, только большими блестящими глазами следила за каждым его движением.
– Сходи на пол! – велел старец.
Илья посмотрел вниз и страшную почувствовал истому и слабость во всем теле. Его обуревал страх, не было сил двинуть даже пальцем, не то, что встать.
– Не могу я, – прошептал он, опуская буйную голову. – Сил нет.
– Велю – встань! – загремел старец, и Илье почудилось, что он оглох от этого голоса, и как-то даже растворился в нем. И вот, оглохнув, не помня себя, встал он на дрожащие ноги.
– Иди! – гремело ему с небес, и горели перед ним черные, как огонь, глаза старца.