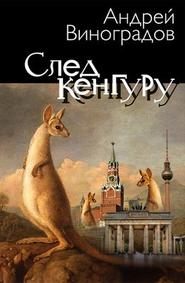скачать книгу бесплатно
Осколок света, будто по заказу, отваливается от черноты. Наверное, пнул кто-то, симпатизирующий мне, с другой стороны.
– Курить хочу! – восклицаю вовремя, да так громко, что если Самому будет лень по такому пустяку напрягаться, наверняка догадается озадачить соседей.
Ему, однако, не лень. Сигарета находится сама собой, прямо под рукой, мне нет никакой нужды смотреть на стол, я продолжаю игру с закрытыми глазами. Зажигалка там же, на обычном месте. Должна быть. Левую руку чуть вперед. «Вот она, родимая!» В голове по-прежнему пустота. В глазах, веками отгородивших меня от забот, – звездное небо. Большую часть пространства тела оккупировал согревающий терпкий дым.
«Доволен?» – колышется неведомо как появившийся неустойчивый дымный каракуль на небосклоне.
«Хорошая сигарета.» – оцениваю.
Жду продолжения. Его нет.
– Курю, однако! – заносчиво отмечаю вслух. Затягиваюсь напоследок, свободной рукой локализую пепельницу с алым росчерком по дну «Не щади! Приму. Работа такая.». Сам придумал, сам и исполнил. Лаком для ногтей. Забавно перевоплотиться в пепельницу. Думал, быстро сойдет, а уже год как держится. Хозяйка ногтей испарилась куда-то, но, благодаря стойкому лаку, я имя ее, в отличие от всех прочих, запомнил. Лена? Лена. Какая еще, к черту, Лена. Наташа?
В этот миг еще одна звезда пролетает.
«Мать твою.» – успеваю подумать. Столь же быстро соображаю, насколько это кощунственно и неуместно. «Теперь точно аукнется, не увернешься! – ехидничаю на свой счет, но отчего-то невесело. – Молись, чтобы это был искусственный спутник. И не наш, Желательно также не тот, что за ДжиПиЭс в ответе, я без навигатора как слепой в улье – больно и выхода нет».
– Патриот хренов, – ворчу, хотя следовало бы себя похвалить даже если патриотизм вышел слегка «ограниченным».
Откуда-то снаружи, из тьмы, параллельно моим мыслям – снизу вверх – свист, грохот, уши закладывает. Глаза сами распахиваются. За окном свет вгрызается в небо, рвет его на части, но раны срастаются тут же, затягиваются. Во дворе что-то празднуют, бурно балуются китайскими петардами. Видно, что китайские – косо летают. Наблюдаю в окно, как два юнца пытаются «по-пионерски» загасить не взлетевшую ракету, не кондицию то бишь. Та злобно егозит по асфальту, увертываясь от прицельных молодецких струй. Вспомнился давний-давнишний стройотряд – и как мочился ночью на непотушенный бычок в астраханской степи, испытывая сразу пять чувств одновременно:
– страх перед степным пожаром;
– облегчение;
– неприязнь к сладкой наливке «Золотая осень»;
– неприязнь к сладкой наливке «Золотая осень» на фоне ненависти к человеку, приволокшему целый ящик этой отравы;
– чувство убийственной разбалансированности.
Последнее привело к тому, что я обоссал свои кеды. И не кеды тоже. Пришлось побродить немного, чтобы обсохнуть хотя бы поверхностно. Позже вернулся, ориентируясь на фонарь, в гигантскую, армейского образца, палатку, определенно решив свалить оставшиеся погрешности во внешнем виде на прохудившийся рукомойник. Но меня никто ни о чем не спросил. Все спали вповалку. Видимо, пока я прогуливался, по ходу умудрился прикорнуть где-то на пару часов. И никто не бросился меня искать! Я тогда на всех спящих ну очень сильно обиделся. «А еще верными товарищами называются. Мастера прикидываться. Суки.» Весь последующий день я не мог избавиться от подозрений, что сквозь сон отряд слышал, как я нелицеприятно выражал досаду и пенял коллективу, наплевавшему на случайно отколовшуюся судьбу. И также слышал не выветрившийся запах мочи. Тогда я придумал выходить в степь по нужде исключительно в трусах и босиком, или в чужой обувке, если рядом кто раньше меня уснет.
А С ЧЕГО БЫЛО ЗЯТЮ ЗАИСКИВАТЬ?
А с чего было зятю заискивать? С чего, в самом деле? Чем уж он так зависел от тестя, чтобы подыгрывать ему? Вежливый, наверное. Зарабатывал парень по тем временам отлично, жили они с Нюшей отдельно от всех, Антон Германович им опекой не докучал и Машу, если чуток «придушивала» «детишек» в материнских объятиях – вразумлял словом мудрым, хотя Маша называла этот воспитательный акт «одергиванием». В душу Антон Германович никогда по своей воле, без приказа, не лез. О! Может, поэтому и не прижился к новым-то руководителям?
– Ох как же эти, нынешние, любят, – ворчал недавно, – чтобы впереди кто-нибудь бегал, суетился, тропки угадывал, а как не ту угадаешь – спишут. Нашли щенка. Тропки-то все меченые – к банкам, нефти, как модно говорить, типа тоже не чужд. К банкам.
В ту поездку первый муж кирсановской старшенькой рассказал Антону Германовичу про собеседование в банке, куда собирался устраивался на работу. Над собой насмехался. Редкие зятья перед отцами своих благоверных так умеют, чаще надувают для важности щеки, да лбы морщат.
– Я там, Антон Германович, прогулялся по коридору, рано приехал, почитал именные таблички на дверях, потом – очередь подошла – сел на краешек стула, робкий такой, взгляд доверчивый, нежный. Ладошки потные на коленях. Внимаю то ли Бройтману, то ли Райтману так, что шея как у гуся – вытянулась. И тут до меня доходит, наконец, что хрен мне с маслом, а не банковская карьера. К тому же обрезанный. Ну, хрен, в смысле, обрезанный. Ага. Какой из Иванова банкир?! И ведь взяли! Вот умора.
«Молодцы, – похвалил про себя банкиров Антон Германович. – Хорошо, что о многом наперед думают. Придет время, и ох как сгодятся им свои ивановы в банках, когда от греха съехать в дали туманные жребий выпадет. Не дай бог, конечно.» Чуть сфальшивил напоследок. И от души поздравил родственника:
– Ну давай, банкир, по половинке. Еще ведь и не приступил. Потом отдельно отметим. Думаю, здесь же.
А спустя месяц дочка случайно выяснила, что муж не только с тестем, и не только на Валдай съезжает время от времени, есть места и поближе, буквально в соседнем доме. На лени парень засыпался. Спросил бы совета у ветерана, уж не обидел бы Антон Германович, подсказал, как правильнее все обустроить. С другой стороны, мог бы и пристрелить за любимую-то дочь. Да нет, не мог. Однако, и то правда: зятю об этом откуда знать?.
Антон Германович видел случайно его новую девочку – симпатичная, милая, видно, что не «на разрыв» живет, не то, что их с Машей старшая старшая: «Всего и сразу!» Нет, одного восклицательного знака в случае Нюши мало, минимум три подавай! Порадовался, короче, за парня, запал ему в душу банкир Иванов, надежда бройтманов-райтманов. Но и про свою: «Вот же дура!» не думал – просто разные они, не срослось. Или не приросли друг к другу? Как правильно? Так ведь уже и не важно. Зато с нынешним у Нюши, по всему выходит, порядок.
«Телок», – думает о нем Антон Германович совсем как-то не по- родственному, не по-отцовски, так и не отец, имеет полное право. Сомневаюсь, чтобы с пониманием отнесся, пустись и «новенький» зять во все тяжкие. Сомнительное удовольствие – встречать очередных подруг своих бывших зятьев и радоваться за них, когда дома роднулечка ревет в три ручья и сладостями стрессы снимает. И на календаре у нее весь год несменяемый месяц Брошень. Однако же думает Антон Германович о «новеньком» упрямо и несмотря ни на что: «Телок. Телок и Промокашка».
Снисхождение – это приз для любимчиков.
Нет, кто бы спорил, про дачу нынешний зять высказался неплохо, но этого мало, чтобы расположить к себе тестя, да еще такого непростого, как Антон Германович, «с прибабахом», как отзывается о нем в таких случаях Маша Кирсанова. Ко всему прочему, Антон Германович не смог вспомнить, у кого зять спер афоризм про дачу, но убедил себя, что рано или поздно вспомнит. Мысли не допустил, что тот сам сочинил такое. Трудности у него с доверием к творческой интеллигенции из среды профессиональных строителей. По части стырить что, приписать – это сколько угодно, а насчет чувства юмора. Короче, лишил он строителей права на это чувство. Напрочь лишил, рубака. Это уж на его совести. Лично я другого на сей счет мнения. Мне как-то давно один прораб жилье ремонтировал. Фамилия у него была знатная – Пржевальский. Помню, штукатур посмеялся:
– Как лошадь.
– Это лошади человек свое имя дал, – устыдил его Пржевальский. Ясно было, что привычны ему такие насмешки. – А у тебя, Хорьков, с этим как? Или ты Харьков, как город?
И еще. Антон Германович Кирсанов категорически нетерпим к мужчинам с мелкими кучеряшками, есть у него такая особенность. Иногда природа непривычно усердна, такие завитки крутит – сущее, скорее всего, наказание столько над одной головой трудиться. Вопрос: кто сумел наказать природу? Даже начинать думать не буду.
Кучерявые, или как Антон Германович говорит «завитые мелким бесом», все они напоминают ему пуделей, одержимых припасть к ноге с собачьим паскудством. С молодости их не любит. У жены одного из первых его начальников был такой беленький «олененок». Чем уж так его сапог Кирсановский подманил? Все два года пес изменял офицерскому хрому на ногах Антона Кирсанова только с ножкой хозяйского кресла. Пару раз Антон клялся себе пришибить заразу, но вся его тогдашняя жизнь на чужих глазах протекала, уединиться с животным не удавалось. Командирская, опять же, собака.
«Может, как раз этим самым зятек дочери и пришелся? Кудряшками- кучеряшками, и вообще.» – морщась, задавался Антон Германович вопросом. Отвечать утвердительно на него не хотелось. Не ханжа, но ведь дочь все-таки. Родная. Он и не стал.
«Правильно, что не поехал с зятем, – наконец заключил Антон Германович, не подозревая, что я уже все сказал и рассказал за него по этому поводу. – Только хуже бы вышло. На корню бы вечер сгубил».
– Хуже всех повезло бы, – процитировал он Машу вполголоса, вроде и неслышно для посторонних, но одна женщина, на два шага опережавшая Кирсанова, оглянулась:
– Это вы мне?
– Нет. Сам с собой. Простите великодушно. «Надо же, какое приятное лицо.»
«А жаль.»
«А мне как.»
Но с улыбкой он припоздал, улыбнулся уже в спину. Вышло, что самому себе.
Краем уха Антон Германович цепляет обрывок чужого бахвальства:
– Я ему, козлу, говорю: какое тут, на хер, кило? Взвесь, говорю, козел!
Взвесь
«Взвесь.» – повторяет он про себя, подбрасывая словечко на языке, пожевывая от удовольствия губу. Верхнюю, нижнюю. – какая подвернется.
Со стороны кажется – силится мужик удержаться от смеха, видимо, вспомнил что невероятно забавное. И впрямь вспомнил:
«Как в школе на лабораторных по химии. Такое давно забытое и, вот тебе на, так к месту.»
Хорошо различимы неясные вибрации
Хорошо различимы неясные вибрации. Они расходятся от стен Мавзолея, складываясь где-то вдалеке в простые слова:
«Я ВАМ ОБЕЩАЛ, ЧТО МЫ ПОБЕДИМ.»
Своевольное эхо, возвращаясь непонятно откуда – то ли со стороны реки, то ли Манежной – сообщает им вопросительную интонацию.
«МЫ ПОБЕДИЛИ!» – шорохом накатывает вторая волна.
«. ИЛИ. ИЛИ.», – вновь безнаказанно хулиганит эхо.
Того, кто задумал все это больше века тому назад, и добро бы только задумал, так нет же, затеял претворить в жизнь, и претворял с переменным успехом, и претворил, несмотря ни на что, выходки распоясавшегося эха не беспокоят. «Пусть себе тешится», – думает.
Его пересохшая мысль проскальзывает с шорохом будто сквозь узкую талию стеклянных часов. (Ему самому, я уверен, этот образ лег бы на душу. Он и сам много лет всего лишь сосуд, в котором когда-то жил человек.)
«Эхо – это лишь отражение», – проскальзывает ручейком, падает еще с десяток мелких песчинок. Совершеннейшая для них случайность, оттого и стремятся они подчеркнуть свою значимость.
«Чего отражение?» – возникает в ответ беспочвенное волнение.
Он нервен. Или правильнее – нервичен? Ему все равно, привык: все, что ни говорит – правильно. Вот если о нем, то все по-другому.
«Нервен? Нервичен? Раздражен. Так чего отражение? Ну, чего-то там. Неважно чего. Отражение – и все. Эхо, короче. Хватит дурачиться.» Хочет добавить: «. товарищи.», но подмечает двусмысленность. Его картавость сохраняется даже в мыслях, а раздражение, не в пример картавости, быстро истаивает и исчезает вовсе.
Нынче для недовольства нет повода. Нынче он в полной мере удовлетворен происходящим за стенами, с которыми породнился. Теперь уж его точно не тронут. Лет эдак с дюжину, а как повезет, то, возможно, и дольше. Насчет везения – это он, разумеется, не всерьез, заигрывает сам с собою, от скуки, как во внутреннем монологе про эхо и отражение. Знает про себя лучше других: никогда ничего не оставит на волю случая, на века все рассчитывает. Жизнью научен. Ну, а в смерти все уроки, полученные при жизни, ох как полезны! Не передать.
Не хочет, старый, съезжать
Не хочет, старый, съезжать с привычного места. Как я его понимаю! И Антон Германович тоже бы понял, сам добрую половину жизни мотался с места на место, из одного гарнизона в другой.
«Умеют же некоторые устраиваться», – лезет в голову неуместная мысль, совсем даже не о Кирсанове.
Ко всему прочему, постоялец гробницы концерт Пола Маккартни вживую прослушал, а я не попал, даже внука облагодетельствовать не сумел. Отстойный, одним словом, дед, хотя мне внук такое не скажет. Но ведь думает, обормот, это точно!
Все-таки, может, не очень «вживую»?
Неужели такой пустяк способен меня утешить? А пожалуй, что и так.
Я всего лишь одна из судорог уходящего мира
«Я всего лишь одна из судорог уходящего мира», – бубню под нос придуманное специально для дневника, который уже третий год обещаю себе завести. Наблюдаю при этом издалека за случайно замеченной и неслучайно узнанной плечистой фигурой еще одной «судороги», с которой встречаться сейчас и здесь, на Красной площади, под гул осадивших Манежную победителей всей страны я не намерен. Как-то быстро и само по себе вызрело неожиданное решение. Быстрее, чем прыщ на носу, если кто влюбится. И вообще, если вдуматься, может, по работе тут человек. В принципе, никаких весомых причин для такой осмотрительности нет и в помине, невесомых тоже, но мне, замороченному, непростому, кажется, что нам обоим встретиться именно в этот час и на этом месте будет неловко.
«Отчего?» – строго спрашиваю себя.
«Да неловко и все!» – отмахиваюсь.
«А все-таки?» – не отлипаю.
«Чего сам к себе пристал? Делать больше нечего? Пес с ним, ни от чего, какая разница, пусть хоть блажь.»
Такая же блажь, как фраза про судорогу. Мне нравится думать так о своем поколении. Но при этом, если честно признаться, совершенно не улавливаю – что во всем этом вообще может нравиться? Извращение какое- то. Но клевое. Только подумал так – и сразу же жаль стало метафоры – «Делиться еще.» Глянул мельком на спину Кирсанова и подумал, что он тоже не исключение, хоть и сосед. Решил, что впредь вообще воздержусь разбрасываться «глубокомысленной красивостью» направо-налево. Вроде как глубокомысленной. Для себя придерживать стану. Куркуль, одним словом. Вот был бы Антон Германович, скажем, седовласым лихим флотоводцем старой традиции и соответствующего облика – в эполетах, усах, орденах имперской чеканки, я, может быть, и расщедрился бы. Нет, ни черта подобного. К чему красивые слова, если и без того в избытке инструментарий для пленения барышень, особливо неискушенных: золото на плечах, серебро под носом, бронза на лице от ветра, – пока еще не памятник, но уже можно прикинуть, как впечатляюще будет смотреться. И каменья. Каменья все как есть драгоценные, рассыпаны по груди в дорогих оправах. А если не для барышень? Тогда вообще не понимаю – зачем. Хотя, если в самом деле. про «судорогу», то странноватая выйдет самореклама. Однако кто их, прелестниц, знает. Может быть, кто и купится. На необычность метафоры.
Это, в самом деле, туман, или мне кажется?
Странный туман стелется подле стены
Странный туман стелется подле стены. Туманец. Почти не заметен, нужно присматриваться, но мне сдается – он пахнет? И еще кажется: где-то там, в глубине, глубоко-глубоко, кто-то курит кальян. Полулежа? Лежа? На чем там лежат? Эх, не хватает фантазии. И памяти, чтобы вспомнить больше четырех-пяти лиц из здешней обители. С именами проще, а вот с лицами напряженка. Вместо Брежнева, к примеру, перед глазами артист Шакуров, изображавший Леонида Ильича в телесериале, ну и так далее.
Других, кому в кальяне отказано, кипятят в смоле – тоже дымное дело, – как в растворе для снятия накипи. Не исключено, что они эта накипь и есть, были ею. Конечно, недоброе это дело – так о мертвых… Нехорошо. Каюсь. Опять же, накипь сняли, а мы все одно не блестим. Вполне, может статься, что и не накипь. Тогда и каяться не в чем. Хотя нет, подумал ведь. Виноват.
Дымки столь разного происхождения проникают из-под земли наружу, перемешиваются, превращаясь в полупрозрачную воздушную вату, и уже не разберешь, не отличишь в только что рожденном букете – где что и отчего. Чушь, конечно все это, выдумки мои крамольные, невежественные, небогоугодные. Свинство, короче. Однако в носу пощипывает, и та часть головы, которая отвечает за запахи, уже все для себя, да и для меня заодно, придумала. С чего-то, глупая, решила мне слегка потрафить, как всегда наспех, и подпортила впечатление – подмешала в аромат выдох «Шипром». Для узнаваемости, по-видимому. Чтобы крепко зацепило. Так и вышло. В соответствии с намерением. Зацепило сразу и намертво. В горле запершило, и я натужно и надолго закашлялся. Так происходило всегда, если в армии случалось хлебнуть за компанию с сослуживцами «Шипра». Прапорщик на мой кашель, будто Дерсу Узала к лежке зверя, выходил, охотник хренов. Может быть, и не стоит так принюхиваться? Как? О зрении бы сказал: «зорко всматриваться», или «пристально.», но к нюху эти слова явно не подходят. Убогий он, нюх, какой-то. И кладовая памяти – тоже убогая, невместительная, метр на полтора, если слова крупным шрифтом набрать. Короче, туман, он и есть туман – земля холодная, воздух теплый, или наоборот. То есть, производное. И ничем не пахнет. Кипящей смолой точно не пахнет. Кипящую смолу я однозначно выдумал, потому что всех тех, кто нашел последний приют в стене, под стеной, дети при жизни любили! Как же можно любимцев детей в ад, в смолу?! Никак нельзя! А ведь мы – те самые дети и есть. И вообще никакой это не туман, а фимиам с Манежной на Красную площадь надуло. И на спуске Васильевском в этот час все на подъеме. Что за день?!
Бестолковый
Бестолковый день. Бестолковый и безнадежный. Что-то многовато таких у меня теперь стало. Когда был мальчишкой, называл такие «незабранными», дед научил. Я очень этим дедовым словом гордился и выдавал за свое. Во дворе ребятня безоговорочно верила в мою изобретательность по части слов, и не только слов, но никто ни единого разочка это слово – «незабранность» – за мной не повторил. Не запало. «Порожняк», – оценили бы сейчас. В самом деле, кто его, этот «незабранный» день, должен забирать, и куда? А может быть, сам я и должен был? Потому и «незабранный» он, что остался валяться протухать, приванивать – совершенно никчемный, неиспользованный ни мной самим, ни за пределами моей жизни? Хм-м. Тогда, при жизни деда, в малолетстве – таким вдумчивым я точно не был. Кстати, у Маши Кирсановой для таких дней свое слово припасено, я его помню: «Деньназавр». «Поспала, – говорила, – поела, телик посмотрела… Головка, – смеялась, – малю-ю-юсенькая, тельце большу-у- ущее…» Беременная была второй дочкой, Ксенией, вынашивала. Если бы не это, я бы тогда и увел ее из семьи Кирсановых. Или она меня из моей, несуществующей. По меньшей мере, попытался бы. Про нее не скажу. Пил тогда сильно, поэтому мало чего боялся. Хорошо, что до Антона волны не докатились. Я так и не знаю, в курсе он, догадывается ли о чем? Скорее всего, нет. С одной стороны, с чутьем у него, я так полагаю, все ладно, раз дослужился до генерала. С другой – не в полиции нравов служит, под другое чутье заточено. Сидел бы себе сейчас дома, телек смотрел, а он, вон, бродить отправился по местам былой славы. Или впрямь на службе? Вряд ли, не его, кажись, ведомство. Нормальный мужик, и дело, судя по погонам, знает, но какой-то не очень устроенный, что ли, среди устроившихся. Яснее не определю. Меня последнее время все больше тянет на неясности, хоть какой- то надежды хочется.
Часть вторая
Шапочный разбор
Пеший строй парада
«Пеший строй парада замыкает Московское Высшее командное училище имени Верховного Совета РСФСР, – разносится из динамиков голос, убежденный в исторической важности происходящего. – Кремлевские курсанты, они с 1918-го года постоянные участники парадов. В нынешнем одна тысяча девятьсот восемьдесят девятом году училище…»
Антон усмехнулся вклинившейся в пафос происходящего несерьезной, пасквильной, можно сказать, аналогии: «Хору бостонских мальчиков исполняется семьдесят лет.» Совершенно недопустимое ерничание, мальчишество. Как минимум, с политической точки зрения. Прежде всего и исключительно с политической. Скосил глаза направо, потом налево – никто не смотрит.
«И чего, дурак, веселюсь? Это ведь к слезам.»
Суеверия достались ему от бабушки, так она умудрилась подгадить внуку гораздо на больший срок, чем был ей самой отпущен, но теперь Антон уже и в мыслях прекратил обзывать ее «жопой» и «старой каргой», думал: «Сам, неровен час, дедом стану. Что еще обо мне-то внуки думать станут?
Стоит ли судьбу искушать?» В придачу к суевериям бабушка оставила на память так и в завещании крупным старушечьим почерком: «На добрую память» – очки, им же сломанные, для удобства. Будучи единой и неделимой, оправа серьезно затрудняла процесс выжигания на подоконниках всяческих непотребностей, а без них, как известно, взросление особей мужеского пола по определению невозможно. Никому не охота слышать в свой адрес: «Здоровенный дылда вымахал, а так и не повзрослел, мозги, как у трехлетнего». Весь дом такими или похожими словами выражал свои переживания за Коляна из второго подъезда, у которого что-то с чем-то разошлось в голове и более не дружило. В то время Антону Кирсанову было уже восемь лет от роду, поэтому, даже застопорись у него развитие, он уже был бы умнее соседа, но все равно… К тому же выходило, что из за пяти лет разницы его бы меньше жалели. Словом, лучше было не рисковать и взрослеть, а без бабушкиных очков процесс оказывался под угрозой. Хотя я «взрослел» без увеличительного стекла, с обычным перочинным ножом. Теперь самому многое стало понятно.
Унаследованная оправа была склеена на переносице и, существенно сократившись в результате вмешательства, превратила очки в предмет скорее декоративный, в быту непригодный, годившийся разве что птице, да и то не каждой, а чтобы клюв был узким, а глаза наоборот – широко расставленными. На письмо, отправленное Антоном в детскую радиопередачу КОАПП (Комитет охраны авторских прав природы) с предложением одарить очками Ученую Птицу-секретарь, пришел ответ, в котором были и слова: «Спасибо тебе, добрый мальчик Антон.», но прежде всего – фотография птицы, подтверждающая опасения благотворителя – очки бы ей не подошли. Однако уже ради добрых слов благодарности стоило исполнить эту затею.
Узнав о такой необычно положительной инициативе, папа с мамой, не сговариваясь, простили отпрыска, умилились, сердешные, а в школе, не разобравшись, Антона вообще захвалили до неприличия, словно больше всех макулатуры собрал. Антон в классе только ответное письмо показал и предусмотрительно счел за благо умолчать о начале истории. Бабушка единственная несколько дней на Антона дулась, но не очень активно, наверное, помнила, что про клюв птицы она же первая и сказала.
Доброе чувство к радио Антон сохранил на всю жизнь, хотя, было время, умело маскировал симпатии, если речь шла о «Свободе» или «Голосе Америки». И что? Я думаю, он и сейчас не стал бы хвалиться своим отношением к «Эху Москвы». У него отлично развито чувство времени.
Место перелома на очках скрепляла теперь щедро намотанная голубая изоляционная лента, умудрявшаяся прилипать с обеих сторон ко всему, к чему прикасалась. Так что и по этой причине бабушка, если и прибегала к помощи изувеченной оптики, пользовалась очками как лорнетом, не подносила к лицу ближе, чем на ширину ладони. Изолента за долгую жизнь подвыцвела, но вот что удивительно – так и не потеряла легко узнаваемый специфический запах. Она пахла тем временем, когда все домашние инструменты, в придачу к ним куча болтиков, гаечек, шайб и шурупчиков, упрятанных в банку из-под халвы, хранились в фибровом чемоданчике «банного» размера. Стоило только щелкнуть замками, как из-под крышки вырывался на волю дух голубой изоленты. Он был совсем не таким, как у ее черной родственницы, которой мальчишки обматывали крюки и верх черенков хоккейных клюшек. Антон называл голубую «электрической», возможно, это было спонтанным проявлением толерантности, а черную так «черной» и называл, неполиткорректно.
В общем, Антон считал неверным привлечение «электрической» изоленты к ремонту «неэлектрических» очков. К сожалению, по легко угадываемым причинам, права голоса он был лишен. Но не тронь он очки, сложись по-другому, недосчитался бы нынче стольких воспоминаний! И наследство бабушкино сократилось бы до присказок и суеверий. А как сопроводить их напутствием «На добрую память»? Вот они, милые пустяки.
Кстати, я вполне допускаю, что очки по сей день служат Кирсанову, как оберег, сохраняя ему соколиное зрение. С давлением – напряженка, сахар в крови – торговать можно, а зрению хоть бы что. На мой взгляд, не бывает такого счастья без вмешательства тонкого мира.
Навряд ли Антон Кирсанов отчетливо различим
Навряд ли Антон Кирсанов отчетливо различим, если в принципе виден кому-то с переполненной людом площади. На мавзолее он во всех смыслах крайний. Стоит за источающими фундаментальность спинами, упакованными в неподъемный на вид драп однотипных пальто с каракулем на воротниках.
«И ведь держат, несут на себе этот неизменный, повсюду узнаваемый «партийный» крой, не гнутся, – притворно восхитился он, подавляя ухмылку. – И мысли такой, скорее всего, не допускают. Во всех смыслах – несгибаемые».
Над воротниками легкое пыжиково-ондатровое шевеление. Это правильно: стоит ли выражать солидарность с трудящимися всем властным телом, колебаться с риском потерять равновесие, если достаточно головы? Что вообще может быть важнее голов членов Политбюро и кандидатов в эти самые члены? Кандидаты, разумеется, не так дороги родной стране, что, впрочем, отнюдь не означает – дешевле.
Наряду с головами колеблются руки, обычно правые, хотя левые идеологически были бы правильнее, органичнее как-то. Скажете ерунда? Качаются сухонькие и не очень ладошки, спрятанные в перчатки, из стороны в сторону, что твой метроном. По амплитуде движения натренированный глаз легко прикинет политический вес персонажа, если лица не разобрать.
Все эти мелочи, детали для Кирсанова, стоящего далеко за спинами главных действующих лиц, почти что неразличимы, но не надо родиться гением или провидцем, чтобы угадать сценарий происходящего, если из года в год смотришь парады и демонстрации по телевизору. И на этот раз все должно было быть именно так, как обычно, как раньше: посмотрели, поцокали языками – «Мощь-то какая!» – и за праздничный стол, догонять тех, кто с предыдущего вечера начал. Однако позвали в Москву.