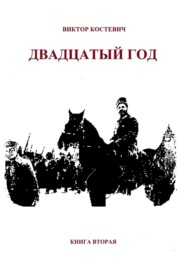скачать книгу бесплатно
– Папа, – улучив минуту, обратился Константин к отцу, – тут такое дело…
Папа ничего не знал. Не знала ничего и мама. Тем более, Данила. Хотя в глазах у Даниила что-то промелькнуло – так, по крайней мере, показалось.
Отпросившись на минутку: «Мама, я сейчас!» – Костя кинулся к доктору Соркину. Тот, по счастью, оказался дома, но счастья данное обстоятельство не прибавило. Да, четырнадцатого числа он был на Лермонтовской. Да, у Клавдии Мартынюк. По какой причине? Видите ли… Девочка? Да, конечно, девочка. Олеся? Да, Олеся, славная милая девочка Леся. Что-то с горлом? Да, ангинка, всего-навсего ангинка. Тут такое было, Константин Михайлович, такое… Вы уж простите… «Не обижайтесь, не сердитесь», – пролепетал растерянно начдес.
Дома за обедом бывший штабс-капитан старался выглядеть счастливым. Родители старались, в свою очередь, показать, что у него это отлично получается. В его отсутствие Михаил Константинович строго-настрого запретил Даниилу сообщать Константину о Басе, которую Даниил однажды видел… хм… на бульваре… хм… гуляющей… хм… с неким солдатом. Доктор Ерошенко поступил необыкновенно мудро. Даже не подозревая, какая могла бы сложиться картинка, сопоставь его сын странное сообщение Дани с рассказом соседей о низкорослом, мрачном, улыбчивом верзиле с бутылкой алкоголя, погонами старшего рядового, капрала, познанце из Царства Польского, поющем по-нашему про казаков.
Утром начдес штурмбепо «Гарибальди» убыл на базу в Казатин.
Анна Владимировна, закрывшись в спаленке, рыдала, Михаил Константинович думал: «За что?» – а Даниил жалел, вполне даже искренне, незадачливого кузена.
Ведь если вдуматься, выходило следующее. Костик как последний дурень пошел ради барышни – ради чего же? – в красные, так сказать, офицеры. А барышня возьми да смойся. С белопольским оккупантом.
Что примечательно, ему, Даниле, Костина полячка с самого начала не понравилась. Но в этом доме – когда его, Даню, тут слушали? Это Костику, родненькому, всё было позволено. Захотел – медаль в гимназии не получил. Захотел – в Варшаву перебрался. Захотел – намылился на фронт. Захотел – поехал в Киев, с этими, которые… Теперь вот приспичило – и вовсе в красные подался. И вечно с ним что-нибудь да приключится. То привезут всего такого, что во сне увидишь, не проснешься. То с собаками разыскивают красные и желто-синие. То… Не жизнь, а Александр Дюма-пэр. Не то что у других.
Потому что другие – ответственные. Живущие не ради себя. Руководствующиеся не прихотями, не сиюминутными страстями. Не эгоизмом, не эгоцентризмом, не ячеством.
И подумать только. Римские классики. Эллинские классики. Классическая филология. И ради чего? Весь этот Фукидид, весь этот Ливий, Ксенофонт, Аристофан? Чтобы, укрывшись за броней, косить людей из пулемета?
***
Но где же Бася? Где Барбара? Где?
Вопрос, на который Костя не получил ответа в Житомире, не относился к числу безответных. На него вполне бы мог ответить доктор Соркин – но доктор Соркин как раз ответить не мог. Бася была, разумеется, в Киеве. Куда добралась почти без приключений на грузовике отдела помощи погромленным Российского общества Красного Креста. Добралась еще 18 июня, за девять дней до освобождения Новограда.
День ее приезда, точнее вечер, был теплым, однако не жарким. И что отрадно, вовсе без осадков. Выбравшись на Конном рынке, угол Полицейской и Большой Васильковской, из кузова – она ехала вместе с сестрами милосердия, – Бася прошла, нисколько не удивившись, мимо сожженной интервентами гимназии, мимо готического храма и вскоре, по знакомой вывеске «Парiхмахерська», отыскала нужное ей здание. Не взглянув на заколоченное парадное, быстро прошла в ворота, вернее в воротный проем, поскольку сами ворота полтора уже года как исчезли – то ли при втором явлении Петлюры, то ли при втором приходе наших, во всяком случае в зиму восемнадцатого-девятнадцатого года. Исторических этих подробностей Бася не знала, как не знала она и названий Конный рынок, Полицейская, четвертая гимназия.
– А я, Розка, видел эту буржуйскую тетку, еще весной, – деловито сообщил Геннадий Горобец Рейзе Лускиной, глядя в спину молодой, до крайности изящной даме в легком, чуть мешковато сидевшем пальто, скорым шагом прошедшей мимо, по изумрудной, лишь местами вытоптанной травке. – К Старовольским, зуб даю, намылилась.
– Старовольские хорошие, – оживилась Рейзе Лускина. – И эта мадам красивая… Помнишь, еще дядя с ней был. Добрый, ножики кидал.
– Много ты понимаешь, Розка. Подозрительный он был. ВУЧК по нем плачет, по офицерику.
Алексей, сидевший с книжкой у черного входа на заменявшей скамейку доске, заметив Басю, подскочил и поспешил открыть ей дверь. «Спасибо, Алеша, – проговорила Бася, сумев не покачнуться. – Папа, мама дома?» «Мама», – ответил Старовольский младший.
Улыбнувшись юниору ослепительно звездной американской улыбкой и твердо ступая на ватных ногах, Бася поднялась на четвертый, до чего же высоко, этаж. Решительно вдавила кнопку электрического звонка. Тактично приотставший Алексей увидел отворившуюся дверь, услышал голос матери и, убедившись, что гостья вошла в прихожую, возвратился во двор, на скамейку. Проявлять любопытство хорошим тоном в семье не считалось. Если взрослые сочтут необходимым, скажут сами, позже. Пока же можно потерпеть. Хотя, конечно, страшно любопытно.
– Вот видите, – сказала Бася Маргарите Казимировне, – я снова здесь, явилась. Я понимаю, понимаю слишком хорошо, кто я для вас. Но мне надо, мне нужно переночевать. Если вы найдете последнее невозможным, я могу…
– Барбара, вам не совестно? – возмутилась Старовольская. – Немедленно проходите и оставайтесь столько, сколько надо. Ну, что же вы? Дайте руку. Господи, да у вас ведь жар. Умойтесь с дороги, в водопроводе есть вода, и немедленно в постель. Немедленно.
На следующее утро Барбара не встала. Спешно вызванный врач констатировал невротического происхождения горячку. Это не заразно, объяснил он Старовольским, но требуется, крайне требуется покой. Деньги – совзнаки, керенки и даже царские – доктор принять отказался. «Лучше потратьте на больную, ей требуется усиленное питание. Это еще не дистрофия, но…»
После полудня в квартире появились милиционеры, двое. Один с наганом, а другой с японской «арисакой». Старший, с наганом, заметно смущаясь, старался держаться развязно и выражался соответственно. «Что у вас тут за жиличка появилась? Есть сообщение. От кого, от кого… От домкома, от кого. Документы предъявите. Поживее».
Старовольская и Старовольский переглянулись. Какие документы, где? И вообще, кто теперь Барбара, в каком она качестве в Киеве? Бася, слышавшая разговор и понимавшая, на секунду опустила веки. Старовольский склонился над ней, она что-то ему прошептала. Взяли пальто, выпороли документы из подкладки. Там же, в кармане обнаружили справку от РОККа, которую Барбара никогда и никому не собиралась предъявлять. «Дана в том, что в период оккупации Пилсудским г. Житомира, 26.04 – 12.06 с.г., т. Котвицкая Б.К. была схвачена интервентами и освобождена конной армией из белопольской контрразведки».
Старший наряда был не только удовлетворен, но и растроган. «Вы, граждане, уж это, пожалуйста, поберегите товарища Котвицкую. Такие товарищи… – Расчувствовавшись, помахал бумажкой перед лицом напарника с японским винтарем. – Эх, Ванька, что за люди! В какое время живем! Расскажем детям – не поверят». После ухода милиции инженер очень точно заметил: «Теперь у нас Баська как охранная грамота».
Вечером Барбара бредила, металась, сбрасывала одеяло, вскидывалась над кроватью, валилась на подушки. Старовольская сидела рядом, отирала пот с горячего лица и, как ей казалось, слезы. Не впуская никого, даже мужа. Иные слова, хрипло рвавшиеся из Баськиного горла, звучали так странно, так страшно… что Старовольская, ужасаясь, поневоле радовалась, что слышит их только она. Впрочем, слово «радость» в данном случае вряд ли подходит.
Это был кризис. На следующий день, двадцатого июня, Барбара сумела подняться, сама. Античный нос ее сделался еще античнее, но ноги, которыми она не без труда нащупала лежавшие у койки комнатные туфли, ноги Барбару держали. Старовольская, обняв ее, рыдала как ребенок. Стыдясь постыдной слабости, но не в силах, не в силах унять дурацких слез.
Двадцать второго июня Барбара сошла по лестнице во двор, на скамейку. Читала там книжку, непривычно медленно, невероятно редко перелистывая непослушные страницы. Кажется, Бунина или, может, Куприна или Чехова, что-то хорошее, по-настоящему, не Мережковского. Когда появлялся Старовольский младший или выходила Старовольская, Барбара приветливо им улыбалась. Всё в порядке, Леша, не волнуйся. Всё хорошо, Маргарита Казимировна, я сильная. Если бы вы знали, какая я сильная…
Генка Горобец глядел на тетеньку с почтением. Надо же, с виду чисто буржуазка, а вон оно как – из московского наркомата, завотделением, синематографистка, сценарщица. «Я же говорила, что мадам хорошая», – напоминала ему Рейзе Лускина. Другие жильцы большого дома тоже смотрели на Басю приязненно. Одни, из бывших бедных классов, вселенные в квартиры просто бывших, – как на важную столичную совслужащую, знавшую быть может Свердлова и Троцкого, как на геройскую житомирскую подпольщицу. Другие, из прежней чистой публики, – как на социально близкую особу, живущую в квартире уважаемого инженера и замечательной его супруги, пускай слегка и сильно полевевшей, пускай якшающейся с Лускиным, но все-таки в общем и целом своей.
Через неделю – в этот день мы, до смерти уставшие, на изнуренных лошадях взводными колоннами входили в Новоград – Бася сообщила Маргарите Казимировне, что хотела бы, очень хотела бы устроиться на службу. Чтобы не томиться без дела и чтобы, скажем прямо, получать паек и остальное. Маргарита Казимировна, с середины месяца служившая, пообещала Барбаре помочь.
***
БОРЬБА С БОЛЬШЕВИЦКОЙ ПРОПАГАНДОЙ В издательстве отдела пропаганды министерства военных дел вышел роман для солдат «В большевицком раю» известного поэта-солдата, капитана Юзефа Релидзынского.
Небольшая, но отмеченная всеми достоинствами пера Релидзынского книжка, живописующая ужасы «большевицкого рая» и геройскую смерть польского солдата, замученного в «чрезвычайке», проникнутая искренним, волнующим душу солдата лиризмом, наверняка станет любимым чтением на фронте и приобретет популярность, причем не только у наших солдатиков.
Не говоря о первоклассных поэтических качествах, «В большевицком раю» Релидзынского представляет собой акт гражданской доблести, первую у нас удачную попытку поэтического противодействия литературе большевицкой пропаганды – и в качестве таковой заслуживает самого широкого распространения.
И последняя цитата. Малая толика позитива – чтобы образ новой Польши не получился чересчур уж мрачным. Ведь автор ее любит, Польшу. Читатель не заметил?
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ Польское правительство предоставило польскому комитету олимпийских игр кредит на отправку польской делегации на олимпиаду в Антверпене. К сожалению, вместо запланированных 150 представителей Польши в 12 видах спорта, комитет был вынужден представить бюджет, сокращенный до 1/5 необходимой суммы и рассчитанный лишь на 30 участников (4 вида спорта) – без таких дисциплин, как конный спорт, футбол, гимнастика, которые требуют участия сборных команд – от полутора десятков до тридцати человек. Однако и этот бюджет был сокращен наполовину, и поэтому комитет колебался, высылать ли делегацию вообще. Взвесив, однако, политические и дипломатические последствия отсутствия Польши на олимпиаде, где представлены будут все, даже африканские государства, комитет высказался за выезд полутора десятков человек. Поедут 4–5 легкоатлетов, 2 теннисиста, 2 фехтовальщика и по одному компетентному представителю (не участнику) от прочих пяти команд.
Кроме того, прилагаются усилия, чтобы конная команда, состоящая исключительно из офицеров Войска Польского, была отправлена вместе с лошадьми за счет Министерства военных дел.
Впрочем, и в этих условиях необходимы пожертвования со стороны общества, ибо двух миллионов, предоставленных правительством, едва хватило на подготовку и снаряжение.
***
И опять перенесемся в Россию. На русский юг, в Северную Таврию.
Если бы спустя неделю после встречи с русским классиком, в канун американской независимости, третьего июля, польский маршал пролетел в аэроплане над немецкими колониями в районе Мелитополя, он мог бы наблюдать жестокое, но для него, вождя новой нации, безусловно отрадное зрелище. Ибо что отраднее для сына польского отечества, чем массовое избиение русскими же русских, при том что те, которых польский маршал ненавидел, избивали тех, с кем польский маршал воевал? Избивали не где-нибудь, но практически в тылах тех самых войск, что аккурат в те дни изгоняли польскую армию с Волыни. На Юго-Западном фронте.
Польский маршал, разумеется, в районе Мелитополя не пролетал. Там в те дни кружили иные авионы, с русскими трехцветными эмблемами. Наблюдая с высоты хаотичные метания красной конницы Дмитрия Жлобы и всемерно – пулеметами, бомбежкой, разведкой – способствуя ее уничтожению.
Произошедшее под Мелитополем стало катастрофой. Эффектный стратегический план: отрезать врангелевские части от Крыма мощным и внезапным ударом конных масс – не только потерпел полнейшее фиаско, но и завершился потерей этих масс, шести с половиной тысяч кавалеристов, конного корпуса и приданной последнему кавдивизии. Массы во главе с командующим оказались в умело подготовленном и грамотно завязанном мешке, и теперь, истребляемые пехотой, конницей, бронепоездами, самолетами, в отчаянье носились по степи, вдоль железнодорожных насыпей под пулеметным, ружейным, артиллерийским огнем. Гнаденфельд, Тигервейде, Гальбштадт, Александеркрон, Рикенау, Моргенау, Штейнфельд, Фриденсдорф – немецкие названия, обагренные русской кровью.
Обезумевшие лошади, обезумевшие всадники тщетно лезли на предательские насыпи, в надежде перебраться, вырваться, уйти. Скошенные пулеметами бронепоездов кони скатывались вниз – и застывали в ковылях безобразными грузными кучами. Люди, потеряв надежду, бросали лошадей, скрывались в балках и на хуторах, где их сотнями вылавливали добровольцы и донцы. Комкору Жлобе удалось прорваться – но все его сабли остались там, между Токмаком и Мелитополем. Жлобу сняли с корпуса и группы, однако не было больше ни группы, ни корпуса, а были убитые, тысячи пленных и тысячи потерянных коней. Конница Врангеля, до тех пор наполовину безлошадная, вновь стала конницей в буквальном смысле слова.
(Дмитрий Жлоба, в семнадцатом младший унтер-офицер, ни разу не видевший фронта, к двадцатому стал признанным героем – Северного Кавказа, Царицына, – народным вожаком, народным полководцем. Трудно сказать, что сыграло большую роль в его карьере – природные таланты, везение, слабость противника, – но до июля двадцатого он обычно оставался на коне. В июле, однако, образование и опыт одержали над счастливцем, верившим в свою звезду и шашку, верх. Концентрация матерых боевых генералов, в их числе «генштабов» Врангеля с Абрамовым, техническое превосходство и искусство противника оказались непосильно высокими для недавнего выпускника ходынской школы авиационных мотористов и недавно сформированного, еще не закаленного в сражениях корпуса.
Понятно, что нельзя всё объяснить отсутствием специального образования и опыта. «Генштабом» не был, мягко говоря, и старший унтер-офицер Буденный, чей богатый военный опыт был сугубо тактическим, на уровне взвода, максимум эскадрона. Интеллигентные Якир и Примаков до октябрьского переворота знали войну и военное дело по книгам; Фрунзе сражался в девятьсот пятом на баррикадах, но вряд ли это обстоятельство сильно помогало в руководстве фронтовыми операциями. Лазо на общем фоне был, можно сказать, военспец: свежевыпеченный прапорщик, не побывавший на империалистическом фронте и, скажем прямо, туда не стремившийся. Чем же отличался от этих самородков бедный Жлоба? Самомнением, самодурством, недисциплинированностью? Но недисциплинированных самодуров с раздутым самомнением было хоть отбавляй что в нашем, что в белом, что в польском лагере. Комкору просто не повезло: высоко взлетев, он оказался не на высоте. Повезло ему в ином: снятый с корпуса, он всё же получил дивизию. Когда восемнадцать лет спустя он был беспричинно арестован и казнен, наряду с бывшими своими начальниками – Эйдеманом, Петиным, Егоровым, наряду с Тухачевским, Примаковым, Уборевичем, Якиром, Гаем, недобрые люди, отойдя от ужаса, перешептывались: «Господи, этого-то за что?»)
Разгром кавгруппы Жлобы подставил под удар другие части и соединения тринадцатой армии, терпевшие в те дни поражение за поражением. Врангель прочно закрепился на Нижнем Днепре, количество пленных и трофеев превосходило самые оптимистические прогнозы. Кое-кому казалось, что вернулись времена второго кубанского похода, московской директивы и других светлых дней священной борьбы за высшие ценности, за веру, за строй – против Антихриста, бунта, завистливой черни и пархатой китайско-латышской сволочи. (На посту командарма тринадцатой в период противостояния с Врангелем сменились, как по заказу, два латыша и один литовец.)
Прагматичные бритты, только что, буквально на днях благоразумно предавшие белое дело, даже они ненадолго задумались: «О, этот Врангель… Мы не поторопились?» «Oh l? l?» – пропели романтичные французы и признали на всякий случай очередное южнорусское правительство. Поставив тому условием, mais oui, признание царских долгов. С ободряющим уточнением: пропорционально занимаемой территории. Другим условием, не главным, но конечно же о да, было установление в будущем, в грядущей dirons-nous перспективе, народного представительства на демократических основаниях. Но это позднее, после всех необходимых убийств. «Каких убийств?» – наивно спросит второкурсница истфака. Девушке еще не объяснили, что гражданская война это не столько эпические битвы, сколько эпические расстрелы.
Всех русских пленных Русская армия Врангеля, конечно же, не расстреливала – пусть ненадежный, но всё-таки ресурс. Расстреливали тех, кого нельзя было не расстрелять. Дроздовская дивизия, наступая в Северной Таврии, по разрозненным известиям ее певцов-мемуаристов, расстреляла не менее тысячи красных. От «дроздов» не отставали корниловцы, от корниловцев не отставали марковцы. Алексеевцы, те всё же приотстали – не напрасно их в Добрармии дразнили интеллигентами. Стреляли, понятно, не только «цветные». По красным стреляли все.
Но и удержаться было трудно. Невозможно. «Азиатские палачи Чека, с их крысиной вонью, со сбитыми в черный войлок волосами, с плоскими темными лицами… Все триста китайцев были расстреляны».
И как, скажите как, какими средствами было бороться с одичаньем, с бездуховностью, порожденной воцарившимся в России Сатаной? «Курсантов вывели во двор, их было человек тридцать.
– Нас вывели на расстрел, ваше превосходительство?
– Да.
– Разрешите нам спеть „Интернационал”?
Я посмотрел в эти серые русские глаза. Курсанту лет двадцать, смелое, худое лицо. Как успели так растравить его молодую душу, что Бога, Россию, всё заменил для него „Интернационал”?..
– Пойте. В последний раз. Отпевайте себя „Интернационалом”.
От их предсмертного пения, в один голос, тусклого, у меня прошли мурашки по корням волос.
– С интернационалом воспрянет…
„Род людской” потонул в мгновенно грянувшем залпе».
Так спустя семнадцать лет душевно страдал за Россию Антон Васильевич Туркул, в двадцатом генерал-майор, начальник Дроздовской дивизии, в сорок четвертом – активный и идейный власовец, чудом избежавший заработанной им петли. Его красочные как бы мемуары не только занятны, но вполне саморазоблачительны – несмотря на умение промолчать о ненужных, неуместных деталях. Но и генералу в seinem Kampf приходилось несладко: китайцы воняли крысами, курсанты пели тускло, монотонно. И ведь никто не додумался просто встать на колени, прогнусавить «Богородицу», в надежде – вдруг оценят и простят. Вместо этого – плевок в лицо и наглый вызов.
(Ровно сто лет спустя бородатый дядечка, на государственном телеканале, пересказывая этот эпизод, воскликнет, повторяя власовца: «Как… за какие-то два года… переменили сознание русских людей… что они перед смертью поют… Интернационал!» «Вас это приводит в ужас?» – удивится образованная дама с родословной. «В ужас, конечно… приводит… безусловно».)
Подлая вылазка Русской армии из Крыма не могла не оказать воздействия на ход освободительной общерусской войны. Но контрнаступления Запфронта не предотвратила.
2. Мессидор. Народная Немезида
Труп белой Польши – Первая кровь – Четвертое июля – Рысью размашистой – Освобождение
Оставьте нас, вы не читали
Сии кровавые скрижали.
(Пушкин)
Четвертого июля двадцатого года четыре армии Западного фронта, двадцать дивизий, снабженных почти всем необходимым, выполняя директиву РВС Республики, атаковали интервентов от Дриссы на севере до Мозыря на юге.
Накануне Реввоенсоветом фронта был издан политический приказ. В нем бойцам и командирам объяснялась их высокая задача.
Сегодня цитировать этот документ неловко, и по иным совсем причинам, чем полагают наши оппоненты. Всегда неловко цитировать давно, казалось бы, известное. Но приходится. Потому что приводят обычно только последние несколько фраз, пропуская иные, гораздо более существенные.
Вчитайся же в них, товарищ. В слова, обращенные к твоим прадедам и прапрадедам. Прикрой на минуту глаза. Представь себе их, своих близких. Представь среди них – себя. В гимнастерке, с подсумками, с патронташем, с винтовкой, с иглою штыка. На фуражке твоей, каплею крови, звезда. Над тобой – кумачовое знамя. Рядом – соратники, рабочие, крестьяне, пролетарии умственного труда, студенты. В сердце – пепел сел, руины городов, стон ограбленных, замученных, расстрелянных сограждан.
Перед строем – командир, политрук, комиссар. И ты ловишь, жадно ловишь каждое слово, падающее в напряженной, гулкой тишине.
ПРИКАЗ ВОЙСКАМ ЗАПАДНОГО ФРОНТА, № 1423, гор. СМОЛЕНСК, 2 июля 1920 года
Красные солдаты! Пробил час расплаты. Наши войска по всему фронту переходят в наступление. Сотни тысяч бойцов изготовились к страшному для врагов удару. Великий поединок решит судьбу войны русского народа с польскими насильниками. Войска красного знамени и хищного белого орла стоят перед смертельной схваткой.
Да, именно так, радостно думаешь ты. Мы – русский народ, вооруженный для защиты родины и революции. Там за фронтом – польские насильники. Их хищный, злобный, омерзительный орел. И мы ощиплем его поганый белый хвост.
А слова продолжают падать. Тяжелые и твердые как камни. Jak kamienie rzucane przez…
Прежде чем броситься на врагов, проникнитесь смелостью и решительностью. Только наполнив грудь свою отвагой, можно победить. Да не будет в нашей среде трусов и шкурников. В бою побеждает только храбрый.
Перед наступлением наполните сердце свое гневом и беспощадностью. Мстите за сожженный Борисов, поруганный Киев, разгромленный Полоцк. Мстите за все издевательства польской шляхты над революционным русским народом и нашей страной. В крови разгромленной польской армии утопите правительство Пилсудского.
Чего-чего, а гнева в тебе с избытком. Ты помнишь, как запалив Борисов и удрав на противоположный берег, шляхта стреляла по городу из пулеметов и пушек, не позволяя работать пожарным. Как применила – там же – химические снаряды. Как ворвавшись ненадолго в Жмеринку, по спискам хватала и расстреливала железнодорожников. Как взрывала и поджигала в Киеве. Как громила перед освобождением Житомир. Сегодня Пилсудский заплатит за всё.
В наступлении участвуют полки, разбившие Колчака, Деникина и Юденича. На защиту Советской земли собрались бойцы с востока, юга, запада и севера. Железная пехота, лихая конница, грозная артиллерия неудержимой лавиной должны смести белую нечисть. Пусть разоренные империалистской войной места будут свидетелями кровавой расплаты революции со старым миром и его слугами. Красная армия да покроет себя новой неувядаемой славой.
Взгляды всей России обращены на Западный фронт. Измученная, разоренная страна отдала всё для организации победы над врагом. Рабоче-крестьянский тыл с трепетом ждет победы и мира. Оправдаем же надежды социалистического отечества. Докажем на деле, что усилия страны не пропали даром.
Усилия страны. Социалистическое отечество. Наше отечество, наша страна – не старая абстракция вроде за веру, царя и так далее, но действительно наша. И ты докажешь. Делом. Ибо победа есть дорога к миру. После шести бесконечных лет войны.
Бойцы рабоче-крестьянской революции! Устремите свои взоры на запад. На западе решаются судьбы мировой революции. Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках принесем счастье и мир трудящемуся человечеству. На запад. К решительным битвам! К громозвучным победам!
Тебе бросается в глаза – или только кажется? – про мировой пожар командир твой говорит скороговоркой. Умный, опытный, знающий настроения масс, он понимает – нет, не это воспламенит красноармейцев. Привычная, стандартная доля демагогии, чьи-то доктринерские мечтания, по-своему милые, альтруистические – но мы устали, мы все бесконечно устали.
Зато про труп белой Польши – это воодушевляет. Каждый честный русский, каждый честный поляк счастлив будет стать свидетелем процесса над преступниками – Довбором, Галлером, Пилсудским, над их парижскими покровителями, над их американскими наемниками и, конечно, над их русскими лакеями – Петлюрой, Балаховичем, Савинковым, Безручко.
Нет – агрессивной, злобной, белой Польше! Слава – Польше народной, мирной, дружественной, честной!
Если получится. Потому что главное – изгнать из пределов отечества. И добиться, наконец-то добиться мира.
Стройтесь в боевые колонны! Пробил час наступления. На Вильну, Минск, Варшаву – марш!
Командующий армиями Западного фронта М. Тухачевский
Члены Реввоенсовета Запфронта Смилга и И. Уншлихт
Начальник Генерального Штаба Шварц
Сотни сочинителей в Польше, сопредельных и заокеанских странах сотню лет с упоением – убежденные, что они разоблачают наши планы, – повторяют фразы про «запад», «мировой пожар», про «счастье на штыках». (О ритмически организованной речи в глазах простецов мы писали.) Им вторят, визжа, своры русских мыслителей – из Петербурга, Киева, Минска, Москвы – с синематографическим, театральным, естественнонаучным и, трудно поверить, филологическим и историческим образованием. Основной части приказа для этой публики не существует. Хотя казалось бы, в чем трудность? Документ опубликован. Интеллектуалы переписывают друг у друга? Всего скорее, так оно и есть.
Автор не является ни поклонником Тухачевского, ни тем более его ненавистником. Будучи объективным, стараясь им быть, он сформулирует свое суждение так. Если Тухачевский двадцатого года и виновен в чем-то перед человечеством, то главным образом в переоценке собственных возможностей и роковой недооценке возможностей противника. Но эта переоценка и недооценка проявятся позднее, в августе, и будут свойственны не одному лишь Тухачевскому.
Что же касается политприказа – фрагмент которого повторяется сотнями бойцовских хомячков, охотничьих болонок и интеллектуальных меринов, – то к чему был должен призывать командующий революционной армией? К угощению захватчиков голицынским шампанским? К награждению почетным оружием?
В нашей поэме высказался об этом Зенькович герба Секерж. Не стоит повторяться. Хотя… С учетом информационного пресса, что десятилетия давит на мозги несчастных наших соотечественников – и возможно, на твои, мой читатель, – повториться лишний раз нелишне. На вражеский пресс, антипатриотический и контрреволюционный, ответим нашим – бесконечно патриотическим и архиреволюционным. Хай живе радянська Укра?на![7 - Официальное название западной части Южной России с 1918 по 1991 год.] Lai dzivo Padomju Latvija! Proletariusze wszystkich krajоw, laczcie sie! Hands off Russia, you!
Вам неприятно, сэр? Я рад. Безмерно. Z drogi!
***
На следующий день после начала общего наступления Запфронта, то есть пятого числа, польские газеты опубликовали два воззвания от имени Совета обороны государства[8 - Rada Obrony Panstwa. Орган был образован первого июля – спустя трое суток после освобождения Конармией Новограда-Волынского, то есть перехода нами линии, с которой в апреле началось пилсудовское наступление.]. Оба были датированы позавчерашним, третьего июля, днем, оба были подписаны одним и тем же именем, оба искрились сходным набором идей. Жаль, их нельзя процитировать полностью, наша повесть о Басе и без того становится бесконечной.
Граждане Республики! [Rzeczypospolitej]
Отечество в опасности!