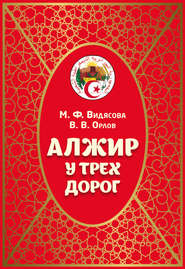скачать книгу бесплатно
Коллективная натурализация евреев, возможно, преждевременная и явно психологически не подготовленная для них самих, вызвала гнев многих европейцев Алжира, требовавших ее отменить. Сразу возник миф, что кабильское восстание 1871–1872 гг., лидер которого, кавалер ордена Почетного легиона – башага Мухаммед аль-Мукрани (ранее лояльный французам)[51 - Башага – лидеры больших или малых племен, подчиненные французской администрации и получавшие от нее жалование. В данном случае это – правитель целой области.], как-то заявил, дескать, лучше он станет «подчиняться офицеру, чем еврею»[52 - Он сказал, в частности, одному французскому командиру буквально следующее: «Ваших генералов, которых мы привыкли слушаться и почитать как слуги, оскорбляют, их заменяют лавочниками и евреями и думают, что мы снесем это молча». (Рамбо А / История XIX века. Перевод с французского. Том 8. М.: ОГИЗ. 1939, с. 221). Семья аль-Мукрани принадлежала к верхушке алжирского общества, ее члены считали себя потомками Пророка и некоего французского аристократа, выброшенного кораблекрушением на берег Алжира и принявшего ислам. (Там же, с. 221).], было вызвано, поспешной акцией Кремье, которая якобы и стала причиной смуты. Хотя действительные причины и даже повод волнений в Кабилии лежали совсем в иной плоскости, нежели трения между мусульманами и иудеями, которых большинство алжирцев, и правда, считало пособниками, если не виновниками оккупации их земли «гяурами».
К восстанию, поднятому Мухаммедом аль-Мукрани 14 марта 1871 г., примкнула часть религиозного братства Рахмания, поэтому оно охватило обширную территорию – вплоть до сахарских оазисов на востоке Алжира. 5 мая зачинщик восстания погиб в бою, его брат Бу-Мерзаг Мукрани был пленен раненым 20 января 1872 г., приговорен к смертной казни, но помилован и сослан на тихоокеанский остров Новая Каледония, где участвовал в подавлении восстания аборигенов-канаков[53 - Канаки восстали в 1878 г., а Бу-Мерзаг Мукрани был доставлен в Алжир 13 июля 1905 г., где теперь не имел ни кола ни двора и ровно через год умер (Julien Ch.-A. Histoire de l’Algеrie contemporaine. Paris: PUF. 1964, р. 498).]; другие члены этой знатной семьи бежали в Тунис и помогли французам (как проводники и соратники) в его завоевании (1881 г.)[54 - Рамбо А. / История XIX века…с. 221–224.]. Простые мятежники были лишены части своей земли, а за оставшуюся у них часть должны были выплатить контрибуцию французским властям. Как результат, львиная доля их пригодной к обработке земли была секвестирована и перешла к новым поселенцам.
Между тем Антиеврейская лига, созданная в Алжире вслед за изданием «декрета Кремье», оказалась живучей. Она бурно реагировала на «дело Дрейфуса», учинив в 1898 г. травлю местных евреев, одного из которых линчевали, снова потребовала отмены пресловутого декрета и провела в мэры Алжира своего кипучего лидера, натурализованного француза итальянского происхождения Массимилиано Милано, подстрекателя погромов. Юдофобы почувствовали себя хозяевами положения и тотчас потребовали отставки слишком либерального генерал-губернатора. Случившиеся впервые в январе 1898 г., погромы прокатились с новой силой в сентябре следующего года. В ходе них обнаружилось, что алжирские департаменты были единственной территорией Франции, где антисемитский угар сказался на избирательном процессе.
Печальные события тех лет не прошли без следа, завещав свой груз ХХ столетию, и сыграли свою роль в развитии перекрестно негативного восприятия еврея (полуевропейца, полутуземца в глазах французских шовинистов и мусульманских националистов, нашедших свою точку соприкосновения в доморощенном алжирском антисемитизме, обострившемся на фоне экономического кризиса 30-х годов прошлого века).
Параллельно складывалась особая социальная психология европейского меньшинства Алжира, культивировавшего идею собственного физического и морального превосходства не только над «дикими» арабами, в сражении с которыми гибнет под г. Джиджель[55 - Во французской литературе часто упоминается как Джиджелли.] литературный герой Дюма, виконт де Бражелон, но и над «скаредным, вялым и т. п.» населением метрополии. Эта массовая психология со временем породила сепаратистские настроения алжирских европейцев, заложенные еще в конце XIX века и проявлявшиеся в том, что поселенцы, в основном католики, смешиваясь с другими христианами через брачные отношения, стали осознавать себя как настоящих «алжирцев» (в отличие от арабов, «которым место в Аравии»), или некую «неолатинскую расу», идея которой, взращенная церковниками, реакционными политиками, антисемитами, арабофобами и, наконец, авторами «L'Afrique Latine» (журнал, издававшийся в Алжире и популярный до Первой мировой войны), странным образом совмещалась у представителей этой новой расы с бьющим через край французским патриотизмом великодержавного свойства. Тем самым, носителей которого позже стали называть «ультра».
Помимо парижской и местной прессы правого толка, щедрой на изображение пугающей картины «мира туземцев» и влиявшей на воспитание умов алжирских европейцев, делали свое дело произведения второсортных, но имевших изрядную читательскую аудиторию французских писателей, создавших жанр «колониального романа», процветавший в первом десятилетии прошлого века и несколько утративший героико-национальный пафос в послевоенные 1920-е годы. Тем не менее певец «латинского духа» Луи Бертран активно продолжал вести свою агитацию художественным словом, а Пьер Бенуа, мастер любовно-авантюрных романов с колониальной экзотикой («Атлантида», «Дорога гигантов», «Хозяйка ливанского замка», «Полуночное солнце»), перед Второй мировой войной стал склоняться к фашизму, импонировавшему определенной и немалой части европейского населения Алжира. Имел хождение и термин «algеrianisme», введенный в 1911 г. беллетристом Робером Рандо (Арно), который восхищался алжирским чудом, якобы превзошедшим римские деяния, благодаря которому «imperium» неолатинского народа «станет править миром»[56 - Ganiage J. Histoire contemporaine du Maghreb de 1830 ? nos jours. Avec la collaboration de J. Martin. Paris: Fayard. 1994, р. 242.].
С декабря 1900 г. совокупность трех алжирских департаментов получила гражданскую правосубъектность, что придало им характер административной автономии и, строго говоря, противоречило расхожему мнению о том, что «Алжир – продолжение Франции». По ряду вопросов префекты и другие чиновники напрямую подчинялись парижским министерствам и ведомствам. Однако институт генерал-губернаторства представлял собой центральную исполнительную власть в масштабах всего Алжира. Идея его ассимиляции уступила место концепции «rattachement», т. е. «присоединения» к метрополии, а позже заменена идеей «ассоциации». Поэтому тезис «Алжир – это Франция», вытекающий из текста французской конституции 1848 г., и представление о том, что «Алжир – наша родина», а в Париже «нас не понимают», свободно уживались в умах алжирских европейцев. На практике квазиавтономия Алжира означала всевластие верхушки поселенческой колонии, ревностно охранявшей свои привилегии, выступая против ассимиляции алжирцев-мусульман, общее количество которых в 1914 г. превысило 4,5 млн и на 92 % состояло из сельских жителей. Их перемещению в города препятствовали, помимо всего прочего, местные законы, ограничивавшие внутреннюю миграцию мусульманского населения, в том числе между департаментами («Туземный кодекс»)[57 - Введен в 1881 г., поэтапно отменен к 1927 г.].
Урбанизация в Алжире вплоть до второй трети XX века «высасывала» из деревни в основном европейцев. В 1872 г. около 40 % европейского населения Алжира составляли сельские жители, их абсолютная численность поднялась почти в полтора раза к 1880 г., поскольку с юга Франции потянулись крестьяне, бежавшие из пораженных филлоксерой винодельческих районов (главным образом из Прованса и с берегов Гароны). Болезнь растений, бороться с которой приходилось сплошным выкорчевыванием старой лозы, впервые поразила в 1865 г. департамент Гар, затем распространилась в районе Бордо, а в 1890 г. охватила с большей или меньшей интенсивностью все виноградники Франции. Их нескоро удалось обновить. Тем временем благодаря иммиграции виноградарей определилась ведущая специализация товарного земледелия Алжира – экспортера вина. Однако, несмотря на то, что эта отрасль относится к трудоинтенсивным, уже к 1906 г. уровень урбанизации среди алжирских европейцев повысился до 66 % и дальше продолжал расти. Это сопровождалось процессом укрупнения средней земельной собственности фермеров, которые воспользовались, во-первых, экспроприацией земель 250 племен, восставших в 1871–1872 гг., после чего парламент ассигновал 50 млн франков на создание новых земледельческих колоний, членам которых раздавались участки до 20–40 га каждому; во-вторых, «законом Варнье» от 1873 г., модифицированным в 1887 г., по которому аннулировалась нераздельная форма собственности мульк (в принципе «безусловная», почти частная, но не всегда индивидуальная) и отменялась неотчуждаемость земель хабус = вакф). Те и другие земли, как и общинные владения арш, принудительно разбивались на мелкие наделы, передавались в частные руки и становились объектом купли-продажи. Бум купчих сделок привел к тому, что в некоторых районах за десять лет обширные угодья полностью поменяли хозяев, иногда гектар плодородной земли продавался за 1,5 франка. Поэтому 1871–1900 гг. оказались периодом стремительного увеличения европейской земельной собственности в ущерб «туземной», оттесненной из относительно влажных долин на сухие плоскогорья Высоких плато или на подверженные эрозии склоны гор Кабилии. Лучшие земли достались европейцам. Не случайно после «золотой эры» колонизации последней трети XIX века все реже стали встречаться сезонные или постоянные рабочие – либо французы, либо испанцы, их место стал занимать «туземный» сельский пролетариат.
Закон от 26 июня 1889 г. устанавливал, что каждый европеец, рожденный в Алжире, становится французом, если по достижении совершеннолетия не откажется от этого статуса. Таким образом, разношерстное по историческому и этническому происхождению европейское население, которое в последней трети XIX века бурно росло за счет иммиграции[58 - «Невоенных» французов в Алжире насчитывалось в 1866 г. всего 112,1 тыс. К концу века их число достигло 270 тыс. Прочих европейцев насчитывалось 216 тыс. (Рамбо А. / История XIX века. Перевод с французского. Том 8. М.: ОГИЗ. 1939, с. 228).], «автоматически» получило французское гражданство, ранее возникавшее по личному запросу о натурализации. (В индивидуальном порядке его оформляли и некоторые мусульмане). Тем самым был дан зеленый свет появлению «креольского» общества алжирских европейцев, которое в дальнейшем росло за счет самовоспроизводства, так как на рубеже веков иммиграция замедлилась, а с 1911 г. фактически остановилась[59 - Франция – первая европейская страна, где в ХХ веке (примерно с 1912 г.) наблюдался спад рождаемости. В Первой мировой войне она понесла огромные людские потери: почти 1 млн человек среди 19 млн мужского населения.] и, напротив, пока еще тонкой струйкой потекла трудовая эмиграция алжирцев-мусульман во Францию, прежде всего в Марсель, где они нанимались в докеры, открывали свои харчевни и постоялые дворы. По данным на 1912 г., когда впервые был разрешен выезд алжирцев в метрополию, там насчитывалось 12–13 тыс. таких отходников, обычно выезжавших на заработки без семьи. Но это было только начало. К 1914 г. одних кабилов стало во Франции 15 тыс. (против 5 тыс. в 1912 г.). Алжирцы выезжали и в соседний Тунис, где имелся неудовлетворенный спрос на рабочую силу в горной промышленности.
После Первой мировой войны кабилы, которые обычно имели в каждой большой семье 3–4 родственников во Франции, составляли здесь не менее половины выходцев из Алжира (всего около 100 тыс.), находивших работу в металлургической, химической, строительной и горной промышленности, а также в сфере обслуживания[60 - Представители старшего поколения кабильской эмиграции нередко получали во Франции образование и достигали немалых успехов в университетских и научных кругах. Здесь можно вспомнить имя родившегося в Большой Кабилии видного философа и историка ислама Мухаммеда Аркуна (1928–2010) – профессора Сорбонны, знатока арабской общественной мысли. (См.: Долгов Б.В. Арабо-мусульманское сообщество во Франции: Исламская идентификация и светская демократия (1980–2016 годы). М.: Ленанд. 2017, С. 30).]. Они образовали крупные колонии в индустриальных зонах метрополии, задерживаясь там не на месяцы, а на годы. Сама по себе пролетарская эмиграция, примерно в пять раз превосходившая число рабочих-мусульман, остававшихся в Алжире, становилась главной особенностью алжирской социальной структуры. Во Франции, а не на родине алжирцы приобретали элементарную квалификацию, знакомились с профсоюзным движением и лозунгами левых партий. Этой особенностью не исчерпывалась, однако, картина развития колониального Алжира, представлявшего собой в социальном плане мозаику, которую известный социолог Пьер Бурдье назвал «системой каст», характерных как для арабо-берберского общества (которое вопреки усилиям властей, направленным на его этнический раскол, консолидировалось на основе ислама), так и для европейского социума, «единым блоком» являвшегося классом господ, но разделенного изнутри массой официальных и невидимых барьеров[61 - Bourdieu Р. Sociologie de 1’Algеrie. Paris: PUF. 1963, р. 141.].
К 1931 г. в Алжире постоянно проживало свыше 907 тыс. европейцев (805 тыс. без учета евреев с французским гражданством). Общий удельный вес европейского анклава составил около 15 % населения страны и затем стал неуклонно снижаться, несмотря на сравнительно высокую рождаемость в семьях «неофранцузов» испанского, итальянского, смешанного или, наконец, еврейского происхождения. Так называемые европейцы-иностранцы, как правило, представляли собой иммигрантов в первом поколении, ибо отказ от французского гражданства являлся сложной процедурой и не приносил никаких экономических выгод. Абсолютная численность иностранцев с 1911 г. приобрела устойчивую тенденцию к сокращению. Однако в 1936 г. среди алжирских европейцев насчитывалось 127 тыс. иностранцев из 946 тыс. (включая евреев) и в 1954 г. – 71 тыс. из 984 тыс.
Алжиро-европейцы, лично наделенные теми же политическими правами, что и жители метрополии, избирали от каждого департамента одного сенатора и двух депутатов нижней палаты парламента. Вместе с тем реформы первых десятилетий Третьей республики привели к созданию общих для Алжира представительных органов: консультативного «Высшего совета», созданного в 1894 г., и «Финансовых делегаций», учрежденных во исполнение декрета от 23 апреля 1896 г., -которые собирались на пленарную сессию для утверждения местного «специального» бюджета (дефицит которого всегда покрывался за счет французского обычного бюджета). Среди финансовых делегатов изначально было 48 французов, представлявших интересы колонистов-аграриев и лиц, занятых несельскохозяйственной деятельностью (по 24 человека в каждой секции), а также 21 алжирец, в том числе шестеро кабилов, за которыми были закреплены их места в третьей секции. Финансовые делегации в течение 20 лет отстаивали взимание с мусульман «коранических налогов» сверх введенных в Алжире прямых и косвенных налогов, обеспечивавших специальный бюджет гражданской территории. Военная территория управлялась «бюро по делам туземцев» – преемниками «арабских бюро», которые в 1870 г. были подчинены генерал-губернатору, а в 1880 г. упразднены.
«Высший совет» Алжира, куда вошли 60 человек, в том числе главные чиновники администрации и всего 7 представителей коренного населения, на первых же заседаниях объявил алжирцев «низшей расой», годной лишь служить у европейцев в качестве батраков, каменщиков, умелых сапожников[62 - Жансон К. и Ф. Алжир вне закона. Пер. с франц. М.: Изд-во иностр. литры. 1957, с. 78.].
Впоследствии этот совещательный орган был расширен, в его составе стало 10 алжирцев. В каждом из трех департаментов, которые делились на полноправные (чисто европейские) коммуны и смешанные коммуны, избирался «генеральный совет». Он состоял из 24 европейцев и 6 алжирцев, их электорат был ограничен всего пятью тысячами человек, включая каидов и мелких чиновников.
Каиды, ага и башага, выполнявшие функцию провинциальных администраторов, подбирались французскими властями не столько из представителей традиционных «великих семейств» (условно говоря, феодалов), которые иссохли, обеднели, если не были уничтожены, сколько из подраставшей «снизу» арабской и берберской клиентелы. Вестернизация этой новой элиты шла медленно. Появившиеся в 1865 г. «арабско-французские школы», где утром велось преподавание по-арабски, вечером – по-французски, вскоре были закрыты. К 1882 г. остались всего 16 таких учебных заведений первой ступени и три коллежа в больших городах. Для подготовки школьных учителей было создано педагогическое училище в пригороде Алжира, но туда попадали лишь единицы мусульман. В 1890 г. только 2 %, а в 1914 г. – 5 % мусульманских детей, почти исключительно мальчики, посещали либо французские школы, либо коранические школы, созданные французами с целью подготовки чиновников со средним образованием, сведущих в литературном арабском языке и мусульманском праве. Лишь 34 алжирца к 1914 г. получили полное среднее образование с со степенью бакалавра (здесь: с аттестатом зрелости) и 12 окончили вузы[63 - Ganiage J. Histoire eontemporaine du Maghreb. Р. 247.].
Во французские школы, являвшиеся в глазах большинства алжирцев учреждением «гяуров», они и сами неохотно отдавали своих детей. Исключение составляла Кабилия, где местные нотабли отнеслись к этому вопросу либерально, разрешив детям посещение школ, в которых преподавался французский язык. Об отличительных особенностях кабилов писал русский натуралист П.А. Чихачев, посетивший кабильскую деревню возле горы Джурджур в апреле 1878 г. В этой деревне было 60 домов и жили примерно 200 человек. Приезжих любезно встретил здешний каид. После завтрака, пишет автор, каид «сопровождал мою жену в гарем одного богатого землевладельца, ибо гарем самого каида находился в соседней деревне. Закон Мухаммеда допускает многоженство, но оно редко осуществляется кабилами, хотя офицально они и мусульмане, но не очень рьяные приверженцы Корана. Как бы желая лишний раз подчеркнуть разницу между нравами кабилов и арабов, каид привел меня в семью менее богатого землвладельца, семью очень скромную, состоящую из одной жены, ее двух сестер и матери. Эти дамы с изукрашенными татуировкой лбами, с руками, увешанными тяжелыми серебряными браслетами, приняли меня по-французски, приветствуя словом «bon jour!», произнесенным правильно, без всякого акцента, и крепко пожали мне руку на английский манер»[64 - Чихачев П.А. Испания, Алжир, Тунис. М.: Мысль. 1975, с.133.].
После введения в марте 1912 г. воинской обязанности для алжирцев, реализуемой по жребию (от нее можно было законно откупиться) служба в армии оказалась более широким каналом их социального продвижения и приобщения к европейской среде, нежели государственная система образования, против распространения которой на мусульман активно выступали европейские поселенцы, ссылаясь устами своих избранников на дороговизну этого мероприятия. Попытки внедрения в Алжире элементов демократической политики в сфере народного просвещения, развернутой во Франции при правительстве Жюля Ферри и означавшей бесплатность образования, а также единообразие учебных программ, вылилось в создание особых школ для туземцев (еcoles auxiliaires), которые появились в 1884–1908 гг. и обслуживались кадрами низкой квалификации. Крайне редко встречались мусульмане на службе в аппарате центральной колониальной администрации или на уровне департаментов. И вопреки тому, что можно было бы думать, имея в виду, что Алжир – старейшее и головное звено французских владений в Северной Африке, формирование местной интеллектуальной элиты, воспитанной в европейском духе, отставало здесь и по времени, и в количественном отношении от данного процесса в Тунисе. По словам Жака Берка, в начале 30-х годов ХХ века вестернизированная прослойка мусульманского населения («еvoluеs») была в Алжире тонкой и даже «скандально немногочисленной»[65 - Berque J. Le Maghreb entre deux guerres. Paris: Seuil. 1962, р. 103.].
Глава 3
Развитие национального движения
Алжир – моя родина, ислам – моя религия, арабский язык – мой язык.
Девиз алжирской Ассоциации улемов-реформаторов, 1931 год
Если бы я обнаружил алжирскую нацию, то стал бы националистом… Однако я не умру за алжирскую родину, потому что она не существует. Ее я не нашел. Я вопрошал историю, спрашивал живых и мертвых, ходил по кладбищам: ответ – молчание…
Фархат Аббас, 1936 год
Действительно, в 1884 г. всего 6 алжирцев сидели на скамье столичного Алжирского университета[66 - Он был официально открыт в 1908 г., ранее существовали отдельные факультеты высшего образования.], в 1907 г. – уже 50, но это было каплей в море. При этом в 1908 г. только 33,4 тыс. алжирцев школьного возраста (4 % от них) посещали школу современного типа, с изучением французского языка[67 - Ланда Р.Г. История Алжира. XX век. М.: ИВ РАН. 1999, с. 28–29.], и значит, теоретически имели шанс попасть в какой-нибудь вуз на родине или в метрополии. Высшее мусульманское образование в Алжире тоже было развито слабо: медресе существовали лишь в трех городах: Алжире, Тлемсене и Константине. Желавшим подняться на вершину богословского знания и стать настоящим, дипломированным религиозным «шейхом» надо было ехать в Фес (университет аль-Карауин), Тунис (университет аз-Зейтуна) или в Каир (университет аль-Азхар).
Тем не менее на рубеже веков в Алжире зарождалась местная интеллигенция. Особенно активную ее часть представляли собой младоалжирцы, исповедовавшие примерно те же взгляды, что и младо- тунисцы[68 - О них см.: Видясова М.Ф. Тунис. Маршрут в XXI век. М.: Садра, 2018. С. 26–33.], но организационно более раздробленные. Самые крупные их кружки образовались в городах Алжир и Константина. Они обзавелись частными типографиями, требовали равенства между алжирцами и французами, отмены расистского «Туземного кодекса» и отправляли петиции с этими требованиями в Париж. Одну из них им удалось вручить в 1912 г. лично премьер-министру Раймону Пуанкаре.
Первая мировая война привела к мобилизации 155 тыс. алжирских европейцев и 173 тыс. алжирцев. Кроме того, 119 тыс. алжирцев были направлены во Францию в качестве рабочей силы. Погибли на войне 25 тыс. (по другим сведениям, 50 тыс.) алжирцев. При этом не менее 120 тыс. человек бежали от мобилизации, как правило, в горы[69 - Ланда Р.Г. История Алжира. XX век. С. 47.]. Понятно, что это обезлюдило деревню в равнинных, приморских областях страны. Демографический рост ее коренного населения был зафиксирован только переписью 1931 г. Одновременно началась и миграция из деревни в город.
Раскол французской соцпартии на съезде в Туре (конец декабря 1920 г.) привел к формированию Французской коммунистической партии (ФКП). На первых порах ее филиал в Алжире – Алжирская коммунистическая партия (АКП) – насчитывал 400 тыс. человек, среди которых было всего два алжирца[70 - Там же, с. 56.]. Иначе дело обстояло во Франции.
3.1. «Североафриканская звезда»
Под эгидой ФКП 26 марта 1926 г. была основана в Париже организация «Североафриканская звезда» (САЗ), которая объединила выходцев из трех стран Магриба. Однако ее костяк составили рабочие-алжирцы. Первым, правда недолговечным, председателем САЗ был тунисец Шадли Хайраллах, а генеральным секретарем – Ахмед Мессали Хадж (1898–1974). Он был человеком из «низов»: сын тлемсенского башмачника, сержант французской армии (1918–1921), затем парижский разнорабочий или (порой) уличный торговец, женившийся на работнице-француженке. В молодости – член религиозного братства Даркава, потом член ФКП (1924–1930) и генеральный секретарь «Североафриканской звезды» (с 1926 г., а с 1928 г. – ее председатель) и, наконец, адепт арабского националиста, ливанского эмира Шакиба Арслана. Забегая вперед, скажем, что он был арестован в 1937 г., вскоре после основания им Партии алжирского народа (ПАН)[71 - Используют также французскую аббревиатуру РРА/ППА.]. Многие авторы словесно рисовали его портрет, приобретенный с конца 1930-х годов: облик дервиша с растрепанной бородой и горящими глазами. Подобное впечатление он произвел и в 1951 г. на тунисского политика Слимана Бен Слимана, который пишет, что с изумлением увидел в городе Алжир этого человека «с большой бородой, смахивающего на современного марабута, поскольку на голове у него был тарбуш (феска. – Авт.)»[72 - Ben Sliman S. Souvenirs politiques. Tunis: Еditions Cеr?s. 1989, р. 319.].
Фотопортрет Мессали Хаджа https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 1/14/La_presse_Tunisie_1956_14.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_presse_ Tunisie_1956_14.jpg
В ранний период своего существования САЗ выпускала газету «L'Ikdam de Paris» (октябрь 1926 – январь 1927 г.), которая вышла тремя номерами по 8 тыс. экземпляров каждый и была запрещена, а затем издавалась под названиями «L'Ikdam Nord-Africaine» (май – сентябрь 1927 г.) и «L'Ikdam de 1'Etoile Nord-Africaine» (декабрь 1927 – май 1928 г.). Выпуск газеты был нерегулярным, последний тираж составил 500 экземпляров.
Подвергнутая запрету в 1929 г., САЗ продолжала действовать нелегально и была восстановлена в 1932 г. под названием «Славная Североафриканская звезда». 28 мая 1933 г. она провела в Париже общее собрание, его организаторами были Мессали Хадж, коммунист Имаш Амар и Раджеф Белькасем. Они прибегали к услугам таксистов-алжирцев в качестве связных. Собрание приняло новую программу, заявив о независимости САЗ от какой-либо политической идеологии, хотя эта организация в новом формате еще довольно долго продолжала пользоваться материальной помощью ФКП и ее помещениями. В уставе, который был отпечатан и распространялся вместе с программой, было записано, что штаб-квартира САЗ находится в Париже, но «может быть перенесена в любую другую страну, если того потребует политическая необходимость». Основной задачей организации объявлялась борьба за полную независимость каждой из трех стран, Алжира, Туниса и Марокко, а также достижение единства Северной Африки. От пролетарско-коммунистической окраски ранней САЗ был унаследован вопрос об аграрной реформе, вошедший в программу 1933 г., однако общая тональность этого документа была сугубо националистической. Первая статья устава САЗ определяла ее как ассоциацию всех мусульман Магриба, что заведомо придавало ей конфессиональный характер[73 - Hamed-Touati М. Immigration maghrеbine et activitеs politiques en France. Tunis: Univ. de Tunis. 1994, P. 219–221.].
3.2. Празднование столетия «Французского Алжира»
Юбилейные торжества в Алжире состоялись в июне 1930 г. и включали различные официальные церемонии, съезды офицеров запаса, медиков и пожарных, поэтические вечера, концерты, банкеты и т. п. Внешне они прошли гладко, без видимого сопротивления со стороны алжирцев[74 - Алжирцы, если и выражали свое недовольство, то пассивно – оставаясь дома. Зато властям удавалось выводить на улицу то маленьких школьников-кабилов, которые приветствовали разъезжавшего по стране президента Французской Республики, то толпу статистов, молча взиравших 14 июня в гавани Сиди Ферруш на венец праздников – установку мемориальной стелы в честь совершенной здесь сто лет назад высадки французской армии. Из кожи вон лезли, стараясь показать свою лояльность, сельские старосты, каиды и другие провинциальные начальники-алжирцы. Всех превзошел башага местечка Сиди Окба, воскликнув: «Если бы в 1830 г. арабы уже знали французов, то зарядили бы ружья цветами!» Свой голос против юбилейных торжеств подняла в Алжире только французская оппозиционная пресса, которая указывала на их высокую стоимость, 493 млн франков, и высмеивала подобострастных башага, большинство из которых, несмотря на их громкое (в прошлом воинское) звание, были ничтожными личностями, один – вчерашним торговцем куриными яйцами (Berque J. Le Maghreb entre deux guerres… P. 233–234).]. Однако они разбудили их чувство униженного достоинства и, как следствие, стимулировали появление национальных организаций партийного типа. Это прежде всего Ассоциация улемов-реформаторов, девиз которой «Алжир – моя родина, ислам – моя религия, арабский язык – мой язык», возможно, принадлежал изгнанному из Туниса алжирцу Ахмеду Тауфику аль-Мадани (1899–1983), бывшему члену руководства партии Дустур (Конституция)[75 - Полное название – Либерально-конституционная партия. (Подробнее см.: ВидясоваМ.Ф. Тунис. Маршрут в XXI век. С. 52–59).]. Основанная 5 мая 1931 г., Ассоциация улемов-реформаторов ратовала против социальных пороков, за «очищение» ислама от суеверий простонародья и мистицизма суфийских братств.
Она выступала также против официальных служителей ислама, считая их наймитами колониализма, и повлияла на многих ранее политически инертных алжирцев. Лидеры ассоциации печатали патриотические и теологические статьи на страницах журнала «Аш-Шихаб» (тираж 2 тыс. экземпляров), еженедельника «Аль-Ислах» (3 тыс. экземпляров) и ежедневной газеты «Аль-Магриб» (2,5 тыс. экземпляров) и выпускали еще десяток периодических изданий[76 - Ланда Р.Г. История Алжира. XX век. С. 65.].
В начале 1930-х годов заметным явлением на алжирском политическом небосклоне становится Федерация туземных избранников (ФТИ), основанная такими «еvoluеs», как выходец из многодетной крестьянской семьи[77 - Глава этой семьи получил, однако, пост башага и местного каида (Julien Ch.-A. L’Afrique du Nord en marche. Vol. 2. Tunis: Cеr?s. 2001 (переиздание), р. 416).], выпускник факультета фармакологии Алжирского университета Фархат Аббас (1889–1985) и Мухаммед Бен Джаллул.
Это были 150 представителей алжирского населения в Финансовых делегациях, генеральных и муниципальных советах. ФТИ выступала за ассимиляцию алжирцев французами, требуя равных прав для тех и других, и находила отклик среди по-европейски образованных алжирцев, которые объединились в 110 культурно-просветительских, спортивных и других ассоциациях, возникших в 24 городах страны[78 - Berque J. Le Maghreb entre deux guerres. P. 312.]. Ассимиляцию они рассматривали как «победу над колонизацией»[79 - Ланда Р.Г. История Алжира. XX век. С. 63.]. Наиболее прочные позиции ФТИ завоевала в Кабилии, так как ее интеллектуальная элита тяготела к европейской культуре, а простой кабил лучше знал французский язык, чем «средний алжирец».
Фотопортрет Фархата Аббаса https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/6/60/Ferhat_Abbas_-_algerischer_Staatspr%C3%A4sident.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Ferhat Abbas_-_algerischer_Staatspr%C3%A4sident.jpg
Сетиф, где жил по окончании университета в 1933 г. Фархат Аббас, представлял собой скорее горное селение, чем город[80 - Его предшественником был римский Sitifis, населенный нумидийцами. В 97 г. император Нерва поселил в нем своих ветеранов. По данным на 2013 г., он насчитывал 324 тыс. жителей. Но первая трамвайная линия была проложена в нем только в 2018 г.]. Там он содержал аптеку, в 1935 г. был избран членом муниципалитета и сотрудничал в еженедельнике «L'Entente franco-musulmane» («Франко-мусульманское согласие»), став через два года его главным редактором.
3.3. Алжир под тенью фашизма: 1933–1939 годы
В эти тревожные годы Алжир стал форпостом распространения нацистско-фашистской пропаганды в Магрибе. Так, в августе 1933 г. в нескольких алжирских городах прошли демонстрации под лозунгом «Да здравствует Гитлер! Долой Францию!». Такое повторялось и в два следующих года[81 - Ланда Р.Г. История Алжира. XX век… С. 64.].
Одновременно «Звезда» начала проникновение в Алжир, где стала массово распространять свою литературу и организовала ряд выступлений против французских колонистов; в 1934 г. была снова запрещена. Мессали Хадж осенью того же года был арестован, в июне 1935 г. выпущен по амнистии, а затем бежал в Швейцарию, под крыло Шакиба Арслана.
Однако его организация не распалась, ее прикрытием служил «Национальный союз североафриканских мусульман». В сентябре 1935 г. она насчитывала 2,5 тыс. активистов (против 1 тыс. человек годом раньше) и сотрудничала с левыми силами. Об этом свидетельствует собрание 27 июня 1935 г., организованное французской Антиимпериалистической лигой. На нем выступали Анри Барбюс, Ф. Журден и Мессали Хадж, протестуя против декрета министерства внутренних дел, изданного в апреле того года и запрещавшего «всякие беспорядки и манифестации против французского суверенитета». Этот декрет был признан участниками собрания как мера, направленная на угнетение колониальных народов и как покушение на свободу французского пролетариата. 3 тыс. выходцев из Магриба во главе с Мессали Хаджем явились 14 июля 1935 г. на знаменитый митинг левых партий на площади Бастилии (прелюдия образования французского Народного фронта)[82 - Hamed-Touati М. Immigration maghrеbine et activitеs politiques en France. Tunis: Univ. de Tunis. 1994, р. 251. Напомним, что в Народный фронт вошли коммунисты, социалисты, партия радикалов, представители Лиги прав человека и др.].
Летом 1936 г. САЗ вышла из подполья, вернув себе прежнее название, и получила представительство в центральном комитете Народного фронта. 26 января 1937 г. была распущена декретом министра внутренних дел, опиравшимся на закон «О милиции», воспрещавший партиям или общественным ассоциациям иметь при себе полувоенные формирования[83 - Закон был направлен главным образом против фашистских лиг (История Франции. Т. 3. М.: Наука. 1973, с. 172).]. И в том же году на основе САЗ была образована Партия алжирского народа (ПАН), которая сформулировала идею создания Алжирской республики со своим парламентом и статусом доминиона.
Учредительный съезд ПАН состоялся во французском г. Нантер, но вскоре ее новоизбранный председатель Мессали Xадж объявился в Алжире, где и развернул свою деятельность. В это время его духовным наставником становится Жак Дорио, один из «акушеров» САЗ, проделавший путь от члена ЦК ФКП, ведавшего колониальными вопросами, до основателя профашистской Французской народной партии (ФНП). Она была основана в 1936 г., но Дорио рассорился с коммунистами двумя годами раньше и еще до создания ФНП стал получать немецкие деньги[84 - Верт А. Франция 1940–1955. Сокр. пер. с англ. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959. С. 133–135. (Добавим, что 6 января 1945 г. Дорио учредил «Комитет освобождения Франции», 22 февраля погиб при авианалете).].
Еще в начале 1934 г. фашистские лиги Франции, не имевшие общего руководства, часто соперничали друг с другом и могли показаться простому обывателю лишь слоняющимися по улицам, скверам и бульварам шалопаями; впервые они дружно заявили о себе 6 февраля того года. Они совершили «поход на Бурбонский дворец» (здание парламента), собравшись в количестве около 30 тыс. человек, но были остановлены огнем на площади Согласия, потеряв несколько человек убитыми. Событие произошло в тот самый день, когда новый премьер Даладье получил вотум доверия под крики с улицы: «Долой воров!», «Депутатов в Сену!». Встревоженные попыткой фашистского мятежа, тысячи парижан вышли на демонстрации. Но не прошло и суток, как правительство подало в отставку.
Волна антифашистских манифестаций прокатилась по всем крупным городам страны и увенчалась генеральной забастовкой, объявленной 12 февраля профсоюзами. В эти дни широко известным стало имя графа де Ла Рока, выдвинувшегося в лидеры одной из самых крупных фашистских лиг «Огненные кресты». Она возникла в 1927 г. как военизированная организация бывших фронтовиков, ее борьба против республиканских институтов и монархические лозунги не встречали активной поддержки в стране, разве что со стороны представителей крупного бизнеса (промышленных магнатов Коти и Мерсье), которых не смущало то, что соратники графа-полковника разливались в филиппиках против богачей и коррупционеров[85 - История Франции. Т. 3. М.: Наука. 1973, с. 151–153.].
Потерпев провал во Франции, «Огненные кресты» направили острие своей деятельности в Алжир, где нашли благодатную почву для нее среди изрядной части европейских поселенцев и пытались проникнуть в Тунис.
Между тем с октября 1930 г. центральным печатным органом САЗ являлась франкоязычная газета «El Oumma» («Нация»), резко увеличившая свой тираж в 1932–1934 гг. (с 12 тыс. до 40–44 тыс. экземпляров). В 1937 г. она выходила как орган ПАН и была запрещена осенью того же года.
Уместно сказать, что в 1936 г. сенатор Морис Виолетт, бывший генерал-губернатор Алжира, предложил дополнительно снять ограничения на натурализацию алжирцев, которая доселе распространялась на ветеранов Первой мировой войны, а также на «туземных избранников», но все равно оставалась бы выборочной. Этот проект, поддержанный главой правительства Народного фронта Леоном Блюмом и получивший название «План Блюма-Виолетта», не был реализован, ибо встретил отрицательную реакцию как со стороны твердолобых колониалистов, так и со стороны представителей радикального крыла алжирского национализма: Ассоциации «улемов-реформаторов» и Партии алжирского народа (ПАН). Напомним, что ее основатель Мессали Хадж был арестован в 1937 г. Сначала узник мрачной алжирской тюрьмы «Форт-Барбаросса», потом ссыльный, он не стал сотрудничать с немцами ни во время Второй мировой войны, ни в ее преддверии, но часть членов его партии, возможно, это делала.
В 1947 г. из Партии алжирского народа вышла группа Имара Амаша (бывшего генсека САЗ), которая принялась разоблачать Мессали Хаджа как «нового идола». В ответ он изобразил Амара Имаша и его друзей «пронацистами» (некоторые из них, действительно, в 19401943 гг. рассчитывали на помощь Германии)[86 - Ланда Р.Г. История Алжира. XX век. С. 101.].
Глава 4
Алжир во время Второй мировой войны и в 1945–1954 годы
Начавшаяся 1 сентября 1939 г. Вторая мировая война привела, как известно, к капитуляции Франции. 14 июня 1940 г. немцы вступили в Париж, и в тот же день «министерский караван», т. е. кортеж правительственных машин, прибыл в Бордо. Наконец, 21 июня в Компьенском лесу под Парижем французская и немецкая делегации подписали договор о перемирии, согласно которому 2/3 территории Франции подлежали оккупации, остальная треть со столицей в курортном городке Виши оставалась формально независимой, а на самом деле была превращена в протекторат Германии. Вишистское правительство во главе с маршалом Петэном сохранило в колониальных владениях Франции ограниченный воинский контингент и корабли, пришвартованные в таких крупных портах, как сенегальский Дакар, алжирский Мерс-эль-Кебир[87 - 3-6 июля 1940 г. эта часть флота была уничтожена англичанами, которые опасались, что порт и корабли попадут в руки немцев.] и тунисская Бизерта.
4.1. Алжир под властью Виши
В алжирском концлагере Ламбез и столичной тюрьме «Квадратный дом» томились сотни коммунистов, арестованных во Франции или в Алжире; несладко пришлось и алжирским евреям, лишенным французского гражданства и в одночасье ставшим апатридами[88 - Одним из первых нововведений правительства Виши стала отмена 7 октября 1940 г. «декрета Кремье» и его замена «законом Пейрутона», который приравнивал североафриканских евреев к мусульманам. Между тем евреи, которых усердно преследовала вишистская полиция, составляли во Франции около 0,7 % населения, а в Алжире – 14 %, и там они стали самой уязвимой категорией «туземцев». (Julien Ch.-A. L’Afrique du Nord en marche. Vol. 2, р. 407).]. Жесткие репрессии обрушились на ПАН. 4 октября 1939 г. Ахмед Мессали Xадж и 28 его сподвижников оказались в тюрьме, а в конце того года были произведены массовые аресты активистов партии. Между тем Фархат Аббас и Мухаммед Бен Джаллул объявили о роспуске своей партии, а сами записались во французскую армию. Улемы-реформаторы замолчали.
4.2. Высадка союзников в Северной Африке
Перелом наступил в ночь с 7 на 8 ноября 1942 г., когда союзники совершили высадку в Северной Африке, названную операцией «Торч» («Факел»). Позывным для англо-американских кораблей служил сигнал «Роберт прибывает!», «Прибывает Роберт!». Имелся в виду Роберт Мэрфи, глава американской агентурной сети в Северной Африке, формально являвшийся генконсулом США в Алжире. Американские корабли шли напрямую, через Атлантический океан к марокканскому городу Касабланка[89 - О том, что бои там были нелегкими, свидетельствует рассказ Мэтью Риджуэя, будущего командующего (после войны) вооруженными силами США в районе Средиземного моря. Тогдашний командир дивизии ВДВ, он впервые увидел Касабланку через несколько месяцев после высадки там американского флота, и вот что он пишет: «В гавани до сих пор виднелись ржавеющие корпуса потопленных судов. Большие армейские грузовики, автомобили без двигателей, запряженные лошадьми, и повозки, запряженные ослами, машины, работающие на древесном угле. и, наконец, велосипеды – это смешение всех видов транспорта ошеломило нас». (Риджуэй М. Солдат. Пер. с англ. М.: Воен. изд-во Министерства обороны Союза ССР. 1958, С. 81).], английские – через пролив Гибралтар к городам Оран и Алжир. К английскому десанту присоединился небольшой отряд кораблей «Свободной Франции» под командованием генерала Анри Оноре Жиро. Однако операция «Торч» не стала молниеносной, так как 9 ноября возле столицы Туниса высадился немецкий воздушный десант, и таким образом открылся на полгода тунисский фронт[90 - О нем см.: Видясова М.Ф. Тунис. Маршрут в XXI век. С. 213–259.]. И лишь весной 1943 г. союзники смогли повернуть оружие на север, за Средиземное море.
Эйзенхауэр, чья ставка находилась в г. Алжир, «возглавлял войска, растянувшиеся почти на 2 тыс. километров от Касабланки. до фронта в Тунисе. Верные до этого правительству Виши французские колонии в Северной Африке, которые не затронула война, так как они были отделены Средиземным морем от Франции, теперь были ввергнуты в политический хаос вследствие вторжения союзных войск. Интриги Виши, волнения среди арабов и враждебность французов к англичанам – все это поставило перед союзниками ряд острых проблем, которые могли вызвать осложнения. В этом политическом хаосе Эйзенхауэр был для одних освободителем, а для других – захватчиком»[91 - Брэдли О. Записки солдата. Пер. с англ. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1957. С. 37.]. Так писал Омар Нельсон Брэдли, помощник Эйзенхауэра в начале 1943 г.
В Алжире репрессии приостановились, но обострились и противоречия между США и Францией в лице де Голля. Ведь его о готовящейся операции «Торч» даже не предупредили.
Следует остановиться на личности уже упомянутого генерала Жиро. Как известно, англо-американские союзники, ревниво относившиеся к растущему авторитету главы Французского национального комитета (ФНК) в Лондоне, де-юре признанного 3 июля 1942 г. английским правительством, выбрали именно Жиро, а не де Голля в качестве координатора действий французских соединений в ходе операции «Торч».
Анри-Оноре Жиро (1879–1949) – боевой генерал, уроженец Парижа и выпускник Сен-Сира, начал военную карьеру с 1900 г. младшим лейтенантом полка зуавов в Бизерте; участник Первой мировой войны и кампании в Рифе в Марокко снискал славу «бесшабашного смельчака». С января 1939 г. – член Высшего военного совета Франции, затем – командующий 7-й армией на линии Мажино и в Бельгии, совершивший отчаянно смелый побег из немецкого плена: крепость Кёнингштейн, сплетенная за долгие месяцы веревочная лестница, спуск по стене и ночные дороги, 100 тыс. марок, обещанных за его голову, и расстрел всякому, кто его укроет. Он слыл патриотом и, по словам одного военного историка, олицетворял собой идеальный образ французского генерала «от дубовых листьев [на кепи] до усов», но отклонил все приглашения де Голля перейти на его сторону.
Из средневековой немецкой крепости на р. Эльба, где он провел в заточении почти два года, Жиро бежал 17 апреля 1942 г., в день рождения Гитлера, воспользовавшись гулянкой охраны. С фальшивыми документами добрался до Эльзаса, оттуда в Швейцарию и вскоре объявился в Виши, где Лаваль и Дарлан[92 - Он родился на юге Франции, окончил мореходное училище, во время Первой мировой войны служил в палубной артиллерии, с 1926 г. занимал высокий пост в морском министерстве, с 1939 г. – адмирал, с 20 июня 1940 г. – член кабинета министров маршала Ф. Петэна, с декабря того же года – глава нескольких министерств, считавшийся политическим наследником 86-летнего маршала. Яростный противник англичан «еще с Трафальгарского сражения, в котором погиб его прадед» (Churchill W The Second World War. Victory in Africa. London: Cassell. 1972, р. 211).] ни много ни мало уговаривали его вернуться в плен. Наличие этих документов подсказывало, что его побег, обросший легендами, был совершен не без помощи французского «2-ого бюро» (военная разведка), которое стало в то время «государством в государстве» и имело свои каналы взаимодействия с британской разведкой. В той же крепости с 1940 г. находились многие высшие французские офицеры, захваченные в Бельгии, большая группа из них была отпущена в 1941 г., когда Дарлан вел переговоры о так называемых Парижских протоколах, предполагавших крупные уступки Гитлеру в обмен на немецкие уступки; в частности, на освобождение военнопленных. Протоколы не были утверждены, но определенная категория военачальников получила свободу. Жиро в нее не попал.
Вырвавшись из плена, он поселился в уединенном месте на юге Франции, дав маршалу Петэну письменное заверение в своей лояльности ему и желании отдохнуть в тиши. Слегка его обманул, тайно поддерживая связь с небольшой «группой пяти» в Алжире, которую, в свою очередь, держал в поле зрения Роберт Мэрфи. Когда американские агенты связались с Жиро, чтобы вовлечь его в свой замысел, он поставил два условия: а) чтобы была предпринята одновременная высадка в Северной Африке и Южной Франции, а также в других странах Европы; б) чтобы ему было поручено общее командование объединенными французскими и американскими вооруженными силами. В итоге ушел на подводной лодке и только на скале Гибралтар с огорчением узнал, что командовать будет Эйзенхауэр.
В английской крепости его окружили высшие американские военачальники. Почти всю ночь с 7 на 8 ноября, которая была темна кромешной тьмой и поэтому задержала высадку до рассвета, они уламывали Жиро смириться с тем, что его не ждет роль Бонапарта, высадившегося с о-ва Эльба, или хотя бы маршала Фоша, закончившего войну 1914–1918 гг. Верховным главнокомандующим Антанты. Когда занялась заря и времени на пререкания уже не оставалось, он согласился стать «губернатором североафриканских провинций и главнокомандующим французскими силами в этом регионе». Переброшенный лишь к вечеру в Алжир, куда он добирался снова подводной лодкой, а затем самолетом, попавшим в бурю, генерал Жиро встретился с новой неприятностью в лице Дарлана, с которым пришлось разделить власть[93 - По завершении своей инспекционной поездки в Алжир Дарлан удалился было в Виши, но 5 ноября неожиданно вернулся из-за болезни проживавшего в Алжире взрослого сына, госпитализированного с подозрением на полиомиелит. Это сорвало надежду Мэрфи на то, что высадка десанта союзников здесь пройдет без осложнений. Ведь он уже обзавелся группой французских офицеров, готовых поддержать этот десант. Пришлось уговаривать Дарлана. Обыкновенный плут или слуга нечистой силы, тот почуял в ночь с 7 на 8 ноября, что идет англо-американская армада, и решил подороже себя продать: юлил перед Мэрфи, говорил, что ему надо связаться с Виши и, наконец, под утро согласился. Однако он уже успел распорядиться об аресте генерала Маста – командира оборонявшей город Алжир пехотной дивизии, который пустился в бега. Поэтому береговые батареи открыли огонь по приближавшимся английским судам. Бой закончился только к вечеру.]. Экс-адмиралу досталась гражданская, а генералу армии – военная и переданы в подчинение французские войска, находившиеся в Северо-Западной и Западной Африке, требовавшие перевооружения и реорганизации. В эти задачи он и погрузился. Но выстрелы, раздавшиеся под Рождество, когда пробил час Дарлана, опять все изменили[94 - 24 декабря 1942 г. его сразили два выстрела из пистолета. Убийца -20-летний студент-француз – был расстрелян на рассвете 26 декабря решением наспех созданного французского военного трибунала, заседавшего при закрытых дверях. Поспешность казни студента и отсутствие документов трибунала породили массу домыслов относительно того, был ли поступок студента его личным решением или результатом какого-то заговора.].
Генерал Жиро был назначен «гражданским и военным главнокомандующим» в Африке, получив вместе с этим странным титулом и слитную власть, вроде той, какой был облечен византийский экзарх (наместник императора в Равенне или в провинции Африка накануне арабского нашествия).
4.3. Конференция союзников в Касабланке
Тем временем между Лондоном и Вашингтоном готовился компромисс, и в январе 1943 г. – на конференции союзников в Касабланке – Жиро и де Голля заставили пожать друг другу руки. Вернувшись в Лондон с этой малоприятной для него встречи, последний рассказывал советскому послу: «Жиро считает Пейрутона, Буассона[95 - Генерал-губернатор Западной Африки.] и Ногеса[96 - Шарль Огюст Поль Ногес был в момент высадки союзников французским генеральным резидентом в Марокко и 48 часов держал оборону против американцев.] прекрасными людьми и не мешает Ногесу иметь шифросвязь с Петэном через своего представителя в Испании». В беседе с Жиро по ходу той же поездки в Касабланку генерал де Голль, – пишет с его слов А.Е. Богомолов, – «изложил свое мнение о форме объединения французских антигитлеровских сил. В ответ на это Жиро предложил повторить еще раз историю консульства во французской империи и предложил себя в качестве первого консула Франции. Де Голль сказал ему, что первый консул получил свое звание в свое время через плебисцит и что французским народом дано ему это звание за победы, которые он доставил Франции. За Жиро нет ни французского народа, ни побед»[97 - Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны 1941–1945. Документы и материалы в двух томах. (Министерство иностранных дел СССР). Т. 1. М.: Политиздат, 1983. С. 145.]. В записи беседы С.А. Лозовского, заместителя народного комиссара иностранных дел СССР, состоявшейся у него 8 марта 1943 г. со Шмитлейном, заместителем представителя Французского национального комитета (ФНК) в СССР, читаем: «На мой вопрос, что представлял собою в прошлом генерал Жиро, Шмитлейн ответил, что Жиро много лет провел в армии в Марокко. Это один из лучших и храбрых французских офицеров. Что же касается его политического лица, то еще в 1938 г. Даладье сказал о нем: «Это – фашист»»[98 - Советско-французские отношения. С. 155.]. Возможно, сотрудник миссии ФНК в сердцах преувеличивал, сославшись при этом на бывшего премьера Даладье[99 - Даладье подписал 29 сентября 1938 г. Мюнхенское соглашение.]. Сам же де Голль считал, что Жиро «безусловно хочет вести французские войска в бой с немцами, но политически он реакционен и беспомощен. Окружение Жиро – это фашиствующие элементы из кругов Петэна и 30 тыс. богатых колонистов Алжира» (из телеграммы А.Е. Богомолова[100 - Аккредитован при союзных правительствах в Лондоне.] в НКИД от 29 января 1943 г.)[101 - Советско-французские отношения. С. 399.].
На конференции союзников в Касабланке: генерал Жиро, Франклин Рузвельт, генерал де Голль, Уинстон Черчилль (слева направо). https://2k8r3p1401as2e1q7k14dguu-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/08/wertheim.jpg
4.4. Французский комитет национального освобождения в Алжире
Как бы то ни было, генерал Жиро, чьи достоинства военного специалиста никто не отрицал, все еще продолжал воображать себя Наполеоном и правил как мог в Алжире, а с 3 июня 1943 г. – после приезда сюда де Голля – становится сопредседателем новообразованного Французского комитета национального освобождения (ФКНО), оставив за собой командование Африканской французской армией. Ее готовили к участию в дальнейших военных действиях и срочно мобилизовали не только французов, которые и сами катились на призывные пункты, захватывая по дороге случайные грузовики, но и арабов, берберов и чернокожих жителей французских колоний[102 - Всего набралось для экспедиции вместе с экипажами авиации и восстановленного флота свыше 300 тыс. человек, кроме оставшихся на месте 150 тыс. пехотинцев в доукомплектованных охранных войсках и двух резервных бригад, подготовленных на случай их переброски в Индокитай (Де Голль Ш. Военные мемуары. Том 2. Единство 1942–1944 годы. Пер. с франц. М.: Изд-во иностр. лит-ры. 1960, С. 291).]. И как ни «коротка была шпага Франции в тот момент, когда союзники ринулись на штурм Европы!», и как ни ограничены были при «столь серьезных обстоятельствах» вооруженные силы Франции, «еще никогда ее армия не обладала такими высокими качествами. Возрождение ее было тем более замечательно, что она поднялась из бездны унижения»[103 - Там же. С. 286.]. При этом, надо заметить, первая крупная экспедиция, направленная французами в Италию, называлась 2-й Марокканской дивизией и в основном состояла из мусульман.
Двоевластие в ФКНО закончилось осенью 1943 г., когда соперничество между Жиро и де Голлем решилось в пользу последнего. Отважный, но малообразованный дуумвир будущего президента Франции, сам признававшийся, что «никогда не читал газет и не слушал радио», занялся чисто армейскими делами, а с апреля 1944 г. ушел в запас. Те, кому приходилось иметь с ним дело в Алжире, называли старого солдата «в политическом отношении ребенком». Без лишних экивоков высказался о широте его кругозора французский финансист Жан Моннэ, прибывший в Алжир из США с рекомендацией Рузвельта и написавший программную речь, которую Жиро произнес 14 марта 1943 г., заявив о своем намерении осуществить в Северной Африке «республиканскую реформу, основанную на свободном волеизъявлении народа», распахнуть тюрьмы и т. д. Эту речь высоко оценили Лондон и Вашингтон, назвав ее содержание «принципами Жиро». 18 марта он издал приказы, во многом отменяющие законодательство Виши. Между тем его спичрайтер в беседе с Мэрфи дал «экзарху» следующую характеристику: «Когда генерал смотрит на вас своими глазами фарфорового кота, он не понимает ровным счетом ничего»[104 - Цит. по: Севостьянов Г.Н., Уткин А.И. США и Франция в годы войны 1939–1945. М.: Наука, 1974. С. 193.].
Да и о торжестве гражданских свобод при Жиро говорить не приходится. Как сообщал Роже Гарро (представитель ФНК в СССР), к середине января 1943 г. в Северной Африке насчитывалось более 50 тыс. арестованных, «среди которых преобладают французы. В числе арестованных имеются, кроме того, [бывшие] члены интернациональных бригад в Испании, поляки, испанские республиканцы и т. д. Несмотря на заверения Рузвельта… арестованные до сих пор не освобождены. На днях генерал Жиро был вынужден заявить, что в настоящее время лишь составляются и проверяются списки арестованных. Более того, после убийства Дарлана в целях «обеспечения порядка» были произведены многочисленные аресты сторонников де Голля»[105 - Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны. Т. 1, с. 139.]. Не торопился Жиро и с ликвидацией вишистских установлений. По рекомендации уже покойного Дарлана[106 - По другим сведениям, это был Мэрфи. Но все телеграммы из Северной Африки шли за подписью Эйзенхауэра. (Шервурд Р. Рузвельт и Гопкинс глазами очевидца. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1958. С. 328–329).] он назначил 17 января 1943 г. генерал-губернатором Алжира Марселя Пейрутона – автора расистских законов Виши. До возвращения к своему ремеслу колониального администратора Сатрап (как его прозвали в Тунисе 1930-х годов)[107 - Видясова М.Ф. Тунис. Маршрут в XXI век. С. 98–126.] побывал послом в Бразилии и Аргентине, а еще раньше, с сентября 1940 по февраль 1941 г., занимал в кабинете Виши должность министра внутренних дел.
В этот период петэновское правительство, объявившее себя правительством «национальной революции», приняло серию реакционных постановлений, в том числе антисемитские декреты. Так называемый закон Пейрутона от 7 октября 1940 г., подписанный Петэном, имел прямое отношение к Северной Африке: алжирские евреи, напомним, автоматически получившие натурализацию в 1870 г. (по «закону Кремье»), были поголовно лишены французского гражданства. Следствием этого явились погромы в Константине и других алжирских городах. Вишистские чиновники усердствовали в разжигании конфликтов на почве юдофобии. Генерал Жиро специальным ордонансом от 18 марта 1943 г. подтвердил отмену «закона Кремье». Насколько он был самостоятелен в этом, как и в других своих решениях, сказать трудно. Его «министром внутренних дел» был Пейрутон, который занимал пост генерал-губернатора Алжира до 31 мая 1943 г.
Переехав из Лондона в Алжир, де Голль первым делом устранил Сатрапа, да и вообще в стране, вроде бы, повеяло воздухом свободы.
Портрет генерала Жоржа Катру https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ commons/a/ac/Georges_Catroux_1940.jpg https://commons.wikimedia.org/wiki/ File: Georges_Catroux_1940.jpg
Фархат Аббас, вернувшийся на родину по демобилизации в 1940 г., обратился вместе с Мухаммедом Бен Джаллулом и их сподвижниками двумя письмами от 20 и 22 декабря 1942 г. к новым властям Алжира, включая союзное командование, с предложением провести демократические реформы («Послание мусульманских представителей»). 31 марта 1943 г. они распространяют «Манифест алжирского народа» с изложением своих взглядов. 26 мая того же года вручают исполняющему обязанности (с июня 1943 г.)[108 - Julien Ch.-A. L’Afrique du Nord en marche. Vol. 2. P. 440.] генерал-губернатора Алжира Жоржу Катру[109 - Жорж Катру (1877–1969) родился в Лиможе, в семье кадрового офицера, окончил общевойсковое училище Сен-Сир. В Первую мировую служил командиром батальона алжирских стрелков. 5 октября 1915 г. был ранен и попал в немецкий плен, где познакомился с капитаном Шарлем де Голлем. Совершил три неудачные попытки побега из плена и был освобожден по окончании войны. Затем служил в составе французской военной миссии в Аравии, военным атташе в Стамбуле; участник Рифской войны. 29 января 1939 г. оставил военную службу и 20 августа того же года был назначен генерал-губернатором Индокитая. 25 июня 1940 г. снят с этого поста и в августе примкнул к движению «Свободная Франция» во главе с де Голлем. Находясь в Лондоне, провозгласил 8 июня 1941 г. независимость Сирии и Ливана. 25 июня вместе с союзными войсками, состоявшими из британских частей и батальона «Сражающейся Франции» прибыл на Ближний Восток, где стал Верховным комиссаром Леванта, т. е. Сирии и Ливана, настаивал на возвращении к формуле их договоров с Францией от 1936 г. (нереализованных) и в марте 1943 г. дал согласие на восстановление их конституций, отмененных в 1939 г. 3 июня 1943 г. становится членом ФКНО, совместив две должности: и. о. генерал-губернатора Алжира и главы комиссариата по координации мусульманских дел. Столкнувшись с менталитетом здешней поселенческой колонии, поражался «духу консерватизма», который десятилетиями проявляют «имущие классы в наших владениях». (Catroux G. Dans la bataille de la Mеditerranеe. Paris: Juillard, 1949. P. 432). Тем не менее он заявил 23 июня 1943 г., что «единство Франции и Алжира – догма», и считал тогда предпочтительным в этой стране симбиоз французов и мусульман. Источники: Dictionnaire biographique fran?ais contemporain. Paris: Pharos. 1950, р. 125–126; Ланда Р.Г. Кризис колониального режима в Алжире 1931–1954. М.: Наука. 1980, с. 115; Черкасов П.П. Агония империи. М.: Наука. 1979, с. 33–35.] «Дополнение к Манифесту», или «Проект реформ»[110 - Манифест подписали 56 человек, «Проект реформ» – 22 человека.], предлагавший самоопределение Алжира, освобождение всех политзаключенных, а после войны – проведение всеобщих выборов в Учредительное собрание, которое разработает конституцию автономного Алжира. Генерал Катру создал комиссию по изучению «Проекта реформ», который был удовлетворен лишь частично. Так, политзаключенные вышли на волю, свободно стала действовать АКП, которая взаимодействовала с ФКП, благо ее членов было много на территории Алжира (собственно, только там они и находились легально вплоть до освобождения Франции из-под немецкой оккупации).
Седьмого марта 1944 г. ФКНО издал ордонанс, который давал французское гражданство представителям алжирской элиты, имевшим заслуги перед Францией, а всему населению страны – право избирать 40 % муниципальных и генеральных советников. Большинство сторонников Фархата Аббаса согласилось с этой куцей реформой, но не он сам. Через неделю после издания ордонанса он создал ассоциацию «Друзья манифеста и свободы», а с 15 сентября 1944 г. выпускал газету «Egalitе» («Равенство»).
Ассоциация «Друзья манифеста и свободы» привлекла к себе «улемов-реформаторов» и членов Партии алжирского народа, требовала создания федерации автономного Алжира с «обновленной антиколониалистской Францией. Однако усиление радикального молодежного крыла в Партии алжирского народа привело к появлению антифранцузских лозунгов, против которых возражал Аббас, и вызвало раскол внутри новорожденной ассоциации. Резко выступил против пресловутого ордонанса глава «улемов-реформаторов» Башир аль-Ибрахими, назвав его «шагом к ассимиляции, который народ не примет никакой ценой»[111 - Julien Ch.-A. L’Afrique du Nord en marche. P. 444.].
Между тем позиция почти всех французов, даже самых «либеральных» по отношению к тунисским, марокканским или алжирским патриотам, состояла в том, что пока не время думать о реформах: «нам надо еще защитить империю»[112 - Слова генерала Маста, французского генерального резидента в Тунисе, произнесенные в беседе с лидером партии Новый Дустур Хабибом Бургибой, просившем о реформах в своей стране (август 1944 г.).]. Де Голль выразил эту мысль с присущей ему яркостью речи: «Именно здесь, в Северной Африке, занялась заря французского обновления, именно Северная Африка стала для Франции средоточием ее сил и неиссякаемых надежд. Здесь возрождаются ее свободы. Здесь находится ее правительство, созданное для руководства войной. Здесь комплектуются первые части ее будущих армий». Так говорил он, выступая на площади Де Ла Бреш города Константина 12 декабря 1943 г. Эта его речь стала знаменитой, ибо в ней прозвучали слова: «Здесь, в Северной Африке, все население щедро проявило свою преданность Франции, и это. не только глубоко волнует Францию, но уже теперь ко многому ее обязывает. Да, именно обязывает, и в частности по отношению к мусульманскому населению Северной Африки. По соглашению с верховными правителями Марокко и Туниса и в соответствии с заключенными с ними договорами Франция обеспечила этим странам такой путь развития, по которому надо следовать, с каждым днем привлекая все больше и больше сторонников из числа лучших представителей местного населения.»[113 - Де Голль Ш. Военные мемуары. Т. 2. С. 653–654.].
Кто же они были с точки зрения де Голля и членов его окружения? Ордонансом от 17 сентября 1943 г. в Алжире учреждалась временная Консультативная ассамблея, на которую возлагалась задача «наиболее полно, насколько это позволяют существующие условия, выражать национальное общественное мнение». В нее вошли 52 представителя организаций Сопротивления, действовавших в метрополии и за ее пределами, 20 членов парламента бывшей Третьей республики, 12 представителей генеральных советов Алжира, в том числе Мухаммед Бен Джаллул (остальные – французы), а также дополнительные делегаты. Среди них пять от Алжира, три от Марокко и два делегата от Туниса[114 - Там же, с. 641–643.]. Это крупный землевладелец и умеренный националист Тахар Бен Аммар и одиозный деятель правого крыла «колонистской партии» Казабьянка.
В августе 1944 г. Париж был освобожден, и в него переехало Временное правительство Франции (бывший ФКНО), а в Алжире 9 сентября Жорж Катру, который готовился к отъезду послом в Москву, был заменен на «полномочного посланника» Ива Шатеньо, сугубо гражданское лицо. Социалист, дипломированный историк, он часто бывал на Ближнем Востоке и, по словам Жюльена, симпатизировал мусульманам, имея среди них много личных друзей. Твердолобые колонисты увидели в нем угрозу и наградили его прозвищем Шатеньо Бен Мухаммед[115 - Julien Ch.-A. L’Afrique du Nord en marche…Vol. 2, р. 451–452.].
4.5. Восстание в Кабилии 8 мая 1945 года
Однако ему было не суждено полностью проявить себя в качестве «либерального губернатора». Вторая мировая война закончилась в Алжире трагическим эпизодом, так называемой Сетифской резней. 8 мая 1945 г., когда почти весь мир праздновал День Победы, в Сётифе вспыхнули беспорядки, тотчас охватившие соседние деревни. Первоначально столкновения мусульман с европейцами унесли почти сто человеческих жизней, но в ходе широкой карательной операции погибли 6–8 тыс. человек. (Официальные данные). Приводились и более высокие цифры, ибо восстание длилось до конца мая и в той или иной мере охватило все департаменты Алжира.
События развивались следующим образом. 8 мая местные власти разрешили мусульманам Сётифа провести демонстрацию, но те вместо ожидаемых лозунгов во славу победы над гитлеризмом вооружились плакатами с надписями: «Да здравствует независимый Алжир!», «Долой колониализм!», «Свободу Мессали!», а иногда и «Долой компартию!». Полицейские пытались вырвать из рук демонстрантов эти плакаты, а один из них сделал выстрел. Большая часть толпы разбежалась, но самые упорные вступили в схватку с полицией, потом беспорядочно ринулись на улицы города, убивая или калеча ножами, топорами и тому подобными предметами случайных прохожих-европейцев. Так лишился обеих рук секретарь городской коммунистической ячейки. Убитых же в тот день было 27–29 человек. Но стоило спуститься ночи, как в город и его окрестности стеклись разбойные банды, объявившие обманным путем, что в городе Алжир уже воцарилось «арабское правительство». Нападая в основном на публичные здания и убивая чиновников, они не гнушались грабежом и насилием над женщинами. В итоге число убитых достигло 98, раненых – 150[116 - Ibid. Vol. 2, р. 453–454.].
Ответ центральных властей Алжира был жестоким и безжалостным. Хотя не более 5 % мусульманского населения департамента Константина приняли участие в беспорядках, на Кабилию обрушился град авиаударов, а в ее прибрежной части – корабельных залпов. Жителей деревень, зачастую совершенно невинных, каратели хватали и расстреливали без суда и следствия.
Под следствием военных трибуналов в ноябре 1945 г. оказались 4560 человек, в том числе 3696 – из департамента Константина, 505 – из департамента Оран и 359 – из департамента Алжир. В итоге были вынесены 1307 приговоров (99 смертных)[117 - Ibid. P. 455.].
Ассоциация «Друзья манифеста и свободы» была 15 мая запрещена. Фархат Аббас и его друзья были арестованы как возмутители беспорядков, хотя это была напраслина; их дело быстро развалилось. Причины же возникновения мятежа объясняли по-разному: то ли происки фашистов, то ли стихийный голодный бунт, то ли плохо спланированная и крайне неуместная по времени акция Партии алжирского народа. Однако все историки сходятся во мнении, что данное событие посеяло семена Революции 1 ноября 1954 г. или послужило ее «генеральной репетицией».
Выйдя на свободу, Фархат Аббас основал в марте 1946 г. Демократический союз алжирского манифеста (ДСАМ)[118 - Используют также французскую аббревиатуру UDMA/УДМА (Например: Ланда Р.Г. История Алжира. XX век. С. 99).] и вновь стал лидером борьбы за автономию Алжира. 2 июня того года ДСАМ завоевал 11 из 13 отведенных Алжиру мест в Учредительном собрании Франции. По окончании его работы (ноябрь 1946 г.) Фархат Аббас стал членом Собрания Французского союза (непрочный аналог Британского содружества наций). Однако отказ Учредительного собрания Франции принять законопроект об автономии Алжира вызвал разочарование алжирцев в ДСАМ, и хотя Аббас решил преобразовать его в партию, ДСАМ редел, потеряв 4 тыс. из первоначальных 7 тыс. своих активистов.
Политическое лидерство переходило к Движению за торжество демократических свобод (ДТДС)[119 - Используют также французскую аббревиатуру MTLD/МТЛД (Там же, с. 99).], основанное в ноябре 1946 г. Мессали Xаджем на базе довоенной Партии алжирского народа. Однако и он, возвратившись на родину в октябре 1946 г.[120 - Ему не разрешили, однако, поселиться в каком-либо крупном городе, и он обосновался в местечке Бузареа, где и устроил свою штаб-квартиру. (Julien Ch.-A. L’Afrique du Nord en marche. Vol. 2. P. 469). В 1952 г. был выслан во Францию.], нашел в ПАН подросших «молодых львов» и не смог удержать ДТДС от развала. Летом 1954 г. Движение за торжество демократических свобод раскололось на две фракции: «мессалистов» и «централистов», т. е. сторонников Мессали Хаджа и сторонников ЦК ДТДС, соответственно. Кипевшая и раньше между ними жестокая борьба «фактически парализовала главную силу алжирского национально-освободительного движения»[121 - Ланда Р.Г. История Алжирекой революции 1954–1962. М.: Наука, 1983. С. 35.].
Наиболее действенной оказалась подпольная Специальная организация (OS/ОС), «второе дно» Партии алжирского народа и, соответственно, ДСАМ, занимавшаяся террористической деятельностью; из нее-то и вырастет авангард восстания.
4.6. «Органический статут» Алжира
Национальное собрание Франции долго обсуждало этот «статут» и, наконец, 20 сентября 1947 г. приняло один из четырех предложенных вариантов. Согласно ему, признавалась автономия Алжира в рамках Французского союза на правах ассоциированного члена, причем законодательная власть в этой стране делегировалась парламенту, избираемому всеобщим голосованием[122 - Julien Ch.-A. L'Afrique du Nord en marche. Vol. 2, р. 472–505.]. Оно прошло в апреле 1948 г. двумя турами, а результаты его были грубо сфальсифицированы. В итоге избранными оказались всего 18 алжирцев: 9 представителей ДТДС, 8 – ДСАМ и один – АКП[123 - Ланда Р.Г. История Алжира. XX век. С. 101.].
Глава 5
Революция 1 ноября. Разгул ненависти и террора
О девица! Подай нам выпить,
Бочку целую открой, здесь парашютисты.
Ведь дорога дальняя, а ночь темным-темна.
И завтра нам в большой прыжок.
Ох! О! Хо! Ох! О! Хо!
Мы не терпим ни унылых, ни шутов,
Воевать в двадцать лет – так хорошо!
Куплеты французских парашютистов[124 - Boisseau Ph. Les loups sont entrеs dans Bizerte, rеcit vеcu. Paris: FranceEmpire. 1998, р. 36–37]