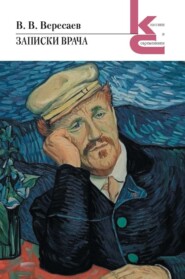скачать книгу бесплатно
Записки врача
Викентий Викентьевич Вересаев
Классики и современники
Викентий Вересаев – врач, замечательный писатель и переводчик. После выхода в свет «Записок врача», автобиографической повести, которая была опубликована в 1901 году, к автору пришла известность. Книга вызвала жаркие споры и целую бурю негодования у известной части критиков, возмущенных откровенностью, с которой Вересаев показывает изнанку профессии. Переживания начинающего свою деятельность врача. Трудности, доводившие его до отчаяния, несоответствие между тем, к чему его готовили, и тем, что он увидел в жизни, мучительный страх ошибки, которая может погубить ни в чем неповинного пациента, опасные и морально сомнительные, но необходимые эксперименты на людях в поисках новых методов лечения, вечная беда России – страсть к самолечению и «лечению», как сказали бы сейчас, «нетрадиционными» методами, – обо всех этих серьезных проблемах и вопросах, возникающих на пути каждого врача, автор делится с читателями, давая понять, что врачи такие же люди, которым свойственны сомнение и неуверенность, страх и отчаяние.
Викентий Викентьевич Вересаев
Записки врача
© Оформление А. О. Муравенко, 2022
© Издательство «Художественная литература», 2022
Слово и дело писателя Викентия Вересаева
В 2022 году исполняется 155 лет со дня рождения Викентия Вересаева (1867–1945). Этот замечательный писатель, поэт, переводчик и литературовед оставил значительный след в русской литературе.
Родился Викентий Вересаев, биография которого связана с двумя призваниями: врача и литератора, 4 января 1867 года в Туле. Родословная Смидовичей (а это настоящая фамилия писателя), очень многонациональна. Родителями матери были миргородский украинец и гречанка, по отцовской линии в роду имелись немцы и поляки. По семейной легенде, когда-то давно предки Смидовичей спасли на охоте жизнь польскому королю, за что получили дворянское звание, а в фамильном гербе в честь того события появилось изображение охотничьего рога. В 1830-х годах после восстания, случившегося в Польше, Смидовичи перебрались сначала на Украину, потом в Тулу.
Отец будущего писателя был детским врачом, основал первую в Туле городскую больницу, стал инициатором создания санитарной комиссии в городе, стоял у истоков Тульского общества врачей. Мать Викентия, Елизавета Павловна, довольно хорошо образованная дворянка, придерживаясь прогрессивных взглядов, вела активную общественную деятельность: она первая в городе открыла в своем доме детский сад, а затем и начальную школу. Вообще семью Смидовичей хорошо знали в Туле. Родились у пары одиннадцать детей, трое из них умерли еще в детстве. Все дети получили прекрасное образование, в доме постоянно бывали представители местной интеллигенции, велись беседы об искусстве, политике, судьбе страны. Викентий Игнатьевич, отец будущего писателя, был всесторонне образованным человеком. Дома у него находились хорошо оборудованные химическая и бактериологическая лаборатории, он владел ценной минералогической коллекцией, на протяжении многих лет регулярно вел метеорологические наблюдения, написал несколько работ по статистике.
Впоследствии Вересаев вспоминал о своем детстве: «Семья наша была большая (8 человек детей, с умершими в детстве – 11, я – второй по счету) и очень “удачная”. Отношение к детям было мягкое и любовное, наказаний мы почти не знали. Воспитывались в строго религиозном, православном духе, постились сплошь все посты и каждую среду и пятницу. Жили очень замкнуто, в гости ходили редко, только на святках и на пасхе. У отца был свой дом на Верхне-Дворянской улице, и при нем большой сад. Этот сад был для нас огромным, разнообразным миром, с ним у меня связаны самые светлые и поэтические впечатления детства. Летом мы жили в деревне у дяди-помещика». Став подростком, Викентий каждое лето активно помогал семье, работая наравне с крестьянами: косил, пахал, возил сено, поэтому тяжесть сельскохозяйственных работ знал не понаслышке.
Влияние родителей, особенно отца, на будущего писателя было весьма значительным, о чем он сам впоследствии не раз говорил. Вересаев много читал, в младшем возрасте предпочитал приключенческие романы Майн Рида и Густава Эмара. Однако уже в годы учебы в Тульской гимназии у мальчика наметилось несколько критическое отношение к отцовскому авторитету. На смену увлечению Майн Ридом и Густавом Эмаром приходит интерес к Добролюбову, Миллю, Писареву, чему отец, – по свидетельству самого Вересаева, – очень не сочувствовал. В это время отношения с отцом стали напряженными, так как тот не одобрял увлечений сына и тяжело переживал его отказ ходить в церковь.
У маленького Викентия были очень хорошие природные гуманитарные задатки: отличная память, интерес к языкам и истории. В гимназии он учился прилежно и каждый класс заканчивал с наградой в числе первых учеников, особенных успехов достиг в знании древних языков и уже с 13 лет начал заниматься переводами. Окончил гимназию с серебряной медалью.
Окончив Тульскую классическую гимназию, Вересаев в 1884 году отправляется учиться в Петербургский университет, поступает на историко-филологический факультет. Здесь, в Петербурге, со всей самозабвенностью молодости отдается популярным тогда в студенческой среде народническим теориям, с ними связывает надежды на создание общества людей-братьев.
В то время ходила шутка, что больше всего писателей выпускают медицинские вузы. И как в оправдание этой шутке в 1888 году наполненный идеями народничества Викентий Вересаев поступает на медицинский факультет Дерптского (сейчас – Тарту, Эстония) университета. Молодой человек справедливо полагает, что профессия медика позволит ему «отправиться в народ» и принести ему пользу. На медицинском факультете
Смидович был одним из первых студентов: усердно занимался, в анатомичке не падал в обморок.
Однако, как впоследствии вспоминал писатель, «в начале восьмидесятых годов окончился героический поединок кучки народовольцев с огромным чудовищем самодержавия… Самодержавие справляло свою победу… Наступили черные восьмидесятые годы. Прежние пути революционной борьбы оказались не ведущими к цели, новых путей не намечалось. Народ безмолвствовал. В интеллигенции шел полный разброд». Настроение «бездорожья» охватило ее большую часть.
Под впечатлением угасания народнического движения В. Вересаеву начинает казаться, что надежд на социальные перемены нет, и он, еще недавно радовавшийся обретенному «смыслу жизни», разочаровывается во всякой политической борьбе. «…Веры в народ не было. Было только сознание огромной вины перед ним и стыд за свое привилегированное положение… Борьба представлялась величественною, привлекательною, но трагически бесплодною…» («Автобиография»). «Не было перед глазами никаких путей», – признавался писатель в мемуарах. Появляется даже мысль о самоубийстве.
В тихом Дерпте, вдали от революционных центров страны, провел он шесть лет, занимаясь наукой и литературным творчеством, по-прежнему охваченный мрачными настроениями.
На Вознесенских рудниках А. П. Карпова (Петровский район Донецка) служил техническим директором старший брат Викентия Вересаева – Михаил, окончивший Петербургский горный институт. К нему-то и приехал в 1890 году на летние каникулы студент-медик. К моменту приезда в Донбасс Вересаев уже был автором нескольких рассказов и стихотворений, отсюда понятно его гиперболизированное писательское любопытство, усиленный, обостренный интерес ко всему тому, что он увидел на шахте. Вересаев не раз спускался в забой, в это подземное царство кошмарного труда, подолгу бродил среди жалких лачуг, в которых ютились шахтерские семьи, часами следил за работой подростков, надрывавшихся выборкой «глея» из угля, прислушивался к разговорам шахтной интеллигенции.
Возвратясь в университет, Вересаев приступил к обработке богатого донбасского материала. К весне 1892 года закончил очерки о жизни горняков и послал их в «Книжки недели». Вскоре автор получил письмо, в котором редактор обещал их опубликовать в самое ближайшее время. И правда, «Подземное царство» было напечатано в шестом и седьмом номерах «Книжек недели» 1892 года. Почти одновременно с очерками в «Русские ведомости» была отправлена статья об антисанитарных условиях жизни донецких шахтеров.
В начале августа 1892 года Вересаев получает от брата письмо, в котором говорится о страшном «холерном бунте» в Юзовке, о разбушевавшейся эпидемии и о кровавом столкновении рабочих с казаками. Вересаев быстро собирается и отправляется на Вознесенские рудники, на которых был два года назад. Приезжает как врач, энергично берется за работу, требует от администрации постройки двух бараков для приема больных и очистки и дезинфекции выгребных ям и отхожих мест. Вересаев-врач заслуживает всяческое уважение и симпатии шахтеров. Двери глинобитного флигеля, в котором жил доктор, всегда были открыты для простых людей шахтерского городка.
Холера сдалась, и Смидович уже собрался уехать, когда в барак вбежал санитар Степан, взятый из горняков «…растерзанный, окровавленный. Он сообщил, что пьяные шахтеры избили его за то, что он “связался с докторами” и что они толпою идут сюда, чтобы убить меня. Бежать было некуда». Сейчас в этом месте проходит Водолечебная улица Донецка, и кругом возвышаются дома. А тогда до горизонта простиралась голая степь – не спрячешься. «Мы сидели со Степаном в ожидании толпы. Много за это время передумалось горького и тяжелого. Шахтеры не пришли: они задержались по дороге во встречном шинке и забыли о нас».
26 сентября 1892 года Вересаев записал в своем дневнике: «Холера кончилась. Холодный ветер бушует по степям и бешено гонит перекати-поле. На днях уезжаю. Увожу отсюда много драгоценных наблюдений, здоровое тело, сознание, что прожил эти два месяца не напрасно, и, кроме того, – помогай нахальство! – сознание, что я… хороший человек и могу делать дело».
С головой уходит студент В. Вересаев в занятия и пишет, пишет стихи, прочно замкнутые в круге личных тем и переживаний. Именно в это трудное время и начался его литературный путь.
Он честно написал потом в автобиографии: «Моей мечтою было стать писателем; а для этого представлялось необходимым знание биологической стороны человека, его физиологии и патологии». Как врач он тоже приобрел большую известность. Его «Записки врача», опубликованные в 1901 году и осуждающие эксперименты на людях, вызвали огромный резонанс в обществе. В этой исповеди отразились все основные черты творчества Вересаева: наблюдательность, беспокойный ум, искренность, независимость суждений. Заслугой писателя стало и то, что многие вопросы, над которыми бьется герой «Записок», рассматриваются им не только в сугубо медицинском, но и в этическом, социально-философском плане. Автобиографическая повесть честно освещала недостатки медицинского образования и тогдашней системы здравоохранения, особенно вопросы врачебной этики. Осудив жестокую практику медицинских экспериментов, Вересаев разделил общество на два лагеря: одни приписывали ему искажение фактов, другие хвалили его за смелость рассказать то, о чем все молчат.
Сам писатель впоследствии признал книгу слабой в литературном отношении, но социальная проблематика сделала ее очень популярной: только при жизни автора она выдержала 14 изданий на русском языке, а еще повесть перевели на английский, французский и немецкий языки. Медицинская практика еще не раз давала ему материал для творчества: Вересаев исполнял обязанности военного врача и на Русско-японской, и на Первой мировой войне. С началом Русско-японской войны Викентия Викентьевича как врача мобилизуют, и он становится младшим ординатором в полевом передвижном госпитале в Манчжурии. Впечатления того времени позже станут темой нескольких его произведений. Во время Первой мировой войны также был военным врачом в Коломне, занимался организацией работы московского военно-санитарного отряда. Но воспоминания о них (повесть «На японской войне») уже не смогли повторить шумного успеха «Записок врача».
Резонанс от гуманистического посыла «Записок врача» был столь велик, что царь вынужден был официально запретить в России опыты над людьми – это была первая большая победа и Вересаева-врача, и Вересаева-писателя, и Вересаева-общественного деятеля, а «Записки…» в течение двадцатого века еще не раз становились своеобразным знаменем реального, не идеалистического гуманизма.
Вскоре после этого Лев Толстой предложил Вересаеву стать его лечащим врачом, но Викентий Викентьевич посчитал, что не имеет права лечить такого гениального человека.
В 1894 году выпускник медицинского факультета приступил под руководством отца в Туле к медицинской деятельности. Но, повторюсь, все же Вересаев рассматривал профессию врача как ступень к тому, чтобы заниматься литературной деятельностью.
Через два года Вересаев переезжает в Санкт-Петербург, его приглашают как одного из лучших выпускников медицинского факультета на работу в Петербургскую барачную (будущую Боткинскую) больницу для острозаразных пациентов. Пять лет он работает там ординатором и заведующим библиотекой. В 1901 году отправляется в большое путешествие по России и Европе, много общается с ведущими литераторами того времени, наблюдает за жизнью людей. В 1903 году он переезжает в Москву, где намеревается посвятить себя литературе.
В. Вересаев одним из первых среди русских писателей поверил в революционеров-марксистов. «Безоговорочно становлюсь на сторону нового течения» – так писатель сформулировал в «Воспоминаниях» итоги своих исканий тех лет, определенно заявляя, что примкнул к марксистам. Из весьма достоверных мемуаров В. Вересаева и его автобиографии известно, что он помогал агитационной работе ленинского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»: в больничной библиотеке, которой он заведовал, был устроен склад нелегальных изданий, в его квартире «происходили собрания руководящей головки» организации, «печатались прокламации», в составлении которых он «сам принимал участие».
Близость В. Вересаева к революционному движению обращает на себя внимание властей. В апреле 1901 года у него на квартире производят обыск, его увольняют из больницы, а в июне постановлением министра внутренних дел ему запрещают в течение двух лет жить в столичных городах.
В. Вересаев уезжает в родную Тулу, где находится под надзором полиции. Но и там активно участвует в работе местной социал-демократической организации. Сближается с Тульским комитетом РСДРП, который возглавлялся врачом-хирургом П. В. Луначарским, братом А. В. Луначарского, и другими твердыми «искровцами», впоследствии, когда произошел раскол партии, ставшими большевиками. Ряд заседаний комитета проходил в доме В. Вересаева. Осенью 1902 года, как раз в период наиболее тесных контактов В. Вересаева с комитетом РСДРП, был выбран от Тулы делегатом на II съезд партии брат В. И. Ленина Д. И. Ульянов. Писатель помогал комитету деньгами, устраивал литературно-художественные вечера, денежные сборы от которых шли на революционную работу. Он активно участвует в подготовке первой рабочей демонстрации в Туле, произошедшей 14 сентября 1903 года. Написанную им по заданию комитета РСДРП прокламацию «Овцы и люди» разбрасывали во время демонстрации. В ней В. Вересаев писал: «Братья, великая война началась… На одной стороне стоит изнеженный благами, облитый русской кровью самодержец, прячась за нагайки и заряженные ружья… На другой стороне стоит закаленный в нужде рабочий с мускулистыми, мозолистыми руками… Царь земли тот, кто трудится… Мы не отступим, пока не завоюем себе свободы… Долой самодержавие! Да здравствует Социал-Демократическая Республика!»
Считается, что после революции 1905-го года Вересаев разочаровался в революционном движении как таковом, впечатленный присущим ей размахом насилия. Но после прихода Советской власти он остался в России и был более чем уместен в СССР. Вересаеву не нужно было как-то подстраивать свое творчество под новые реалии – как раз он всеми силами их приближал, и как медик, и как писатель. Перемены, происходившие в отечественной медицине, санитарии, пропаганде гигиены и диспансеризации не могли его не радовать. И пусть многое во внешней и внутренней политике СССР могло его не устраивать и он ушел во «внутреннюю эмиграцию», написание знаменитых биографических хроник Пушкина, его спутников, Гоголя, все же именно в медицине в те времена многое делалось «по Вересаеву», в результате чего сложилось то, что стало называться медициной советской.
И все же события 1917 года Вересаев воспринял неоднозначно. С одной стороны, он увидел силу, пробудившую народ, а с другой – стихию, «взрыв» подспудных темных начал в массах. Тем не менее Вересаев довольно активно сотрудничает с новой властью: становится председателем художественно-просветительской комиссии при Совете рабочих депутатов в Москве, с 1921 года работает в литературной подсекции Государственного ученого совета Наркомпроса, а также является редактором художественного отдела журнала «Красная новь». Вскоре его избирают председателем Всероссийского союза писателей.
Осенью 1918 года, когда в Москве стало голодно, Вересаев уехал в Крым, на свою коктебельскую дачу, чтобы переждать скудные времена на хлебном Юге. Но не тут-то было: Крым переходил из рук в руки и периодически оказывался в полной блокаде. Исчезло горючее, электричество, сено, продукты и промтовары. В Коктебеле не было врача, и молва о великолепном докторе разошлась по всей округе. Нуждающиеся в лечении коктебельцы и дачники потянулись к известной вересаевской даче, хотя Вересаев и брал с каждого лечащегося слово: никому не говорить, что он врач.
Писатель кормился врачебной практикой, взимая плату яйцами и овощами. В свои пятьдесят он объезжал пациентов на велосипеде, при этом из одежды на нем была только ночная рубашка, подаренная Ильей Эренбургом: «…Викентию Викентьевичу было трудно; несколько поддерживала его врачебная практика… В окрестных деревнях свирепствовал сыпняк… Платили ему яйцами или салом. Был у него велосипед, а вот одежда сносилась. У меня оказался странный предмет – ночная рубашка доктора Козинцева, подаренная мне еще в Киеве. Мы ее поднесли Викентию Викентьевичу, в ней на велосипеде он объезжал больных…»
Самый известный свой уже послереволюционный роман «В тупике» Вересаев пишет в 1921 году, сильно сомневаясь в возможности его напечатать. История публикации сама по себе любопытна и заслуживает отдельного рассказа. Вересаев читает роман в декабре 1922 года в Кремле, в присутствии почти всего Совнаркома – слушали Каменев, Дзержинский, Сталин, Куйбышев и другие, – читает, по его собственным воспоминаниям, очень неудачно. Писатель рассчитывал самые неприятные для «красных» сцены поместить вперед, а ближе к концу чтения – те, что могли бы тепло быть восприняты властями. Вересаев в романе описывал зверства белых и красных. Закончилось чтение на главе, в которой положительная героиня бросает своему бывшему другу-коммунисту: «Когда вас свергнут, когда вы даже сами сгинете на месте от своей бездарности и бессмысленной жестокости, – и тогда… всё вам простят! Что хотите, делайте, омохнатьтесь до полной потери человеческого подобия, – всё простят! И даже ничему не захотят верить… Где же, где же справедливость!» Расчет не оправдался: Каменев стал торопить писателя и попросил закончить на середине чтения. Вопреки ожиданиям, Вересаев затем узнал, что роман разрешено опубликовать. Впрочем, каждое следующее издание романа (всего он выдержит семь) будет проходить через цензурные мытарства.
Последним выступил Дзержинский: «Вересаев… очень точно, правдиво и объективно рисует как ту интеллигенцию, которая пошла с нами, так и ту, которая пошла против нас. Что касается упрека, что он будто бы клевещет на ЧК, то, товарищи, между нами – то ли еще бывало!»
За ужином Дзержинский сидел рядом с Вересаевым и совершенно очаровал его. Он сказал, что бойня, которую устроили в Крыму Пятаков, Землячка и Бела Кун, – это ошибка, перегиб и превышение полномочий.
Впоследствии, однако, никаких «оргвыводов» не последовало. Почему так случилось? Может быть, неизвестная реакция Сталина или родство с Петром Смидовичем, занимавшим высокий пост в руководстве страны? Вересаеву повезло. Еще ранее его несколько раз мельком похвалил Ленин, и этого оказалось достаточным, чтобы писателя не трогали. Да он особо и не выпячивал себя в опасные годы. Тридцатые и сороковые – литературно-исследовательская работа над «Пушкиным» и «Гоголем», занятия античностью. В 1937 году Вересаев начинает огромную работу по переводу «Илиады» и «Одиссеи» Гомера (более 28000 стихов), которую завершает уже через четыре с половиной года. Перевод, близкий духу и языку подлинника, был признан знатоками серьезным достижением автора. Изданы переводы уже после смерти писателя: «Илиада» – в 1949 году, а «Одиссея» – в 1953 году.
В 1939 году Вересаева наградили Орденом Трудового Красного Знамени. Официально награда была вручена по совокупности заслуг писателя перед русской литературой, однако подоплекой ее было еще и желание советского правительства еще раз напомнить миру о великом гуманитарном почине «Записок врача» с их борьбой против экспериментов над человеком – мир в это время начинал узнавать о зверствах нацистов… Все-таки руководство страны благоволило к патриарху современной литературы.
В последние годы жизни Викентий Вересаев создает в основном произведения мемуарных жанров: «Невыдуманные рассказы», «Воспоминания» (о детстве и студенческих годах, о встречах с Л. Толстым, Чеховым, Короленко, Л. Андреевым и др.), «Записи для себя» (по словам автора, это «нечто вроде записной книжки, куда входят афоризмы, отрывки из воспоминаний, различные записи интересных эпизодов»). В них отчетливо проявилась та «связанность с жизнью», к которой Вересаев всегда тяготел в своем творчестве. В предисловии к «Невыдуманным рассказам о прошлом» он писал: «С каждым годом мне все менее интересными становятся романы, повести и все интереснее – живые рассказы о действительно бывшем…» Вересаев стал одним из родоначальников жанра «невыдуманных» рассказов-миниатюр в советской прозе.
Вересаев был женат на троюродной сестре Марии Гермогеновне Смидович. Детей у пары не было.
С началом Второй мировой войны уже пожилого писателя эвакуируют в Тбилиси. В 1943 году ему присвоили Сталинскую премию первой степени. Викентий Викентьевич успел увидеть победу СССР в войне и скончался 3 июня 1945 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище. В честь писателя названа красивая улица в Москве. С 2016 года славное имя большого русского писателя-медика носит и бывшая клиническая больница № 81.
Записки врача
Я кончил курс на медицинском факультете семь лет назад. Из этого читатель может видеть, чего он вправе ждать от моих записок. Записки мои – это не записки старого, опытного врача, подводящего итоги своим долгим наблюдениям и размышлениям, выработавшего определенные ответы на все сложные вопросы врачебной науки, этики и профессии; это также не записки врача-философа, глубоко проникшего в суть науки и вполне овладевшего ею. Я – обыкновеннейший средний врач, со средним умом и средними знаниями; я сам путаюсь в противоречиях, я решительно не в силах разрешить многие из тех тяжелых, настоятельно требующих решения вопросов, которые возникают предо мною на каждом шагу. Единственное мое преимущество, – что я еще не успел стать человеком профессии и что для меня еще ярки и сильны те впечатления, к которым со временем невольно привыкаешь. Я буду писать о том, что испытывал, знакомясь с медициной, чего я ждал от нее и что она мне дала, буду писать о своих первых самостоятельных шагах на врачебном поприще и о впечатлениях, вынесенных мною из моей практики. Постараюсь писать все, ничего не утаивая, и постараюсь писать искренне.
I
Я учился в гимназии хорошо, но, как и большинство моих товарищей, науку гимназическую презирал до глубины души. Наука эта была для меня тяжелою и неприятною повинностью, которую для чего-то необходимо было отбыть, но которая сама по себе не представляла для меня решительно никакого интереса; что мне было до того, в каком веке написано «Слово Даниила Заточника», чей сын был Оттон Великий и как будет страдательный залог от «persuadeo tibi»?[1 - уверяю тебя (лат.).]
Развитие мое шло помимо школы, помимо школы приобретались и интересовавшие меня знания.
Все это резко изменилось, когда я поступил в университет. На первых двух курсах медицинского факультета читаются теоретические естественнонаучные предметы – химия, физика, ботаника, зоология, анатомия, физиология. Эти науки давали знание настолько для меня новое и настолько важное, что совершенно завладели мною: все вокруг меня и во мне самом, на что я раньше смотрел глазами дикаря, теперь становилось ясным и понятным, и меня удивляло, как я мог дожить до двадцати лет, ничем этим не интересуясь и ничего не зная. Каждый день, каждая лекция несли с собою новые для меня «открытия». Я был поражен, узнав, что мясо, то самое мясо, которое я ем в виде бифштекса и котлет, и есть те таинственные «мускулы», которые мне представлялись в виде каких-то клубков сероватых нитей; я раньше думал, что из желудка твердая пища идет в кишки, а жидкая – в почки; мне казалось, что грудь при дыхании расширяется оттого, что в нее какою-то непонятною силою вводится воздух; я знал о законах сохранения материи и энергии, но в душе совершенно не верил в них. Впоследствии мне пришлось убедиться, что и большинство людей имеет не менее младенческое представление обо всем, что находится перед их глазами, и это их не тяготит. Они покраснеют от стыда, если не сумеют ответить, в каком веке жил Людовик XIV, но легко сознаются в незнании того, что такое угар и отчего светится в темноте фосфор.
Что касается анатомии, то часто приходится слышать, какою тяжелою и неприятною стороною ее изучения является необходимость препарировать трупы. Действительно, некоторые из товарищей довольно долго не могли привыкнуть к виду анатомического театра, наполненного ободранными трупами с мутными глазами, оскаленными зубами и скрюченными пальцами; одному товарищу пришлось даже перейти из-за этого на другой факультет – он стал страдать галлюцинациями, и ему казалось по ночам, что из всех углов комнаты к нему ползут окровавленные руки, ноги и головы. Но лично я привык к трупам довольно скоро и с увлечением просиживал целые часы за препаровкою, раскрывавшею передо мною все тайны человеческого тела. В течение семи-восьми месяцев я ревностно занимался анатомией, целиком отдавшись ей, – и на это время взгляд мой на человека как-то удивительно упростился. Я шел по улице, следя за идущим передо мною прохожим, и он был для меня не более, как живым трупом: вот теперь у него сократился glutaeus maximus, теперь – quadriceps femoris; эта выпуклость на шее обусловлена мускулом sternocleidomastoideus; он наклонился, чтобы поднять упавшую тросточку, – это сократились musculi recti abdominis и потянули к тазу грудную клетку. Близкие, дорогие мне люди стали в моих глазах как-то двоиться; эта девушка, – в ней столько оригинального и славного, от ее присутствия на душе становится хорошо и светло, а между тем все, составляющее ее, мне хорошо известно, и ничего в ней нет особенного, на ее мозге те же извилины, что и на сотнях виденных мною мозгов, мускулы ее так же насквозь пропитаны жиром, который делает столь неприятным препарирование женских трупов, и вообще в ней нет решительно ничего привлекательного и поэтического.
Еще более сильное впечатление, чем предлагаемые знания, произвел на меня метод, царивший в этих знаниях. Он вел вперед осторожно и неуклонно, не оставляя без тщательной проверки самой ничтожной мелочи, строго контролируя каждый шаг опытом и наблюдением – и то, что в этом пути было пройдено, было пройдено окончательно, возможности не было, что придется воротиться назад. Метод этот так обаятельно действовал на ум потому, что являлся не в виде школьных правил отвлеченной логики, а с необходимостью вытекал из самой сути дела: каждый факт, каждое объяснение факта как будто сами собою твердили золотые слова Бэкона: «non fingendum aut excogitandum, sed inveniendum, quid natura faciat aut ferat», – «не выдумывать, не измышлять, а искать, что делает и несет с собою природа». Можно было не знать даже о существовании логики, – сама наука заставила бы усвоить свой метод успешнее, чем самый обстоятельный трактат о методах; она настолько воспитывала ум, что всякое уклонение от прямого пути в ней же самой, – вроде «непрерывной зародышевой плазмы» Вейсмана или теорий зрения, – прямо резало глаза своею ненаучностью.
На втором курсе подготовительные, теоретические предметы закончились. Я сдал полулекарский экзамен. Начались занятия в клиниках.
Здесь характер получаемых знаний резко изменился. Вместо отвлеченной науки на первый план выдвинулся живой человек; теории воспаления, микроскопические препараты опухолей и бактерий сменились подлинными язвами и ранами. Больные, искалеченные, страдающие люди бесконечною вереницею потянулись перед глазами; легких больных в клиники не принимают, – всё это были страдания тяжелые, серьезные. Их обилие и разнообразие произвели на меня ошеломляющее действие, меня поразило, какая существует масса страданий, какое разнообразие самых утонченных, невероятных мук заготовила нам природа, – мук, при одном взгляде на которые на душе становилось жутко.
Вскоре после начала клинических занятий в клинику старших курсов был положен огородник, заболевший столбняком. Мы ходили смотреть его. В палате стояла тишина. Больной был мужик громадного роста, плотный и мускулистый, с загорелым лицом; весь облитый потом, с губами, перекошенными от безумной боли, он лежал на спине, ворочая глазами; при малейшем шуме, при звонке конки на улице или стуке двери внизу больной начинал медленно выгибаться: затылок его сводило назад, челюсти судорожно впивались одна в другую, так что зубы трещали, и страшная, длительная судорога спинных мышц приподнимала его тело с постели; от головы во все стороны расходилось по подушке мокрое пятно от пота. Две недели назад больной работал босиком на огороде и занозил себе большой палец ноги; эта пустячная заноза вызвала то, что я теперь видел.
Ужасно было не только то, что существуют подобные муки; еще ужаснее было то, как легко они приобретаются, как мало гарантирован от них самый здоровый человек. Две недели назад всякий бы позавидовал богатырскому здоровью этого самого огородника… Шел по двору крепкий парень-конюх, поскользнулся и ударился спиною о корыто, – и вот он уже шестой год лежит у нас в клинике. Ноги его висят, как плети, больной ими не может двинуть, он мочится и ходит под себя; беспомощный, как грудной ребенок, он лежит так дни, месяцы, годы, лежит до пролежней, и нет надежды, что когда-нибудь воротится прежнее… Вот акцизный чиновник с воспалением седалищного нерва, доведенный страданиями до бешенства, кричит профессору:
– Подлецы вы все, шарлатаны! Да убейте же вы меня, ради создателя, одного только я у вас прошу!
В хороший летний вечер он посидел на росистой траве…
Каждую минуту, на каждом шагу нас подстерегают опасности: защититься от них невозможно, потому что они слишком разнообразны, бежать некуда, потому что они везде. Само здоровье наше – это не спокойное состояние организма; при глотании, при дыхании в нас ежеминутно проникают мириады бактерий, внутри нашего тела непрерывно образуются самые сильные яды; незаметно для нас все силы нашего организма ведут отчаянную борьбу с вредными веществами и влияниями, и мы никогда не можем считать себя обеспеченными от того, что, может быть, вот в эту самую минуту сил организма не хватило, и наше дело проиграно. И тогда из небольшой царапины развивается рожа, флегмона или гнилокровие, незначительный ушиб ведет к образованию рака или саркомы, легкий бронхит от открытой форточки переходит в чахотку.
Нужны какие-то идеальные, для нашей жизни совершенно необычные условия, чтобы болезнь стала действительно «случайностью»; при настоящих же условиях болеют все. Бедные болеют от нужды, богатые – от довольства, работающие – от напряжения, бездельники – от праздности, неосторожные – от неосторожности, осторожные – от осторожности. Во всех людях с самых ранних лет гнездится разрушение, организм начинает разлагаться, даже не успев еще развиться. В Бостоне были исследованы зубы у четырех тысяч школьников, и оказалось, что здоровые зубы, особенно у детей старше десяти лет, составляют исключение. В Баварии среди пятисот учеников народных школ было найдено лишь трое с совершенно здоровыми зубами. Д-р Бабес вскрыл в будапештской больнице сто детских трупов, и у семидесяти четырех из них он нашел в бронхиальных железах туберкулезные палочки; а все эти сто детей умерли от различных не туберкулезных болезней… Уже дети встают после сна с «заспанными», гноящимися глазами; уже ребенком каждый страдает хроническим насморком и не может обойтись без носового платка, – всех прямо удивила бы мысль, что здоровому человеку носовой платок совершенно не нужен. Что же касается достигших зрелости женщин, то они уже нормально, физиологически осуждены каждый месяц болеть в течение нескольких дней.
С новым и странным чувством я приглядывался к окружавшим меня людям, и меня все больше поражало, как мало среди них здоровых; почти каждый чем-нибудь да был болен. Мир начинал казаться мне одною громадною, сплошною больницею. Да, это становилось все несомненнее: нормальный человек – это человек больной; здоровый представляет собою лишь счастливое уродство, резкое уклонение от нормы.
Когда я в первый раз приступил к изучению теоретического акушерства, я, раскрыв книгу, просидел за нею всю ночь напролет; я не мог от нее оторваться; подобный тяжелому, горячечному кошмару, развертывался передо мною «нормальный», «физиологический» процесс родов. Брюшные органы, скомканные и придавленные беременною маткою, типически-болезненные родовые потуги, весь этот ужасный, кровавый путь, который ребенок проходит при родах, это невероятное несоответствие размеров – всё здесь было чудовищно ненормально, вплоть до тех рубцов на животе, по которым узнается хоть раз рожавшая женщина. Помню хорошо, как сегодня, и первые роды, на которых я присутствовал. Роженица была молодая женщина, жена мелкого почтового чиновника, второродящая… Она лежала на спине, с обнаженным громадным животом, беспомощно уронив руки, с выступившими на лбу капельками пота; когда ее схватывали потуги, она сгибала колени и стискивала зубы, стараясь сдерживать стоны, и все-таки стонала.
– Ну, ну, сударыня, потерпите немножко! – невозмутимо-спокойным голосом уговаривал ее ассистент.
Ночь была бесконечно длинна. Роженица уж перестала сдерживаться; она стонала на всю палату, всхлипывая, дрожа и заламывая пальцы; стоны отдавались в коридоре и замирали где-то далеко под сводами. После одного особенно сильного приступа потуг больная схватила ассистента за руку; бледная, с измученным лицом, она смотрела на него жалким, умоляющим взглядом.
– Доктор, скажите, я не умру? – спрашивала она с тоскою.
Утром в клинику пришел наведаться о состоянии роженицы ее муж, взволнованный и растерянный. Я присматривался к нему с тяжелым, неприязненным чувством; это был у них второй ребенок, – значит, он знал, что жене его предстоят все эти муки, и все-таки пошел на это… Только поздно вечером роды стали приходить к концу. Показалась головка, все тело роженицы стало судорожно сводиться в отчаянных усилиях вытолкнуть из себя ребенка; ребенок, наконец, вышел; он вышел с громадною кровяною опухолью на левой стороне затылка, с изуродованным, длинным черепом. Роженица лежала в забытьи, с надорванною промежностью, плавая в крови.
– Роды были легкие и малоинтересные, – сказал ассистент.
Это все тоже было «нормально»! И дело тут не в том, что «цивилизация» сделала роды труднее: в тяжелых муках женщины рожали всегда, и уж древний человек был поражен этой странностью и не мог объяснить ее иначе, как проклятьем бога.
Описанные впечатления ложились на душу одно за другим, без перерыва, все усиливая густоту красок.
Однажды ночью я проснулся. Мне снилось, что я шел по какому-то узкому, темному переулку; на меня наехала карета, ударила дышлом в бок, и у меня образовался pneumothorax. Я сел на постели. Бледная ночь смотрела в окно; вентилятор, перетерший смазку, наполнял тишину яростным, прерывистым хрипом; в кухне плакал больной ребенок квартирной хозяйки.
Все виденное и передуманное в последнее время вдруг встало предо мною, и я ужаснулся, до чего человек не защищен от случайностей, на каком тонком волоске висит всегда его здоровье. Только бы его, здоровья, – с ним ничего не страшно, никакие испытания; его потерять – значит потерять все; без него нет свободы, нет независимости, человек становится рабом окружающих людей и обстановки; оно – высшее и необходимейшее благо, а между тем удержать его так трудно!
Пришлось бы всю жизнь, все силы положить на это; но ведь обидно и смешно ставить себе это целью жизни.
Притом, все равно ничего не достигнешь даже в том случае, если только для этого и жить. Беречься? Но этим теряешь приспособляемость; птица безнаказанно спит под дождем, мокрая до последнего перышка, мы бы при таких условиях получили смертельную простуду. Да и как беречься? Мы ничего не знаем: отчего происходят рак, саркома, масса нервных страданий, сахарная болезнь, большинство мучительных кожных болезней. Как ни берегись, а может быть, через год в это время я уже буду лежать, пораженный pemphigo foliaceo; вся кожа при этой болезни покрывается вялыми пузырями; пузыри лопаются и обнажают подкожный слой, который больше не зарастает; и человек, лишенный кожи, не знает, как сесть, как лечь, потому что самое легкое прикосновение к телу вызывает жгучие боли. Об этом смешно думать? Но ведь и тот больной с pemphigus’ом, которого я на днях видел в клинике, полгода назад тоже был совершенно здоров и не ждал беды. Ни один час здоровья нам не гарантирован. Между тем хочется жить, жить и быть счастливым, а это невозможно… И для чего любовь со всей поэзией и счастьем? Для чего любовь, если от нее столько мук? Да неужели же «любовь» является не насмешкою над любовью, если человек решается причинять любимой женщине те муки, которые я видел в акушерской клинике? Страданье, страданье без конца, страданье во всевозможных видах и формах – вот в чем вся суть и вся жизнь человеческого организма…
Вскоре это страданье встало передо мною в реальной форме. У меня на левой руке под мышкою находилась небольшая родинка; ни с того ни с сего она вдруг начала расти, стала болезненной; я боялся верить глазам, но она с каждым днем увеличивалась и становилась все болезненнее; опухоль достигла величины лесного ореха. Сомнения быть не могло: из родинки у меня развивалась саркома, – та страшная меланосаркома, которая обыкновенно и развивается из невинных родинок. Как на эшафот, пошел я на прием к нашему профессору-хирургу.
– Профессор, у меня, кажется… саркома на руке, – сказал я обрывающимся голосом.
Профессор внимательно посмотрел на меня.
– Вы медик третьего курса? – спросил он.
– Да.
– Покажите вашу саркому.
Я разделся. Профессор срезал ножницами тонкую ножку, на которой держалась опухоль.
– Вы себе натерли родинку рукавом, – больше ничего. Возьмите себе на память вашу саркому, – добродушно улыбнулся он, подавая мне маленький мясистый комочек.
Я ушел сконфуженный и радостный, и стыдно мне было за мою ребяческую мнительность. Но спустя некоторое время я стал замечать, что со мною творится что-то неладное: появилась общая вялость и отвращение к труду, аппетит был плох, меня мучила постоянная жажда; я начал худеть; по телу то там, то здесь стали образовываться нарывы; мочеотделение было очень обильное; я исследовал мочу на сахар, – сахара не оказалось. Все симптомы весьма подходили к несахарному мочеизнурению (diabetes insipidus). С тяжелым чувством перечитывал я главу об этой болезни в учебнике Штрюмпеля: «Причины несахарного мочеизнурения еще совершенно темны… Большинство больных принадлежит к юношескому и среднему возрасту; мужчины подвержены этой болезни несколько чаще женщин… Родство этой болезни с сахарною болезнью очевидно; иногда одна из них переходит в другую… Болезнь может тянуться годы и даже десятки лет; исцеления крайне редки».
Я пошел к профессору-терапевту. Не высказывая своих подозрений, я просто рассказал ему все, что со мною делается. По мере того как я говорил, профессор все больше хмурился.
– Вы полагаете, что у вас diabetes insipidus, – резко сказал он. – Это очень хорошо, что вы так прилежно изучаете Штрюмпеля: вы не забыли решительно ни одного симптома. Желаю вам так же хорошо ответить о диабете на экзамене. Поменьше курите, больше ешьте и двигайтесь и бросьте думать о диабете.
II
Предметом нашего изучения стал живой, страдающий человек. На эти страдания было тяжело смотреть; но вначале еще тяжелее было то, что именно эти-то страдания и нужно было изучать. У больного с вывихом плеча – порок сердца; хлороформировать нельзя, и вывих вправляют без наркоза; фельдшера крепко вцепились в больного, он бьется и вопит от боли, а нужно внимательно следить за приемами профессора, вправляющего вывих; нужно быть глухим к воплям оперируемого, не видеть корчащегося от боли тела, душить в себе жалость и волнение. С непривычки это было очень трудно, и внимание постоянно двоилось; приходилось убеждать себя, что ведь это не мне больно, что ведь я совершенно здоров, а больно другому. Потоки крови при хирургических операциях, стоны рожениц, судороги столбнячного больного – все это вначале сильно действовало на нервы и мешало изучению; ко всему этому нужно было привыкнуть.
Впрочем, привычка эта вырабатывается скорее, чем можно бы думать, и я не знаю случая, чтобы медик, одолевший препаровку трупов, отказался от врачебной дороги вследствие неспособности привыкнуть к стонам и крови. И слава богу, разумеется, потому что такое относительное «очерствение» не только необходимо, но прямо желательно; об этом не может быть и спора. Но в изучении медицины на больных есть другая сторона, несравненно более тяжелая и сложная, в которой далеко не всё столь же бесспорно.
Мы учимся на больных; с этой целью больные и принимаются в клиники; если кто из них не захочет показываться и давать себя исследовать студентам, то его немедленно, без всяких разговоров, удаляют из клиники. Между тем так ли для больного безразличны все эти исследования и демонстрации?
Разумеется, больного при этом стараются по возможности щадить. Но дело тут не в одном только непосредственном вреде. Передо мною встает полутемная палата во время вечернего обхода; мы стоим с стетоскопами в руках вокруг ассистента, который демонстрирует нам на больном амфорическое дыхание. Больной – рабочий бумагопрядильной фабрики – в последней стадии чахотки; его молодое, страшно исхудалое лицо слегка синюшно; он дышит быстро и поверхностно; в глазах, устремленных в потолок, сосредоточенное, ушедшее в себя страдание.
– Если вы приставите стетоскоп к груди больного, – объясняет ассистент, – и в то же время будете постукивать рядом ручкою молоточка по плессиметру, то услышите ясный, металлический, так называемый «амфорический» звук… Пожалуйста, коллега! – обращается он к студенту, указывая на больного. – Ну-ка, голубчик, повернись на бок!.. Поднимись, сядь!..
И режущим глаза контрастом представляется это одинокое страдание, служащее предметом равнодушных объяснений и упражнений; кто другой, а сам больной чувствует этот контраст очень сильно.
Но вот больной умирает. Те же правила, которые требуют от больных, чтобы они беспрекословно давали себя исследовать учащимся, предписывают также обязательное вскрытие всякого, умершего в университетской больнице.
Каждый день по утрам в прихожей и у подъезда клиники можно видеть просительниц, целыми часами поджидающих ассистента. Когда ассистент проходит, они останавливают его и упрашивают отдать им без вскрытия умершего ребенка, мужа, мать. Здесь иногда приходится видеть очень тяжелые сцены… Разумеется, на все просьбы следует категорический отказ. Не добившись ничего от ассистента, просительница идет дальше, мечется по всем начальствам, добирается до самого профессора и падает ему в ноги, умоляя не вскрывать умершего:
– Ведь болезнь у него известная, – что ж его еще после смерти терзать?
И здесь, конечно, она встречает тот же отказ: вскрыть умершего необходимо, – без этого клиническое преподавание теряет всякий смысл. Но для матери вскрытие ее ребенка часто составляет не меньшее горе, чем сама его смерть; даже интеллигентные лица большею частью крайне неохотно соглашаются на вскрытие близкого человека, для невежественного же бедняка оно кажется чем-то прямо ужасным; я не раз видел, как фабричная, зарабатывающая по сорок копеек в день, совала ассистенту трехрублевку, пытаясь взяткою спасти своего умершего ребенка от «поругания». Конечно, такой взгляд на вскрытие – предрассудок, но горе матери от этого не легче. Вспомните вопль некрасовской Тимофеевны над умершим Демушкой:
Я не ропщу,
Что бог прибрал младенчика.
А больно то, зачем они
Ругалися над ним?