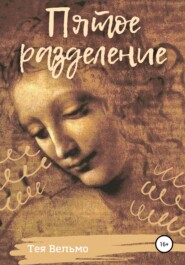скачать книгу бесплатно
Пятое разделение
Тея Вельмо
Тупик-Главный гордится своей пылью, ямами и серой архитектурой. В его окрестностях расположен Малый Заиндень – поселок, в котором Университет, кварталы мастеров и племя Игры притягивают тех, кто готов искать и создавать во Времени и Пространстве. Однажды обнаруживается, что в кодах Игры начали пропадать куски данных о Прошлом, что приводит к разрушению Настоящего и Будущего. Прожорливая Моль выгрызает дыры в ткани Жизни, истончает основную связующую людей нить – доверие. Сила изменений в Игре приводит к тому, что в реальном мире начинаются разрушения. Ткань времени рвется, в мир приходит Пятое Разделение, нарушая баланс четырех разделений года и стремительно превращая мир в пыль и прах, ведущее в тупик, где не будет выбора между добром и злом, а будет вечная предопределенность. Обитатели Заинденя решаются придумать Будущее, ради которого будет смысл существования Прошлого и Настоящего, восстановить ткань времен. Но их волшебных сил может не хватить. И Заиндень зовет на помощь Леонардо.
Тея Вельмо
Пятое разделение
Пролог
Тупик-Главный гордится своей пылью, ямами и серой архитектурой. Где-то в его окрестностях расположился Малый Заиндень – поселок, в котором Университет, кварталы мастеров и племя Игры притягивают к себе тех, кто готов искать и создавать во Времени и Пространстве. Однажды обнаруживается, что в кодах Игры начали пропадать целые куски данных о Прошлом, что приводит к разрушению Настоящего и Будущего. Прожорливая Моль выгрызает огромные дыры в ткани Жизни, но главное, что она истончает основную связующую людей нить – доверие. Сила изменений в Игре приводит к тому, что и в реальном мире начинаются разрушения, а пыльца моли, смешиваясь с пылью Тупика покрывает все большее пространство. Ткань времени рвется, в мир приходит Пятое Разделение, нарушающее баланс извечных четырех разделенностей года и стремительно превращающее мир в пыль и прах, ведущее все в тупик, где уже не будет выбора между добром и злом, а будет вечная предопределенность. Мастера, ученые, Фрау Фауст, Учитель, вождь племени Игры Юрге, хозяин постоялого двора Борода, молочник Тевье, предводитель Армады Белого Паруса Рагнар, собирательница обид Клавдия, писатель Митрий и художник Микель, создающие Текст жизни, Ангел и Демон, безлетная старуха Савросья и Лешуня – обитатели Заинденя, которые решаются придумать Будущее, ради которого будет смысл существования Прошлого и Настоящего, восстановить ткань времен. Но даже их волшебных сил может не хватить. И Заиндень зовет на помощь Леонардо…
Герои
Борода – хозяин Постоялого двора у дороги. Перед Постоялым двором – Торжок и остановка транспорта из Тупика и Большого Заинденя в неведомые дали. Ему хорошо за 60.
Патрик – смотритель Яблоневого сада с воротами, перед которым стоит Чаша Сия.
Клавдия – женщина, замечающая все несовершенства мира. Пожила.
Огородницы – три подруги: Тетушка Кабачок, Тыковка и Топинамбур, занятые земными заботами. Основательны и непоколебимы, оптимистичны несмотря ни на что. Возраст – почти пенсионный. Или пенсионный.
Василий – бывший сановник. До сих пор знает, как управлять людьми, но совершенно не знает, как управлять процессами. Дружит с огородницами.
Степановна – хлопотливая и сострадательная женщина без возраста.
Тевье и Таисья – молочник и его жена. У них взрослые дети, внуки и большое хозяйство. Варят вкусный сыр. Гостеприимны и щедры.
Марта и Мельник – мельник, как и было сказано, и его жена, которая печет хлебцы дня и прочую сдобу. Очень добры.
Кузнец – обычный немногословный герой-интроверт. Конечно, не юн.
Гончар – мастер, делает руны, обжигает горшки.
Плотник – необходимый мастер, скрепляет мир.
Три сестры – Елка, Ольга и Алена. Ткут нити и перерезают их. Живут на Горе. Празднуют Вальпургиеву ночь. Ведьмы.
Писатель Митрий – гений слова, видит текст жизни. Шумен, изобилен, снисходителен к простым смертным.
Художник Микель – гений цвета, видит образное и безобразное. Любит Ангела.
Ангел – прекрасная девушка, неосторожно полюбившая демона. Дарит сердечки и красивые подарки.
Демон – просто демон. Он должен быть. Его любит Ангел, видя в нем то, что было до падения.
Ректор – главный человек в университете. Умен и саркастичен. Управляет знаниями. Способен придумать 141 сценарий игры в будущее.
Рагнар – бывший полководец, брутален, прям и победоносен. Создал Школу Белого паруса. Мальчишка лет пятидесяти. Влюблен.
Татьяна Борисовна – женщина-математик, единственная, кто может разумно общаться со всеми. Следит за Миром, ведет записи времен.
Фрау Фауст – женщина средних лет, не переносящая скуку и постоянно развлекающая свой ум. Замужем неодолимо. Любит логические диалоги с Юрге.
Фаустов Муж – если он поверит в себя, то у него все получится. Но он предпочитает действовать.
Женщины прошлого и будущего – женщины, которые видят каждая свое, незаменимы в надеждах и воспоминаниях. В настоящем их нет.
Юрге и племя игры – молодой эстет. Парадоксален, гениален, обворожителен. Создает коды и наслаждается гармонией. Эгоистичен, а потому не терпит несправедливости и непредсказуемости. Руководит племенем, которое в цифровой реальности видит единственную реальность.
Учитель и Александра Андреевна – прекрасная пара, ежедневно врачуюшая мир и открывающая ему новые горизонты. Детей – много.
Савросья – безлетная старуха, причина и исток.
Лешуня – весьма ехиден и бурлив. Знает все, но предпочитает не помнить. Вечный спутник Савросьи.
Сводьи – небесные шаловливые жилички, создающие мнения и иллюзии.
Зеленые эльфы – незримая охрана Бора
Боевые эльфы Ордена Крапивы и Лопуха – дружина Заинденя.
Друиды – хранители омел и тайн, старцы, любящие уединение. Живут за рямом.
Алхимики – ненаучные руководители всяких гипотез.
Растрепа – мать младенца. Любит Заиндень. Придумывает людей.
Леонардо – лукавая надежа и опора. Перепридумывает все, что занимает его воображение. Создает будущее. Всеми возможными способами. Необходим. Несущ.
Глава 1. Во времени и пространстве
Этим утром Малый Заиндень был особенно тщательно прорисован: голые ветви, уже набравшие зелень в коре, но еще не брызнувшие листвою с ее клейкой горечью, чертили на голубом небе карты судеб. Над некоторыми линиями пролетали птицы, за другие по пути на солнечные кухоньки цеплялись краем кружевного наскоро наброшенного пледа растрепанные сводьи – капризные, кокетливые и взбалмошные небесные жилички, иногда занятые музыкой, рисованием и танцами, но все больше снующие без толку, сплетничая и обсуждая чепуховины. Ниже линий начинались явь, правь и навь, у каждого двора своя.
На границе моей земли правь слегка искривлялась и заходила боком к Савросье – безлетной старухе, которая жила в Заиндене вечно, а за Савросьиным пределом начинался уже Другой Бор. В Другой Бор, говорят, со стороны нам невидимой вела одна дорога, но с нашей стороны Бор вытекал на Заиндень сотней тропинок, назначение которых было неясно: никто по ним из Бора не выходил, а те, кто хотел зайти, мыкались, выбирая свою, да так и не выбрав, обещались прийти завтра, и обещание выполняли, но все напрасно – опять мыкались, выбирали, обещались. Впрочем, этих тропиночных было немного, в основном случайно прибывшие с какой-нибудь попуткой, в которой болтливый перевозчик рассказал им байку про то, что в Другом Бору можно найти путь обратно и все вернуть, чтоб стало, как было и больше не ошибиться выбором. Новые попутки приходили нечасто, а уехать в них из Заинденя было невозможно: отсюда уж никто не брал ни в ту, ни в другую сторону. Большинство из тропиночных вскоре махали рукой на свою забаву и начинали обосновываться в Заиндене, здесь и сейчас, раз уж все равно вернуть ничего нельзя и другого выхода нет. Но Заиндень принимал не всех, а лишь тех, кого не хватало, остальные уходили тропой в Заиндень Большой, бравший всех без разбору и уже скоро готовящийся стать то ли малым городом, то ли поселком городского типа, в общем, чем-то подростковым, с выпирающими во все стороны возможностями и неосознанной ответственностью. Большой Заиндень мечтал когда-нибудь стать настоящей столицей чего-нибудь, но, поскольку столица требовала оседлости и основательности, а тропиночные люди в большинстве своем все время были в пути, то Большой Заиндень был шумным и бестолковым перевалочным пунктом, в котором одни только приехали, а другие вот-вот уедут.
Большой Заиндень был неблизко и идти в него надо было с осмотрительностью, петляя и на семи перекрестках меняя направление, поскольку от главной дороги прямой путь давно перекопали и засеяли синим чертополохом, чтоб никто из Большого Заинденя сюда по своей воле не добрался. Что касается попуток, то ни одна из них в Большой Заиндень не шла, а сворачивали все на краю дальнего луга в сторону Того Бора и так, по-над бором, еще какое-то время то пылили, то пуржили и – пропадали с глаз.
Так и оставалось в Малом Заиндене дворов всего под сотню и постоялый двор на повороте дороги, у которого притормаживали попутки, перевозчики набирали себе пирогов с ягодой, бросали монетку в чашу фонтана, чтоб вернуться и уезжали. Чаша свою мытарскую работу выполняла исправно, за год собиралось достаточно, чтоб внести в казну Большого Заинденя плату за продление подписки в стратегическом проекте Дороги дОроги. Большой Заиндень когда-то добился в каких-то парламентских или кабинетных сражениях специальных полномочий на «дорожную карту концептуального планирования организации условий проектирования строительства дороги Тупик-Тупик». Дорогу гордо именовали Объездом, то Северным, то Южным, то Восточным, смотря в какую сторону в этот день глядел петушок мэра, Западного Объезда не было, с запада в Тупик заходила прямая стрела магистрали и безнадежно вязла. Эпохальные сражения за полномочия, выигранные Большим Заинденем были весьма похожи на кучу-малу, поскольку Тупик только и мечтал делегировать кому-нибудь все, что только возможно, оставляя себе только нерушимое право распределять деньги и ездить в Центральную Столицу с докладом о достижениях, которые, конечно, опережают уже все мировые, но для сохранения лидерства необходимо дополнительное финансирование. С истошным криком «это не наши полномочия!» главный юрист Тупика впихнула распоряжение о передаче ответственности Большому Заинденю, а Центральная Столица от Тупика отмахивалась, поскольку пока Тупик собирал свою докладную делегацию в Центральную Столицу, – шумно и со сварою, интригуя и пускаясь на подкупы, и был даже случай одного похищения, которое оказалось, конечно, не совсем похищением, просто загостился мужик то ли в рыбачьем домике, то ли у пасечницы, сейчас уж никто не помнит, но шуму было – он терял то план дороги, то деньги, то время.
Все были довольны распределением ролей, игра в дорогу продолжалась уже лет восемьдесят, и никто уже всерьез не думал о самой дороге, просто отправляли монетки в щель этого игрового автомата, чтобы игра продолжалась. Если бы Тупик отвлекся от этой игры, он бы вдруг мог придумать новую забаву, которая еще неизвестно чем бы обернулась, а так Тупик был занят, Большой Заиндень был уполномочен, а Малый оставался труднодоступным, а потому, слава богу, вспоминали о нем лишь во время планов и отчетов, которые Заиндень исправно высылал по запросу.
Так и получалось, что за предел известного мира известных дорог в Другой Бор ниоткуда не было, местные же в него ходили по одной тропинке, которая начиналась от нашего с Савросьей древа, а значит, попасть на нее можно было или от меня, или от Савросьи и никак иначе. Впрочем, правильней говорить, конечно, не «от меня», а от Лешуни, который пустил меня жить в свою избу прошлой осенью, когда я все бросив купила билет на поезд «куда хватит», а хватило как раз до станции Тупик-Главный, где я попыталась пожить, но не смогла полюбить местные достопримечательности, которые туристам хорошо, а живущему – смерть, на мой взгляд.
Тупик-Главный привлекал туристов со всего мира скучной и серой архитектурой с элементами аутентичной обшарпанности фасадов, ямами и провалами на дорогах, которые каждый сезон исправно подновляли, делая их еще более непредсказуемыми и коварными, чтоб не терялся азарт прохождения квестов у туристов, ну и знаменитым погружением в дополненную реальность «Пыль и Непыль», которое и приносило половину денег Тупику. Вторую половину приносили ямы, СТО и больницы, в которых приводили в порядок туристов после посещения ими ям или любимого адреналинщиками аттракциона обрушения фасадов, который стоил дорого, но, говорят, он того стоил. Стоимость медицинских услуг входила в стоимость тура. Тупик-Главный жил туризмом, жил неплохо, в нем даже были свои конструкторские бюро и научные лаборатории, инновационные центры и опытные заводы, которые специализировались на совершенствовании ям, пыли, снега и направленных самообрушений, были дизайнеры, коучи, сувенирщики, сказочники, рестораторы, уличные артисты, шла бойко торговля непритязательным, поддерживая тщательно оберегаемую аутентичность Тупика.
В общем, у меня случился, как любят сейчас говорить, культурный конфликт (вслед за экзистенциальным кризисом, заставившем меня бросить все) и я, опасаясь слишком глубокого погружения в зону комфорта Тупика, вышла из нее на трассу, какого-то нереального значения, остановила попутку, заплатила перевозчику монетку и оказалась в Малом Заиндене, где не было никаких квестов, аутентичности и экзистенции, а были правь, явь, навь, Савросья и тропинки в Другой Бор.
Оказалась я тут случайно, поскольку билет у меня был не до Заинденя, а до остановки «Конечная», но меня так увлекла чаша фонтана с надписью «Чаша Сия», что пока я рассматривала мозаичные летописи над слоями монеток и старалась угадать, а что там спрятано за деньгами, перевозчик мой уехал и я, откусив от пирожка и выпив из бутылька, отправилась искать «угол», набрела на Лешуню, который и поселил меня в дальней комнате своей избы, выходящей окнами на Савросьин двор и на Другой Бор, который просыпался этим утром как-то по особенному вычерчивая узоры карты судеб на голубом небе и наполнял воздух щебетом птиц и ожиданием близкого мая. Полгода я уже здесь. Или полкруга. Это смотря каким календарем мерять.
…
Лешуня, в общем-то, был мужик основательный. Изба его, в отличие от Савросьиной стояла не кособоко, а горделиво, задирая к небу островерхий конек светелки, на котором разместилась квадрига, управляемая Хорстом. Был там конь бел с единым рогом, конь-огонь искупанный, ой ты конь мой вороной с казаком и серый в яблоках Март. Квадрига неслась к краю крыши, а Хорст в повозке одной рукой прижимал к себе деву в венке с улыбкой то ли порочной, то ли стыдливой. Савросья все грозилась сковырнуть непотребство с крыши, но Лешуня кричал ей через забор, что уничтожение памятника культуры, во-первых, карается, а во-вторых, никакое уничтожение квадриги не сотрет в памяти народной жизнь Савросьи, которая и запечатлена в скульптурной композиции, охраняемой государством под номером в реестре. Савросья подбирала свои бессчетные юбки, показывая узкую щиколотку в тренировочных штанах, украшенную ажурным кружевом на самой границе с модной в этом сезоне крокс-галошей цвета баклажан и проделывала этой самой галошей движение «плюнуть и растереть», после чего гордо шествовала на свои хозяйственные задворки.
В Заиндене все знали, что ритуал этот Лешуня и Савросья проделывают четыре раза в году, в дни солнцеворотов и без этого не будет в Заиндене ни снега, ни урожая, ни ветра.
Светелка венчала третьим этажом Лешунин терем, который был расшит деревянным кружевом и домовой росписью. То же буйство ждало гостя и в горнице: Лешуня как-то специально выписал из заброшенных деревень русского севера сундуки, скамьи, дверцы и разместил их под беленым, украшенным цветами потолком. Предположить, что жил здесь мужик-бобыль было трудновато, особенно мешали этому кружевные скатерти и занавески. Но гостиная была обманкой, как и все очевидное в Лешунином пределе.
…
Утро это случилось за год до того, как в Большой Заиндень пришла Разделенность и стало понятно, что, собственно, этому миру всегда будут нужны только врачи, духовники и похоронных дел мастера, а то, вокруг чего крутились все мысли, все эти салоны работы над телом от фитнеса до цирюльни, все изысканные хлеба и удивляющие зрелища, весь транспорт и путешествия от нечего делать вдруг стали в Разделенности неважными, съежились, схлопнулись и обратились в воспоминания.
В этой Разделенности музейщики – бабы и мужики, шарящие по Большому Заинденю в поисках достойных артефактов прошлого – находили иногда неплохие экземпляры скукоженных, впавших в анабиоз спортзалов или кинозалов, кофеен, еще сохранивших запах в своей раковине, театров, сложившихся до размеров музыкальной табакерки, и утаскивали их себе в хранилища, чтобы рассматривать, описывать, сохранять до того дня, когда придет Время После, но время это не торопилось. Впрочем, у музейщиков работы было много и иногда казалось, что Разделенность не закончится, пока наконец все собранное не будет описано, обдумано, отсортировано для попадания в Будущее или на склад истории.
Будущего, по словам говорящих, не стало, и его надо было изобретать заново.
Но это все случится еще через год после того, как проснулась я в Лешуниной избе, выглянула в окно и посмотрела на сегодняшний Малый Заиндень, а Заиндень посмотрел на сегодняшнюю меня.
…
В Заиндене все было просто: было сегодня и всегда. Во Всегда были слиты воедино Прошлое и Будущее, которые иногда – в Дни Разделенности – отделяли друг от друга, но в основном времени они были едины и составляли то самое Всегда, которое и было временем Заинденя. Дней Разделенности в году было четыре, хотя когда-то (утверждал Лешуня) их было всего два, а после добавилась еще пара, и бытовало поверие, что, возможно, время дойдет, будет их шесть и восемь и даже более, но обязательно четно, поскольку Разделенность сохраняла равновесие мира и не могла быть непарной, а обязательно противопоставленной и уравновешивающей, чтобы мир не завалился в одну сторону и не покатился кубарем в одну из сторон, в которой уже и не будет выбора, а одна лишь неизбежность. Даже неизбежность счастья в Заиндене считалась бы наказанием. Четыре дня – День До Майской ночи, Канун Летописей, выпадающий на солнцестояние, Золовки, согревающие первую изморозь и Темные времена, на которые выпадали Авторские Хтони были Днями Разделенности, когда надлежало разъять Прошлое и Будущее, проверить их целостность и снова смешать Во Всегда.
Малый Заиндень, наверное, ничем не отличался от других поселков, встречающихся то здесь, то там по сторонам больших дорог, по которым спешили из пунктов А в пункты Б автомобили, над которыми пролетали самолеты и даже иногда космические корабли, дороги иногда пересекали железнодорожные пути, по которым грохотали поезда и стучали колесами электрички, переполненные дачниками, иные из которых были чумазы и сосредоточены, другие же радостны и беспечны, чумазые читали ветхие сразу от появления в типографии листки «как обустроить дачный туалет и вырастить небывалый урожай», беспечные пели песни и трепетали яркими косынками на ветру, прижимали к себе корзинки с мелкими собачками, и те и другие смотрели в окно, говорили «какая красота» вслед мелькающим лесам и лугам, на фоне которых – то там, то здесь – появлялись и исчезали поселки, похожие на Малый Заиндень.
Вездесущие гис-картографы тщательно прорисовывали эти поселки взглядом из космоса и получалось, что в поселках этих есть какие-то улицы, площади и границы, за которыми опять были леса, луга и так до новых окраин, которые тянулись друг к другу, а иногда смыкались, образуя городки, а потом и города, лепя из ярких разноцветных шариков пластилина один невообразимо бурый сгусток, одним из которых и стал когда-то Тупик-Главный и, чтобы уж совсем не пропасть в этой бурой, утратившей чистый цвет, смеси, он придумывал названия своим проспектам, площадям и присутственным местам, называя их красными, белыми, золотыми…
На космической карте Малый Заиндень представал неровным следом кого-то живого, кто ступил на берег реки, придя за водой, да так и отпечатал свое присутствие посреди боров и лугов. Из космоса в Заиндене были видны три улицы, три площади и несколько переулков, пересекаемых мелкими тропками.
На самом пересечении с дорогой, которая шла от Тупика и уходила потом в Большой Заиндень, а дальше терялась в перекрестках и шла куда угодно, встречаясь с другими дорогами, сворачивая на них, петляя, пересекая нарисованные границы городов и стран и, скорее всего, возвращаясь потом через множество поворотов опять к Тупику, стоял постоялый двор с чашей. У постоялого двора располагался небольшой торжок, где можно было взять пирогов и совершить множество случайных покупок, чтобы потом, разбирая сумку в далеком доме, вертеть в руках какую-нибудь глиняную птичку-верещалку или носки с оленями, удивленными тем, что они оказались неизвестно где, и самому себе задавать вопрос зачем, где и при каких обстоятельствах это случилось со мной?
Сразу за постоялым двором были ворота в старый яблоневый сад. И сами ворота и сад были действительно старыми и казалось, что их случайно выгрузили здесь, а на самом деле везли в какое-нибудь прекрасное место, где всегда тепло и солнечно, на горизонте плещет и жмурится под солнцем море, где лавандовые поля и виноградники и даль, в которую можно смотреть вечно и звучат песни и льется вино и девушки с босыми ногами и даже колокол на храме звучит так, что и в страшный час никого не пугает, а лишь напоминает, что мгновение это пройдет и снова будет жизнь и смех, и море и неторопливая радость от того, что ты живой, и ты живешь и все вокруг – сама жизнь.
И ворота, и сад Заинденя были именно такими – сама жизнь. По кованным стрелам плелись лозы винограда, эмалью в них блестели птичьи перья, где-то над аркой смыкались радугой луна и солнце, а когда ключник Патрик открывал ворота, то вместо привычного скрипа они каждый раз звучали новой мелодией из встроенного ящичка с полустертой надписью «Музыка сфер». Иногда по праздникам ключник вспоминал, что когда-то он был диджеем, миксовал все эти мелодии в невообразимый трек и всю ночь в саду танцевали, падая от усталости прямо под яблони, даже если была зима и падать бы полагалось под елку, украшенную огоньками, но елки в саду не было. Много раз Патрику говорили, что неплохо было бы завести в саду хоть одну ель, но Патрик отмахивался и говорил, что не ему решать, чему расти в этом саду, хватит и того, что он следит за воротами. Ключника звали Патриком потому, что прибыв в Заиндень он много дней провел в трактирчике постоялого двора, рассказывая всем про настоящие ирландские пабы, которые он посетил во множестве и что неплохо было бы и здесь сделать паб и тогда начнут приезжать сюда туристы и Заиндень начнет стремительно развиваться и даже отмечать день святого Патрика как во всем цивилизованном мире. Дней через девять Бороде, который держал постоялый двор, все это надоело, он вручил Патрику ключ от ворот и указал ему на сторожку при саде, велев жить в ней, следить за садом, держать ворота в исправности, а если Патрик будет справляться, то Борода его будет кормить, поить и даже иногда слушать.
– Не успеваю я и по двору, и по торжку, и по саду. Ключник мне нужен. Ворота открывать, за садом следить, за площадью у Домины и за самим Доминой.
Доминой в Заиндене называли большой каменный дом на площади за садом, в котором посменно надлежало заседать каждому из жителей, управляя жизнью поселка. Управление в основном сводилось к тому, что надо было заводить часы на башне Домины, проветривать комнаты, переворачивать лист календаря, проверять, хорошо ли работает механизм водонапорной башни и генератора, дающего электричество, принимать от Бороды дневную выручку Чаши Сией, записывать доход и складывать его в казну, расположенную в одном из подвалов. Потом надо было проверить закрома, в которых хранились запасы на черный день, принять экскурсантов, которые невесть как попадали сюда, но попадали каждый день, записать в домовую книгу тех, кто захотел остаться в Заиндене или тропиночных, проводить остающихся в термы, передать их банщику, проводить праздных, обойти все комнаты в Домине и выключить свет, позвать Патрика, запереть парадную дверь и сдать ключ.
Иногда, впрочем, бывали и дни суеты, когда заинденцам вдруг приходило в голову обращаться в присутствие со своими просьбами и проблемами. Чаще других приходила Клава-плакальщица, баба тучная, небрежно одетая, все собирающаяся умереть, но тщательно следящая за своим здоровьем.
Клавдия жила у самой площади, на улице, ведущей в Мастера. Ее домик, стоящий чуть в глубине от Правой улицы, был скрыт разросшейся вишней, пыльные оконца еле-еле пропускали свет в захламленное помещение, где в основном были книги, которые Клавдия выписывала по почте, и неисчислимые залежи всяческих продуктов, из которых Клавдия готовила себе раз по двадцать каждый день по рецептам из книги о здоровой пище, однако, присаливая, как на длительное хранение, заливая маслом и майонезом. Ела она, как правило, посматривая занятия йогой, после чего мерила давление, признавала себя чахлой и ложилась в гнездо из пледов, чтобы посмотреть фильм, полистать ленту группы ужасных новостей, на которую Клавдия была подписана и почитать.
Справедливости ради нужно сказать, что Клава была очень доброй и сострадательной женщиной, и только поэтому все время искала поводы, чтобы о чем-то тревожиться или кому-то сопереживать. Ей необходимо было обижаться. Иногда она сама от себя уставала, садилась писать стихи о красоте и радости, иногда расписывала тарелки и платки, которые приносили ей из гончарной и швейной мастерских. В свободное от сострадания и рисунков время Клава работала переводчиком, что тоже каждый день приносило огорчения, поскольку этот глобальный мир научился пользоваться всеми языками через цифровые адаптеры и превратился в «чисто Вавилон», как говорили ее приятельницы, которые жили на другой стороне площади, солили огурцы со своего огорода, квасили капусту, которую им поставлял сосед Василий – бывший то ли мэр, то ли губернатор, то ли депутат государственной думы, променявший все на капусту – и докучали своей ближайшей соседке Степановне, которая с утра до вечера всем помогала, а с вечера до утра готовилась всем помогать. Три огородницы жили слухами, сплетнями и большой любовью к своему коту Армагеддону. Клавдия их очень не любила, но приятельствовать приходилось, поскольку новости группы ужасных новостей обсуждать было больше не с кем.
Раз в три или четыре дня Клавдия появлялась в Домине с очередной жалобой на несовершенство мира, на шум постоялого двора, на то, что большая семья Учителя, живущая как на грех так, что ее не обойти, живущая шумно, сварно, песенно, так и норовит расширить свои владения и скоро уж никакого житья и уединения Клавдии не будет, на грубость заезжих молодцев, на надменность торговцев. В общем, все, что было в мире неуютного тут же обрушивалось на Клавдию, стоило ей только открыть глаза, оторваться от книги, фильма, интернета или кастрюль. С этим она и шла в Домину, чтобы найти, какой закон может ее защитить. Дежуривший в Домине должен был в ответ на обращение Клавдии надеть на себя мантию, парик судьи, взять огромную книгу и листать ее страница за страницей, ища в книге пример, как можно помочь несчастной.
В те дни, когда доводилось дежурить молочнику Тевье, он любил, найдя нужный абзац, сказать «отсюда учим», за что всегда получал от Клавдии фырканье и демонстрацию ее полного презрения к пошлости, до которой докатился молочник, пользуясь случайным совпадением своего дела и ошибки паспортистки, которая впопыхах при регистрации записала его банальное Тельев именем с театральной программки спектакля, на который она очень торопилась, поскольку Анатолий Александрович, заведующий паспортным столом, мужчина правильный во всех отношениях, решил именно в этот день разнообразить их досуг театром, по какой причине до сих пор не известно: театра больше ни до ни после того случая в их жизни не было, хоть и прожили они вместе лет сорок, и детей вырастили, и дети разъехались, и Анатолий Александрович успел и свою жену – паспортистку похоронить и жениться вторично на бывшем бухгалтере какого-то торгового дома, но и с ней в театр ни разу не сходил, все мучали то артрит, то поджелудочная, то недостаток белой рубахи, то понос, то золотуха.
Тевье так и отправился в жизнь с фамилией с театральной программки, долго мыкался, крутился то туда, то сюда, эмигрировал даже в Канаду, но после одумался, вернулся, осел в Питере, и однажды там на какой-то ярмарке познакомился с Таисьей, которая держала коров где-то под Вологдой, делала масло, сыры, творог и поглядела на Тевье такими синими глазами, что вынырнул он из тумана своих грез и дум, женился, стал молочником, а чуть погодя, захотев вдруг каких-то перемен, перевез семью в Малый Заиндень.
Семья Тевье и сама была сбитая, крепкая, бело-золотистая. Три дочери и пять сыновей приехали вместе с родителями сюда, принялись за дело, встали отдельным хутором на окраине Заинденя, но жизни общинной никогда не чурались, наоборот везде и всегда были слышны их песни и побасенки, а вскоре трое из детей и сами нашли своих суженых-ряженых в семье учителя, которая понемногу, принимая в себя молодежь всех дворов, стала самой большой семьей Заинденя, детей в ней рождалось иногда по три человека за год.
От площади, с заднего двора Домины, где располагались те самые термы, в центре которых был большой бассейн, наполнявшийся водой из подземной реки, которая бежала откуда-то из глубин Бора, скапливалась в колодце на лужайке между домами Лешуни и Савросьи, а дальше опять уходила под землю до самого бассейна, в нем терялась, вспелискивала когда-то в Чаше сией, а от нее терялась уж окончательно, начинались две главные улицы Заинденя – Правая и Левая.
Правая, та самая, на которой жила Клавдия и которая в Мастерах расширялась Ярмарочной площадью – майданом, как называли ее тогда, когда в дальнем Киеве не забрали у всех майданов имя это только себе, и означало ее имя только принадлежность маю и первому торгу и более ничего, а после майдана доходила как раз до хутора Тевье. В Мастерах стояли мельница, кузня, плотня и гончарная мастерская, а при них домики тех, кто занимался простым и понятным делом: хлебом, деревом, глиной, железом.
Чуть поодаль в глубине липовой аллеи, отходящей от майдана вглубь Заинденя, жили три сестры, каждая в своем, но под одну мерку сделанном домике: белостенных, с кустами роз, чабушниками, жимолостью и девичьим виноградом, с палисадниками, полными цветов и аптекарскими огородиками с чабрецом, мятой и душицей, с альпийскими горками чуть поодаль домиков, вспыхивающими вересками и камнеломками, с прудиками, в которых танцевали летом на тонких стеблях кувшинки и лотосы, со скамьями в тени плакучих ив, с беседками, укромно спрятанными в сиренях и черемухах. Все, что шилось, ткалось, прялось, вышивалось, вязалось и валялось в Заиндене, все мыла и душистые воды, все кремы и притирки, многие из которых уходили в далекие страны, все для уюта, красоты и неги делалось в этом тридворье.
То ли матери, то ли отцы были у сестер разные: одна была рыжей, смешливой с россыпью веснушек и полной грудью, вторая – брюнеткой с цыганской волной волос, гибкой, исчезающей на изломе талией и голубыми глазами, третья – с длинной русой косой, прямая в спине и строгая во взгляде. Совсем было бы хорошо, если бы звали их Верой, Надеждой и Любовью, но, видимо, родители не ожидали троих дочерей или были забывчивы, давая имя, но звали их Елена, Алена и Олена, а потому, конечно, в Заиндене это место называлось сначала Ленинскими горками, а потом, по склонности языка к упрощениям стало просто Горками, а потом и вовсе Горой. Нездешнему человеку трудно было догадаться, о какой горе идет речь в совершенно ровном Заиндене, но местные с самого малолетства знали: на Горе – это у Лен. Сами они друг друга называли Олей, Елкой и Алей, замужем никогда не были, хотя к Елке захаживал плотник Андрей, делал ей коклюшки для кружевной работы, повторял ее плетение в дереве, а вместе они делали какие-то удивительной красоты и легкости убранства для храмов, невзирая на конфессии: кружево и дерево одинаково ценилось везде.
У Али был долгий, растрепанный и уже малосюжетный роман с писателем с Левой улицы. Писателя звали Митрий, писатель он был гениальный, парадоксальный, писал и прозу и стихи, выступал с обличениями и суждениями, был чтим и популярен, но пару лет назад его хватанул инсульт прямо в дороге меж очередными городами и он притормозил свое вращение, купил зачем-то керосиновую лампу и с нею прибыл в Заиндень как раз на стыке лета и осени в какой-то легкомысленной рубашонке и с пиджаком через плечо для писательского антуража и пришлось его обшивать, обмеривать, так как-то и закрутилось, сшилось, слепилось и теперь писатель вновь набирая обороты читал Але новые главы романов, стихи и речи перед тем, как выложить их в интернет, в местной школе преподавал литературу, а временами и языки, переписывался с несколькими мировыми классиками и даже пару раз зазывал их в гости, но ровным счетом никакой дачи писателя из этого не выходило и он наскучив всеми снова запирался в своем кабинете и выходил пить чай только после трех, когда нужные десять страниц были написаны. Аля ему нравилась, он включил ее в пару романов, называл своею отрадою и утехою, но руку и сердце держал при себе, что, впрочем, Алю вполне устраивало: шитье требовало сосредоточенности, а писателя иногда было слишком много. Так и строчили они на пару каждый свое, один полотно вечности, вторая – все, что нужно человеку от пеленок до саванов, от мантий до халатов, от театральных занавесов до носовых платков. Спрос на платки был особенно велик после выхода какого-нибудь эпохального романа писателя и критикам в знак признательности Аля отсылала книги писателя с авторскими обложками и закладками, что у них меж собой называлось соавторством и каждая такая отправленная посылка сопровождалась обязательным званым ужином.
Олю прочили за одного из еще холостых сыновей Тевье, на хутор которого она ходила за шерстью для пряжи и валяния, но она все отнекивалась и говорила, что любую девушку с козочкой ждет участь Сольвейг, а она не готова. Готова или нет, но тайком сестры уже шили ей подвенечное платье и плели фату, поскольку были уверены, что в любом непонятном случае лучше иметь платье, чем его не иметь.
Левая улица, покидая площадь Домины вела к университету, который объединял в себе и университет с лабораториями и кафедрами, и театр, и школу, и библиотеку, и галерею изящных искусств, и видеомастерскую, и маленький планетарий с таким же крохотным естественно-научным музеем.
Пространство перед университетом представляло собой карту мира, представленного в миниатюрах, но содержащую все главные города и достопримечательности. Прошлым летом египетские пирамиды облюбовали муравьи и пришлось сыпать сахарный песок, заманивая муравьев в Париж и в Лондон, но песок быстро кончился, а потому пирамиды продолжали расти и деловито снующие муравьи стаскивали в них все, что удавалось раздобыть на просторах Европы, Америки и даже из России перетаскивали по кирпичику кремлевские стены.
Ректор университета быстро объявил все происходящее демонстрационной площадкой нового мирового порядка и теперь слушатели выполняли лабораторные работы по макроэкономике и социологии внимательно наблюдая жизнь муравьев, маркируя их разными цветами из флакончиков с красками и строя математические модели сценариев изменений в трендах происходящего на их глазах крушения цивилизаций. В начале этого мая пал Нотр-Дам, летом по какой-то нелепой случайности случился пожар в лесах Сибири, что привело к таянью ледников в Южном полушарии и необходимости реконструировать добрую часть карты.
Впрочем, карта мира была скорее развлечением, основная работа происходила все-таки в стенах самого университета, который назывался кафедральным, потому что его основой и были кафедры самых разных направлений, на которых сотрудничали лучшие представители разных наук со всех университетов мира, выполняя факультативные исследования тем, на которые не находилось грантов в рамках привычного финансирования наук, а любопытство настоящих ученых было невозможно ограничить ни грантами, ни привычными догмами, а потому большим спросом пользовались коллоквиумы, на которых обсуждались варианты будущего.
Новые лекарства, новые технологии, новые механизмы, новые коммуникации, новое поведение – всякая гипотеза была востребована, обсуждалась с точки зрения всех наук, отметалась или принималась и университетское издательство уже готовило первый том издания «Ассортиментная матрица будущего», единственная задержка состояла в иллюстрациях, поскольку университетский художник влюбился, что, как известно, гораздо хуже всех бед и казней египетских. Он забросил свои проекты, закрыл на этот год арт-резиденцию, заперся в мастерской и каждый день рисовал по одному портрету ангела, сопровождая его коротким лирическим парустишьем.
Ангел, который явился форс-мажором для издательского проекта, к сожалению, существовал на самом деле и более того, жил непосредственно здесь же, в Заиндене. Года два назад Ангел с огромным чемоданом, с зонтиком и в прозрачных туфельках – то есть со всеми атрибутами волшебных существ девичьего воплощения – выгрузилась из кабины разбитой дорогами фуры, вошла в бар постоялого двора и с порога заявила, что намерена поселиться здесь навсегда и, желательно, в каком-нибудь особенном месте.
Борода посмотрел на нее с усмешкой, налил чашку очень горячего латте и погремев в ящике под кассой выудил оттуда старый ключ с брелоком в виде белых крыльев.
– Единственное место, которое может тебе подойти, – сказал Борода. – Прямо, направо, мимо Горы и по тропинке до Старого Тополя. Лестницу сама найдешь, это легко.
И занялся своими делами.
Старый тополь стоял на самом краю Заинденя. Вернее, он начинался за краем, а потом, видимо, то падая, то поднимаясь, отрастал новыми корнями и понемногу вполз на территорию деревушки, выпрямился над сплетениями своих стволов и корней и метрах в двух над землей вдруг раскрылся круглой площадкой как раз по размеру маленького домика в одну комнату и кухоньку. Домик был построен, но тополь продолжал расти и немного подумав, домик начал расти вместе с ним. Теперь в междустволье тополя стояла трехэтажная башенка, которая каким-то чудом не падала, кренясь сразу во все стороны, а находила опору в неровностях коры и сучьях дерева. Последние лет пять в башенке жило только приведение, и это, несомненно, было самое особенное место. Окна в ней были без стекол, половицы скрипели, крыша кое-где текла, а сама лестница в башню не досчитывала нескольких ступеней. В самой башне, впрочем, тоже.
С тех пор многое изменилось. Башенка сверкала цветными витражами стекол, стены были отшлифованы до зеркального блеска, крыша покрыта черепицей, а на самом верхнем этаже башенки был пристроен балкончик с витыми перильцами, рисунком повторяющие ворота яблоневого сада. В домике Ангела всегда горел огонь: если было слишком жарко для камина, то горели свечи, но чаще – и камин и свечи вместе, подушки, пледы, накидки, половики все было пушистым и воздушным, в самых нежных цветах, на кухне стоял аромат кофе и выпечки, а в прихожей гостей встречала белая пушистая собака, напоминающая июльское облако. Звучала музыка, звенели ветровые колокольчики, зеркала отражали всякое движение и сонно шелестела листва тополя. Борода как-то сказал, что это место покоя, которое должно быть обязательно в каждом мире.
Ангел чаще всего сидела на балкончике третьего этажа, то уткнувшись в свой планшет, то читая книгу, то заворачивая подарки, которая она отправляла во все концы вселенной, то распаковывая подарки, которые приходили ей в ответ.
Безмятежность была обманчива: в Заиндене все знали, что Ангел полюбила демона. Он прилетал к ней на балкон и часами рассказывал ей про то, где он был и про то, что он совершал, и про свои желания, и про свои будущие подвиги, а Ангел слушала, поила его кофе, кормила плюшками, обнимала его за кудлатую голову, прочесывала его черные крылья, жила им и все, что было помимо было лишь ожиданием встречи.
А художник любил Ангела.
И, конечно, ректор университета имел полное право объяснять срыв сроков выхода издания демоническими кознями, так оно по сути и было.
Кроме художника и ректора при университете жили писатель Митрий, бывший полководец Рагнар и женщина-математик Татьяна Борисовна, которая собственно и построила карту мира в миниатюре по воспоминаниям о своих путешествиях именно для того, чтобы было удобнее оттачивать математические модели. Татьяна Борисовна была из длинного, теряющегося в веках и народах, рода ученых. Ее предки занимались наукой со времен алхимии и в ее доме хранились письма и рукописи, передаваемые из поколения в поколение вперемешку с любовными письмами, которых было не меньше, чем открытий, поскольку женились, венчались и разводились в роду безостановочно и многократно в каждом отдельном своем представителе, детей рожали так же энтропично, что, согласно закону замкнутого пространства приводило лишь к увеличению браков, детей, любовей, писем, открытий и архивов. Библиотекарь университета шутил, что если хорошенечко поискать, то, наверное, можно найти и письма Аристотеля, на что Татьяна Борисовна хмурилась и советовала библиотекарю хорошенечко подумать, прежде чем вообще что-нибудь искать в ее доме.
Дружила Татьяна Борисовна с Фрау Фауст, пожилой барышней неопределенных лет, которая все время жаловалась на скуку и была замужем за каким-то несуразным мужичонкой, которого она похоже забыла вытащить из чемодана при переезде в Заиндень, он так и прижился в отдельном флигелечке ее дома, начесывал по субботам усы и шел в гости к огородницам, солившим огурцы и капусту. Иногда он встречался там с Клавдией, с которой у них доходило чуть не до драк, поскольку каждый хотел выглядеть более несчастным, а пальму первенства никто отдавать не хотел. Но чаще, к его удовольствию, вечера проходили без Клавдии, а с дальнего двора, который совсем уже смотрел окнами в Тот Бор, приходил на субботний чай сосед Василий – тот самый бывший то ли мэр, то ли губернатор, то ли депутат государственной думы – который отказывался даже от дежурства в Домине, а уж тем более отверг предложение занять ее навсегда и управлять, поскольку у него опыт. «У меня капуста!» – сказал он и даже, говорят, бросил трубку телефона на рычаг, это было так давно, что у телефонов еще были рычаги, провода и колесико для набора номера. Капусту он поставлял огородницам, сотрудничество их процветало и порой даже дамы наряжались в блузы с камеями, отскребали черные ногти и пятки и пели под караоке романсы, стреляя глазами то в Василия, то в Фаустова мужа. Василий от этого быстро уходил огородами, Фаустов муж пышнел усами и ел все больше пирогов, свечи воняли дешевым парафином и оплывали, в окно струился запах компоста, романтика была растворена в воздухе.
Самая громкая из огородниц – Тетушка Кабачок, крепкая, грудастая, с кулаками, которые отлично справлялись и с вилами, и с засолкой капусты, когда-то давно была помолвлена с тихим парнем, жившим по соседству в ее деревне, но надо же было так случиться, что у парня в тот год отлично удались кабачки, а тетушка, которая тогда была еще не тетушкой, конечно, но уже очень хозяйственной особой, испытывала острую нехватку кабачков для закрутки икры на зиму. Свои уже все были перемолоты, а соседские радовали глаз перспективой. Рассудив, что помолвка – практически одна семья, тетушка Кабачок перелезла через забор и набрала полный подол вожделенных плодов. В тот самый миг, когда кабачки уже были переправлены на ее сторону, а сама она болталась на заборе самой аппетитной своей частью обратясь к дому суженого, суженый выглянул в окно и увидел лютое непотребство. Будучи человеком хозяйственным и скаредным, он искренне считал, что помолвка помолвкой, а кабачки – врозь. Он выскочил в огород, хватанул на бегу крапивы и горячо приложился к данному ему судьбой заду. Попранная невинность была возмущена и уже рухнув на свою сторону, из пожухлой ботвы, тетушка расторгла помолвку, голося на весь околоток, что лучше быть женой кабачка, чем такой жадобы и абьюзера. На абьюзера парень разозлился окончательно, вернул тетушке данное ею слово, а себе предложенные ей руку и сердце и твердо ступая пятками по пыльной траве, удалился в задний сад горевать под дулей. Вслед ему полетели кабачки раздора и тетушкино победное улюлюканье. При таких обстоятельствах и явилась миру тетушка Кабачок. Когда, уже спустя много лет, она прибыла в Заиндень, имя так приноровилось к ней, что ничего другого не оставалось, как вписать в домовую, а потом уж и в городовую книгу «тетушка Кабачок». Две ее приятельницы, прибывшие каждая в свое время, возможно и имели какие-нибудь обыкновенные имена, но вскоре стали Тыковкой и Топинамбуром: одна была маленькая и звонкая, вторая длинная и сухая до шелеста, целыми днями возились они на своих грядах, приятельствовали с Василием и Фаустовым мужем, иногда по вечерам пили настойки и тогда пели и танцевали, но большей частью выращивали, удобряли, консервировали, вкусно угощали, просто жалели, сурово одергивали и не горевали.