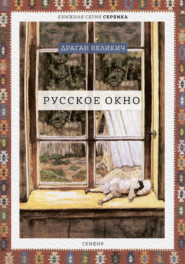скачать книгу бесплатно
«Многие считают меня ненормальной только потому, что я каждому стараюсь угодить, – говорила мама. – Но запомни, – и я помнил, – этот мир не стоит на месте только потому, что существуют те, которые, даже если их считают сумасшедшими, не отступают от своих принципов. И если доброта – признак слабоумия, то я согласна быть слабоумной».
Я не сомневался в том, что мир не стоит на месте, как и в том, что моя мама – добрый человек, хотя мне до сих пор не понятна связь между добротой и аккуратностью. Я думаю, что мир продвигался бы вперед еще быстрее, если бы было больше людей вроде моей мамы. И потому, не желая снижения скорости мира в продвижении, я перенял принципы моей мамы и даже усовершенствовал их, что, полагаю, хоть немного увеличило эту скорость. Аккуратность облегчает движение, экономит самое дорогое – время. Принятие стандартов поведения дает возможность избегать недоразумений, сохранять свои и чужие нервы, а тем самым и здоровье. Следовательно – аккуратность и забота об окружающих. И чем аккуратнее человек, тем меньше недоразумений он привносит в и без того хаотичный окружающий мир.
«Разбуди меня посреди ночи, и я, не включая света, найду то, что мне надо», – говаривала мама.
Можно ли найти лучшее доказательство исконной связи мрака и здоровья?
Когда я читаю библиотечную книгу и обнаруживаю на одной из страниц присохшую крошку, аккуратно сбрасываю ее кончиком пальца. Однажды я на полях книги увидел пометку, что-то вроде виньетки, и обнаружил на ней тонкий полумесяц ногтя. Напряжение, заставившее неизвестного читателя грызть ногти, не было вызвано содержанием книги, тем более на той странице со скучным диалогом. Причина нервозности читателя была вне книги. Пятна от фруктов губят бумагу. Эти следы со временем становятся все более заметными, и в результате через десять-пятнадцать лет достаточно лишь прикосновения пальца, чтобы бумага рассыпалась. Вслед за этим рассыпается моя концентрация. И больше не могу читать. Останавливаюсь на подчеркнутой строке или пытаюсь расшифровать комментарий на полях. В итоге мне удается прочитать до конца только новые книги, без следов, оставленных предыдущими читателями. Потому что эти следы тревожат меня. Насколько помню себя, я вечно встревожен. Это мое свойство только мама отмечала как что-то особенное. Моя проблема состоит в том, что я все воспринимаю чересчур близко. Вот, например, моя первая жена, Юлия, тоже все принимала чересчур близко к сердцу, но она умела экономить это чувство, применяя его только в одном направлении, я же распространял его на все. Мой отец годами плавал на линии Ирландия – Бискайский залив на сухогрузах. Никогда не было заранее известно, в какой порт придется зайти по пути, таков уж характер насыпного груза. Я за всем слежу, Руди. Я надзираю за всей планетой. Например, в это мгновение по меньшей мере тысяча людей отправляются покупать стулья, находясь на приблизительно одинаковом расстоянии от магазинов, в которых каждый из них купит по стулу, и сам факт, что все это происходит без моего контроля, сводит меня с ума, я ведь в жизни ничего иного не желал, как контролировать всю планету. Прислушиваться к дыханию мира. И лишь однажды я занялся делом, которое меня полностью удовлетворяло. Это случилось после разрыва с Юлией. Я не мог ни играть, ни сочинять и потому устроился ночным сторожем на стройку. Стены зданий уже были возведены, шли отделочные работы. А я ночами обходил квартиры, которые днем убирали Нерины. Вскоре мне показалось, что эта симметрия исчезнет и все эти сотни квартир отдалятся друг от друга, как только что родившиеся близнецы. Каждая определится самостоятельно, потому что вот-вот прибудет мебель, следы шагов в каждой квартире создадут свой, особый рельеф. Я же всю свою жизнь был незаселенной квартирой, так и не успел создать свой собственный порядок. Все временно, временные профессии, временные женщины, и все мои намерения были временными. Я так и не сумел передать себя самого себе.
Почему я расстался с Юлией? Нет, я спокойно могу говорить об этом. Человека, к которому ушла Юлия, тоже звали Руди. Почему вас так назвали? Это имя можно привязать к любой местности, неважно, к Праге или к Триесту. Может, оно появилось в Сегедине. Я отчетливо вижу кухню, в которой Руди пьет по утрам кофе с молоком, керамическую черно-белую плитку, потому что все кухни, на которых вырастают Руди, одинаковы. Белград, Марибор или Брно. Я угадал? Насчет Словении? Не в честь ли симпатии твоей матери дали тебе такое имя? Ладно. Тот мой Руди, собственно, Руди моей жены, я звал его Папой Карло, он был театральным режиссером. У него была деревянная нога. Пятнадцать лет назад он гастролировал в Белграде. И вот этот Руди, то есть Папа Карло, настолько вдохновился сценографией Юлии, что вскоре пригласил ее работать над новым спектаклем в Мюнхене. Она добилась, чтобы музыку к спектаклю написал я. И тогда я создал лучшее свое произведение. Оно очень понравилось Папе Карло. Но их следующая постановка в музыке не нуждалась, и я вернулся в Белград. А Юлия нашла решение и для нового спектакля, и для Папы Карло, и для меня. Для того нового спектакля Папы Карло она полностью очистила сцену, подчеркнув пустое пространство. Знаете, как? Светом. Да, таков уж мой удел, дорогой Руди. Этот свет. Во время всего спектакля освещение не фронтальное, а контровое, невероятная пустота, осмысленная пустота, пять занавесов света, которые полностью изменяют, уничтожают пространство, точнее, создают пять различных пространств на одном и том же месте. Косые полосы света, они переламываются. На генеральной репетиции мне все стало ясно. Пять источников света не могут принести ничего хорошего. А потом туннель, как какая-то взлетная полоса. Я растерялся, потому что Юлия нашла решение, ее чувства были ограничены, и поэтому она так экономила их. Я всегда чувствовал, что ей самой нечего сказать, но она безошибочно распознавала того, кому есть что сказать. А Папа Карло, с его характерным постукиванием протеза, поставил точку. Не троеточие, но точку. Окончательную. Она ушла в мир вслед за этой деревянной ногой. Дни напролет я сидел в квартире с зашторенными окнами, воображая, что я ослеп, что живу в идеальном равновесии, в которое трещины света не вносят беспорядка. Возвращаясь ночами по шоссе из Нового Белграда, где жила Елизавета, я закрывал глаза и начинал считать. Сначала до пяти, потом до десяти. Я вел машину уверенно, неровности дороги не влияли на движение. Я оставался в своей колее. Это пугало Елизавету. Но в полной темноте все вокруг здоровое и чистое. И тогда я отказался от этой полупустой привычки закрывать на ходу глаза. А ведь я считал уже до десяти. Десять секунд езды во мраке. После смерти Елизаветы я опять начал ездить с закрытыми глазами. И начал с рекордного числа: десять… И на счете одиннадцать потерял сознание. И получил не один, а два протеза.
Каждый из нас после смерти оставляет контурный глобус. Границы государств постоянно меняются, города разрастаются, реки меняют русла, искусственные водохранилища затапливают долины. Дома рушатся, углы исчезают, в кинотеатрах гаснет свет. Доверять можно только контурным картам. И контурному глобусу. Жизнь тоже контурная. Как войти в контур? У каждого в себе есть что-то негативное, рулоны прожитых дней и лет. И так мало выходит из камеры сознания на дневной свет. Только в мгновение исчезновения можно просмотреть все непроявленные негативы. Одним-единственным взглядом охватить весь архив. Полдень в Джакарте. Мой отец передает агенту корабельную почту, но, спрятавшись за грудой исписанных фраз, вдруг становится кем-то иным. Коротко говоря, в кармане времени, который невозможно контролировать, он отдается тайной бухгалтерии. Послеполуденный ливень. Дымящийся папоротник. Голоса, доносящиеся из бамбукового дома. Письмо еще не отправилось, но через десять дней стены будут воздвигнуты. Сейчас наступило мгновение космической дыры. Он не состоит на учете. Останутся только сувениры, привезенные из путешествий, пачки писем в шкафу. Предположения, этот гигантский папоротник из семейства сомнений, спустя годы после смерти отца прорастут в монологах моей мамы. Она никогда не пряталась в тени сомнений. В партитуре всегда было нечто, что пробуждало у нее сомнение, направляло в лабиринт пауз, ложных пианиссимо, в глубинах которых звучали тимпаны и колокола. Лиги и триоли – пустая трата времени, неубедительное алиби, след черного фонда жизни. Идиллия состоит в незнании. Моя мама так никогда и не расслабилась, она просто все, абсолютно все знала. Это то знание, которое появляется во время разглядывания фотографии счастливой пары, отмечающей «золотую свадьбу». Десятилетия выпадают в осадок, потомки, собравшиеся на семейной фотографии. Но давайте немного дольше задержим взгляд на лице виновницы торжества, этой тихой старушки с ангельскими чертами лица, и тогда появляется Некто, видимый настолько, насколько виден водоворот на середине реки, как легкая рябь на поверхности реки. Это самое страшное, неопровержимый факт того, что существует Некто. Даже тогда, когда его нет, существует Некто. Я всегда хотел стать этим самым Некто. Потому что, казалось мне, только так жизнь не сумеет меня обмануть, только в этом черном фонде кроется доход, не занесенный в бухгалтерские книги, это единственное непреходящее удовольствие. Со временем оно, напротив, только крепнет. Это и есть те самые не проявленные негативы, не изученная география души. Джакарта, ливень, папоротник. Отрывок невидимой жизни, обычное мгновение, но все-таки самое близкое. Но что-то меня задевало. И печалью, и красотой. Что я был готов отдать за овладение полуминутным летним ливнем в отцовской жизни! Спрятавшись или просто укрывшись за забором слов, написанных в той тайной жизни?
И я был Некто. Я все время обманывал. И первую, и вторую жену. Не потому, что моя жизнь не удовлетворяла меня, что я не любил своих жен, но только потому, что не в силах был пропустить еще одну историю. И чем невозможнее было начать этот флирт, тем сильнее я старался попытаться, потому что именно невозможность совершить что-либо хранила меня, и я мог играть в эту игру, не обманываясь в ее реальном исходе. Я чувствовал, как возмещаю нечто недостающее в себе. В вечных поездках. Только в них я ощущал себя иным. Я был Некто. Невидимый диссонанс в идиллии, которая триумфально праздновалась на семейной фотографии. И когда флирт завязывался, я не бежал как пес, а выстраивал целую параллельную жизнь, придумывая технические возможности поддерживать ее. И больше не знал, кого я люблю. Все это повторялось. В какой-то момент у меня было несколько любовниц, и каждая история мне нравилась, и я непременно хотел в них участвовать. Так протекала моя жизнь. Я приезжал в город, где жила какая-нибудь из них. На следующий день отправлялся на рынок, прохаживался вдоль прилавков, и мне казалось, что я знаю всех тамошних людей. Как прекрасно ощущать себя гостем в собственной жизни.
Однажды, на каком-то пляже в Истрии, который называли «Индонезией» из-за бамбуковых бунгало с крышами из дранки, мой отец, увидев на террасе ресторана полуголых девчонок, сказал: «Совсем как в Джакарте». И я понял его улыбку. И узнал, что он был Некто. Что оставил след на фотографии, которая, возможно, и не была сделана, на лице, которое еще не обрело свое окончательное выражение. Он был Некто, только мысль, воззвавшая к мгновению свободы в аккуратных ящичках чьей-то головы, была тайно зафиксирована в черном фонде прошлого.
Я родился в ненадлежащем месте. Вовсе не выдумка то, что там лучше, где нас нет, это сущая правда. Это ощущается. Я всегда чувствовал, что нахожусь в неподходящем месте, и потому не ощущал местного колорита. Я сам был своими окрестностями, так я и жил. И рос я так, словно расту в неподходящем месте, тут и случилось короткое замыкание. И потому я такой, какой есть. А где оно, это настоящее место, а, Руди? Такое, чтобы там были прочные рамки, какие-то правила. Несмотря на войны и революции. Чтобы был компас. Чтобы было «там» и «здесь», чтобы были стороны света. Места пронумерованы. Заказы выполняются. На места в поезде, ресторане, театре. Десятилетиями можно пользоваться одной и той же маркой мыла. И это не мелочи.
Это и есть та самая прочная опора. Когда я могу в любой момент купить бархатные брюки, а не только тогда, когда они входят в моду. Когда антикварные лавки полны остатками чужих жизней, свидетельствующих о каких-то лучших временах. И пусть это не наши лучшие времена, пусть это не наше прошлое, все равно это лучше. Сам факт, что когда-то кому-то было лучше, свидетельствует о том, что и мне будет лучше. Что парки приведут в порядок, что наша валюта станет конвертируемой. Что козий сыр навсегда сохранит свой вкус. Что в любой день я смогу купить стельки для ботинок. Что существует постоянство, что почтальон приходит в одно и то же время. Знаю, что и там будут неоплаченные счета, в том самом настоящем месте, и там жизнь будет постоянно перестраиваться, но стройплощадка будет, по крайней мере, огорожена и на ней будет временный водопровод и генератор переменного тока. Все будет ощутимо, и все можно будет опробовать в порядке очереди и не под бессмысленные вопли.
Когда я живу там, где следовало бы жить, хотя бы и мысленно, мне сразу становится хорошо. Мама говорила, что все это из-за освещения. Это и Папа Карло сказал на генеральной репетиции. Произнес фразу моей матери. Если освещение неудачное, то все становится неправильным. И нездоровым. Почему бывает так, к примеру, что при наличии одной и той же суммы денег, планов, обязательств становится весело и все выглядит достижимым, а в другой раз оказываешься на грани самоубийства? А я ведь планировал наложить на себя руки. Сейчас совершить это намного сложнее. Но тогда, когда я был волен, эх, что это за план был! Не веришь, Руди? Это звучит прелестно. Я планировал уехать в Будапешт, потратить все деньги в борделе, а потом отправиться на поезде в Дебрецен или еще дальше, в сторону украинской границы. И впервые мне было наплевать на то, что окно не закрывается, потому что не успею простудиться до наступления смерти. По дороге уничтожить документы, чтобы никто не узнал, кто именно покончил с собой. В месте, где я никогда не хотел жить, меня сочтут без вести пропавшим. Нарядился бы бродягой, совсем неприметным. Венгрия – бульвар, по которому шатаются нищие Восточной Европы. Здесь они все собираются, она для них – зал ожидания, из которого они когда-нибудь перейдут в салон. Я забыл, как называется этот город на границе. Может, он на Украине? Туда я хотел уехать. И встает передо мной одна и та же картина: дождь льет как из ведра, все не подшито и износилось, совсем как полотенца у той моей сиротки. Переполненными улицами тащатся румыны, афганские беженцы, украинские проститутки, тибетские монахи, болгарские скупщики овощей, албанские наркодилеры, сербские сутенеры и я, бледный, с лихорадочным блеском в глазах отчаянно шлепаю по грязи мимо верблюдов. Я никогда не признавал местного колорита и потому в конце решаю уйти из жизни именно в такой мизансцене. Раз уж я не сумел найти себя, раз всю жизнь безуспешно пытался определить стороны света, ввести какие-то стандарты, чтобы молоко всегда было той жирности, какое указано на этикетке, чтобы зимой в транспорте топили, чтобы лифты работали и чтобы было неприлично обманывать. Итак, ничего этого я не сумел добиться, в том числе не сумел и навсегда самоустраниться. Но я совершенно точно знаю, что сейчас я, такой, как есть, не смогу прийти на вокзал, подняться в вагон, сойти в Врнячке-Баня, прогуляться по парку, выпить кружку минеральной воды и в тот же день вернуться домой. Или прокатиться на велосипеде, это тоже невозможно. Это неправильное место, здесь нет сервиса. Хотя что такое этот велосипед, эта забота о здоровье, эта боязнь состариться… Человек не знает, что лучше – неспешность Востока или прагматизм Запада. Единственная для меня правильная территория – вагон. Хорошо иметь своего проводника, который всегда вовремя подскажет, когда и где следует сойти, чтобы провести какое-то время в этом месте, а затем продолжить путь. Хорошо быть членом ордена
Серебряной ложечки из «Восточного экспресса». Я рассказывал вам об этом, Руди?
А может быть, в последний момент, когда я отправлюсь из Дебрецена к Украине, может быть, тогда я пожелаю успокоиться на каком-то побочном желании, и тогда… Выйду в каком-нибудь маленьком городке, сниму в гостинице комнату, пройдусь по главной улице мимо аптеки, остановлюсь перед витриной лавки с деликатесами. Колокольчик над дверью возвестит о моем появлении. Из подсобки выйдет рыжеволосая девушка с прозрачной кожей лица, усыпанной веснушками. Все это без напряга, так мягко и неслышно, что мне захочется остаться в этой лавке, чтобы оформлять витрину, разгружать доставленные продукты, убираться на складе, заносить поставки в амбарную книгу, ничуть не задумываясь о своей земной миссии. Я сразу бы расслабился, то есть даже не знал бы, что такое «расслабиться», потому что постоянно был бы укутан и убаюкан пестрыми обертками приятной провинциальной жизни. Закрыв лавку, раздевал бы мою продавщицу и приглушал свет. Еще провожая последнего покупателя к выходу и кивком головы подтверждая каждое произнесенное им слово, заботливым взглядом окидывал бы полные корзины пирожных и пузатые бутылки ликеров в витрине, мысленно уже тиская груди моей продавщицы. Я всегда ощущал эрекцию в церкви. В пустых университетских аудиториях, в подвалах и гаражах. На кладбище. Особенно там. Мне нравятся похороны незнакомых людей. Подхожу к группе скорбящих, выбираю местечко сбоку и принимаюсь тайком рассматривать лица. Чем ближе к разверстой могиле, тем сильнее эрекция. Лица изможденные, бледные, глаза опухли от слез, потемнели, тихо переговариваются. Верчу головой, будто отыскиваю знакомые лица. Черные платки, шали, узкие платья обтягивают взволнованную плоть, запах чернолесья, фотографии на мраморных плитах, венки и засохшие цветы – все это опьяняло сознанием того, что еще не конец, и я ощущал прилив храбрости, которой мне вечно не хватало. А потом в молчаливой толпе сверкнет острый взгляд, обдавая меня как утренний ветерок. Обмениваюсь взглядами с особой и потом следую за ней, отделяя ее от стада, как лев антилопу.
Разве вам, Руди, никогда не приходилось ночью бродить по улице, разглядывая фасады домов? За одним из освещенных окон или во тьме, как сова в дупле, скрывается особа, которая целиком принадлежит вам, но никогда вы не будете обладать ею. Сколько раз я в опьянении, с бьющимся сердцем стоял на улице, провожая трамваи, и, словно добрый дух города, держал все под своим контролем. Это постоянно происходило со мной во время моих побегов, когда я благодаря придуманному алиби продлевал командировку, останавливаясь в одной из возможных жизней, в двойном дне обыденности.
Однажды, помнится, в Новом Саде я провел два дня. Дождь лил не переставая, и сырой запах наполнял квартиру моей любовницы. Я проснулся рано и, не зажигая света, неслышно вышел из комнаты. Я отправился на рынок. Когда вернулся, она уже в прихожей прижалась ко мне и расстегнула ширинку. Я стоял, держа в одной руке зонт, с которого капала вода, образуя на паркете все разрастающуюся лужицу, а в другой – пакеты. Я не решался опустить их на мокрый пол. Она уже взяла мой член в рот, и он набухал. И тут я вспомнил, что забыл купить картошку, но мне нравилось, как он растет у нее во рту, и я любил ее, и потом вспомнил, что не купил картошку, потому что накануне вечером видел ее на террасе, а картошки нет у меня дома, в привычном жилище, и перед отъездом сюда я подумал, что надо бы купить картошки, а тут вот вода на паркете и мой член в ее губах. Я опустил пакеты на пол так, чтобы они не попали в лужу. Потому что на дне одного из пакетов был хлеб, и он наверняка бы размок. А член уже пульсировал. И мне было хорошо, потому что все в порядке и что на всех принадлежавших мне террасах есть все необходимое. В том числе и картошка. Я выключил свет. В прихожей было темно. Я был здоров. Я бросил зонт. Я расслабился в темноте, хотя и чувствовал воду на полу прихожей, когда наконец обнял ее освободившимися руками. Этажом ниже разговаривали соседи. Я слышал отдельные слова, «сегодня водопроводчик придет», и «вы слышали, отопление подорожало», и «как вы сумели заснуть в таком шуме, это просто недопустимо». Я слышал все и словно не слышал ничего.
Посмотри на этого типа, вон там. Адвокат, выпускник Гарварда. Ему уже за шестьдесят, а бегает. Какая незадача. Больной дух в здоровом теле. Вечно любезный, ежеминутно проверяет каждую жилку, каждую морщинку. Давление, сахар, простата – все под контролем. Кредитки аккуратно сложены в бумажнике. Два раза в неделю теннис. Живет сам, но с одиночеством не мирится. Он одинок не для того, чтобы испытывать на себе безмерное одиночество, просто так дешевле. Чем дольше продвигаешься с Востока на Запад, тем сильнее ощущается одиночество. Там все только потребляют. И ничего не ценят. Им все равно – мазать бельков зеленой краской, чтобы испортить мех и тем самым спасти от охотников, или покупать этот самый мех в элитных парижских бутиках. Всего у них полно. И это тоже тот самый человек, который находится в центре мироздания. Говорят, что сердце мира стучит в Манхэттене. И там точно известно, как тебе надо выглядеть на Уоллстрит, а как в Гринвич-Виллидже. Откуда я это знаю, Руди? У меня спутниковая антенна, и я еженедельно смотрю по одной программе одной из стран. Я еще не видел ни одного триллера, в котором появился бы простуженный детектив. Почему каждую историю следует заканчивать? Хоть я и не знаю язык, слова мне много о чем говорят. Всегда одна и та же улыбка, та же одежда, те же жесты. Заботиться о том, как ты выглядишь, показать себя так, чтобы сразу узнали. Потреблять и только потреблять. Мир – истощенный рудник, все выкопано. Сердце у меня заболело, когда узнал, что самые крупные европейские автомобильные заводы используют одни и те же детали, их автомашины отличаются только внешним видом. А между тем все соединения, коробки передач, выхлопные трубы – все одинаковы. Так и люди, все меньше они отличаются друг от друга. Куда не приедешь, всюду одно и то же. И разве не аморально есть спаржу, живя на севере? Тотальная доступность вредит здоровью. Жить по камерам, по своим регистрам. Тогда есть к кому сходить. Проблема мира состоит в том, что все места в нем ужасно одинаковы. А туда, где все, как у тебя, ехать смысла нет.
«Важно, чтобы он не терял времени», – этой фразой заканчивался каждый разговор моих родителей о моем будущем. Тогда я еще не понимал, какую именно активность они имеют в виду, говоря о том, чтобы я не терял времени. Я и сегодня этого не понимаю, как не знаю и того, почему бурной деятельности достаточно, чтобы не терять времени. И существует ли вообще такой вид деятельности, который сам по себе является пустой тратой времени?
Может быть, наш сосед, господин Ходак, напрасно терял время, часами перелистывая регистрационную книгу гостиницы «Централ», в которой провел почти всю жизнь, работая портье. Переворачивал пожелтевшие хрупкие страницы формата «ин фолио», читал фамилии постояльцев, их личные данные, занесенные в рубрики побледневшими чернилами. Господин Ходак вспоминал тех, кто надолго останавливался в гостинице, несмотря на то, что с тех пор миновал уже не один десяток лет. В основном это были молодые офицеры, не ночевавшие в казармах. И мой отец, в то время флотский унтер-офицер, некоторое время, сразу после окончания войны, жил в гостинице «Централ». Мы нашли его имя в одной из регистрационных книг за 1949 год, дату его заселения и номер, в котором он жил. Я верил, что господин Ходак хранит в своей памяти досье на моего отца. Он помнил многих обычных постояльцев гостиницы, даже довоенных, и во времена Италии, вспоминал важные события, связанные с гостями этого городка на краю света. Большая часть жизни господина Ходака сводилась к коллекционированию постояльцев, зарегистрированных в десятках книг на протяжении десятилетий. Каждый запомнившийся ему гость становился наклейкой на фрагменте его собственного времени. К концу жизни он отчитывался перед самим собой о пройденном расстоянии, пересматривал товарные накладные и путевые листы. Документы на сыпучий груз, который он перевозил всю свою жизнь, какой бы фиктивной она ни была, стали единственным доказательством не напрасно прожитой жизни.
Я тоже готовился к торжественному акту отчета о потраченном времени. В попытках побороть этот порок я все глубже погружался в апатию, предчувствуя, что израсходованное время утрачено навсегда. Я валялся в кровати после полудня. Развлекался пустяковыми мыслями, и как только догадывался, что это и есть пустая трата времени, ловил следующую мысль в пруду своего ума.
Долгое время меня мучила одна проблема, которую походя упомянул учитель истории. После Трианонского договора, когда Венгрия потеряла две трети территории и почти половину населения, которое вдруг оказалось на территории соседних государств, большой проблемой стали железные дороги. Важные железнодорожные узлы после Трианонского договора очутились за границей, и перед Венгрией на многие годы встали технические проблемы. В мыслях я поездом отправлялся из Будапешта к новым границам, где ночами напролет ожидал пересадки. В прокуренных вокзальных ресторанах слушал разговоры, не понимая ни слова. Разглядывал спящих детей. Их присутствие невыносимо. Сколько раз они портили мне впечатление от путешествий. В правильно устроенном мире должны быть специальные вагоны для матерей с детьми. Почему ни в чем не повинные люди должны сносить террор этих созданий? Дети в поезде мешают мне вовсе не потому, что плачут или сильно шумят. Мне мешает то, что они ломают мои мысли, и даже если они хорошо воспитаны, их взгляды просто невыносимы. Таким взглядом я смотрю на себя сам и узнаю в испуганном ребенке на сцене, глубоко утонувшей в прошлом, в кулисах отчего дома самого себя.
Одной из важных точек в топографии нашего дома была плетеная корзина для белья. Перед купанием я поднимал круглую крышку и, бросая грязное белье в корзину, замирал на мгновение, проверяя, нет ли в корзине еще чего, кроме белья. Потому что форма корзины напоминала фотографию, сделанную отцом в Бомбее: на тротуаре сидит на корточках индус с флейтой, а рядом с ним глиняный горшок, из которого выглядывает кобра. Каждые пять-шесть дней мама опустошала корзину, напоминая мне и сестре, чтобы мы тут же загрузили все грязное белье в машину. Чтобы корзина хоть раз переночевала пустой.
Момент, когда осквернялась пустота корзины и на ее дно падал комок грязного белья, вызывал у меня какую-то затаенную тоску, понимание того, что, несмотря на ритуал поддержания чистоты и порядка, ничто не может длительное время пребывать в покое. Я мечтал о наступлении момента идеального порядка. И потому позже не раз включал полупустую машину, лишь бы как можно чаще видеть пустое дно корзины. Потому что, глядя на голубоватое полотно, которым корзина была обтянута изнутри и которое также два-три раза в год стирали, я находился в состоянии полного умиротворения. Может, именно оттуда ощущение свежести, которое у меня вызывает голубой цвет?
У самой корзины, в углу ванной, стояла стиральная машина, полуавтомат марки «Зопас». Сейчас я не могу припомнить, что означал термин «полуавтомат», но знаю, что мама иногда в процессе стирки доставала из машины белье. Технические аппараты наполняли пространство квартиры соответствующими запахами. Холодильник «Игнис» объемом в две сотни литров издавал характерный звук. А когда температура в нем достигала необходимого уровня, мотор отключался автоматически. На мгновение холодильник вздрагивал и прекращал потреблять электричество, соответственно мотор не издавал звуков, все замирало в ледяном спокойствии и тишине. В трех метрах от холодильника, как то предписывали правила, находилась небольшая плита марки «Аустрия-Дитмар» с двумя конфорками, металлические ободы которых после десяти лет эксплуатации идеально сверкали, «как будто только вчера из магазина». Да, это объявляет мамин голос. И я знаю, что настало время проверить, открыта ли крышка машины, чтобы барабан находился в постоянном контакте со свежим воздухом, чтобы резиновая прокладка в закрытом пространстве не разбухала от влаги. На хромированных частях белой техники время от времени вследствие небрежности появлялись пятна, которые потом превращались в проржавевшие точки. Старение вещей и предметов указывает мне на то, что все проходит, лучше морщин, которые обнаруживаю, разглядывая себя в зеркале после бритья. Но и на раме зеркала влага оставляет серенькие пятнышки, а белые полоски между кафельными плитками в ванной и на кухне со временем темнеют, и нет никакого средства, чтобы с его помощью вернуть им прежний цвет. Ни в чем нет утешения, словно единственное место, где сохраняется девственное совершенство начала, – пустая бельевая корзина.
А когда ее голубоватое дно закрывали грязные предметы одежды, начинался период нервозности, который стихал обратно пропорционально опустошению корзины. Потому что совсем не то, когда грязная рубашка летит в почти полную корзину, чем момент, когда первый комок несвежего белья падает на пустое дно. О каком чувстве беззаботности можно говорить, когда в практически полную корзину падает очередная тряпка? И до мгновения опустошения корзины еще далеко.
И вот тут, среди вещей и предметов, происходила жизнь, не зафиксированная ни в хрониках, ни в истории, невидимая жизнь, не существующая на живописных экранах телевизоров. Этой жизнью не интересуются газеты, ее нет ни в книгах, ни на киноэкранах. Несмотря на то, что в нашем доме не случалось преступлений и измен, громких побегов и краж, несмотря на то, что жизнь на первый взгляд текла мирно и незаметно, как равнинная река, под ее поверхностью таились водовороты, подводные пещеры сковывали ледяным холодом. В отсутствие матери мы с сестрой предпринимали настоящие экспедиции, шаря в шкафах и комодах, вытаскивая ящики, открывая коробки и шкатулки. Необычные предметы сразу расширяли знакомую географию. И позже, когда мы обнаруженное возвращали на место, ничто уже не оставалось прежним. Потому что обнаружение серебряного флакончика для духов величиной с наперсток, веера из фальшивой слоновой кости или каталога из универмага с пожелтевшими страницами раздвигало пространство квартиры до невероятных размеров.
Известное равновесие в восприятии времени как враждебной категории, которую исповедовала моя мама, сохранял Миодраг, мой дед со стороны отца. В отличие от мамы, всю свою жизнь боровшейся против категории времени, как будто время было врагом, которого непременно следует победить, дедушка Миодраг жил в вечности. По профессии он был диспетчером на железной дороге, но после возвращения из тюрьмы, куда он попал во время ссоры Тито со Сталиным, его разжаловали, и несколько лет он работал обходчиком на дистанции Сичево – Острвица. Где посередине этого пути стоял домик, в котором он жил с моей бабушкой Даницей.
Летом мы отправлялись поездом на другой край земли, пересаживались в Белграде и Нише, после чего «рабочим в три ноль-ноль» добирались до станции Сичево, где на перроне нас встречал дед Миодраг. Каждое утро, до рассвета, он брал фонарь и отправлялся на обход своей дистанции. Он был высоким и без всяких усилий перешагивал со шпалы на шпалу.
Во время моего детства деда Миодрага восстановили в должности диспетчера на станции Сичево, а два года спустя отправили на пенсию. Одну вечность он сменил на другую. Став пенсионером, просыпался с петухами и, выпив чашку кофе и рюмку ракии, уходил вниз по дороге в направлении Острвицы. С этих утренних обходов он приносил вещи, найденные на полотне, в основном предметы, по невнимательности выброшенные из вагонов-ресторанов или же оброненные пассажирами, стоявшими у окон вагонов. Коллекция деда располагалась на стеллаже в нише, на внутренней лестнице, связывающей первый этаж с подвалом. Я помню серебряную ложку с монограммой «Восточного экспресса», зажигалки, очешники, часы, трубки, авторучки, мундштуки, браслеты, пепельницы, цепочки, маленькие чайнички из нержавейки, сережки, стаканы, перочинные ножики, ключи, пластиковые подставки. Помню большую тарелку с монограммой «Metrope», которую дед Миодраг нашел у полотна в картонной коробке. Каким-то чудом на тарелке не оказалось ни единой трещинки. В коллекции находок был шахматный король из слоновой кости. Я никак не мог понять, каким образом эта самая важная фигура закончила свой путь на насыпи. Неужели какой-то разгневанный игрок выбросил короля в окно, не в силах перенести проигрыш? Но зачем брать в дорогу шахматный комплект из слоновой кости? Я часами раздумывал над тем, как владелец шахмат решил проблему потерянной фигуры, проблему, которая наверняка была сложнее любой шахматной задачи; нашел ли он своему королю подходящую замену? Первые часы, швейцарскую «Омегу», я получил в подарок от деда Миодрага, трофей, который он подобрал на насыпи за два дня до моего двенадцатого дня рождения. Пришлось только заменить треснувшее стекло и порванный ремешок.
Я выбирал момент, когда взрослые были заняты, и незаметно пробирался на лестницу, ведущую в подвал. Здесь, рядом с длинным узким окном, которое казалось трещиной на фасаде дома, я перебирал экспонаты коллекции деда, подолгу разглядывая их, стараясь проникнуть в прошлую жизнь предметов. На полках стеллажа теснились вещи, по небрежности утерянные на участке дороги Сичево – Острвица, вещи, выпавшие из своих прежних жизней. Я брал ложку из «Восточного экспресса» и рассматривал мутную посеребренную поверхность. Кто знает, как долго она гуляла от одного рта к другому.
И вдруг передо мной возникали десятки, сотни челюстей, я словно оказывался в пасти кита, в темной пещере, освещавшейся только блеском золотых коронок. Я видел пломбы и мосты, протезы и крючки, пахучие губы дам и усы господ, мокрые от супа и пива. Ложка из «Восточного экспресса», предмет, который объединял сотни людей, разбросанных по просторам земного шара, людей, которые наверняка никогда не встретятся, но составляющих огромную семью, лежала теперь на моей ладони. И я по какому-то тайному наитию вычислял вероятность, в соответствии с которой однажды в поцелуе сольются те, кто в разное время касался губами краев этой серебряной ложки. Пространство было все тем же: вагон-ресторан «Восточного экспресса». За окнами, украшенными синими занавесками, проносился пейзаж, пустынные станции с одинокими дежурными, окраины незнакомых городов.
В хранилище, расположившемся на лестнице, пульсировал неизвестный миниатюрный мир, законсервированный в уменьшенном масштабе, и я счел это одним из важнейших принципов мироустройства. И только звук колокола на фасаде дома, звук, который был громче звонка служебного телефона, висевшего в желтом металлическом футляре у входных дверей, прерывал мои путешествия. Если колокол звонил трижды и после короткого перерыва ударял еще два раза, это означало, что поезд следует из Ниша, а два, затем три удара указывали на поезд направления Пирот – Димитровград – София. Эта азбука Морзе особенно волновала ночами. Громкий звон иногда пробуждал меня из первого сна, и тогда я вслушивался, как издалека, от Ниша или Пирота, раздается свисток локомотива и размеренный стук колес. Когда поезд оказывался метрах в ста от дома, стоящего у самых рельсов, пучок света врывался в окна, и в следующее мгновение на белых стенах комнаты начинали, вздрагивая, проноситься отсветы окон вагонов. Окна входили в окна и путешествовали по белым стенам. В следующие несколько мгновений казалось, что я тоже еду в этом поезде, как будто комната прицеплена к составу, который уже исчезает в темноте.
Дед Миодраг в отличие от моей мамы, которая была невысокой и подвижной, был нетороплив. Маленькие люди нуждаются в большем количестве движений, чем высокие, для преодоления такого же расстояния. Дед Миодраг был высоким человеком. Он жил в вечности, и я знал это по тому, как он с одинаковым интересом читал и вчерашние, и недельной давности газеты, и совсем свежие, только утром поступившие в киоск у станции. Дед часто говорил, что идеальна та скорость, которая позволяет нам вовремя оказываться на нужном месте. Хотя скорость и сокращает пространство, что наглядно демонстрирует железная дорога, у всего, однако, есть свои границы. Поезд, пришедший раньше положенного, нарушает расписание. Я понял это так, что размеры каждой страны зависят только от скорости поезда, и верил, что наша страна больше Франции или Германии, где поезда носятся с невероятной скоростью и проезжают от одного конца до другого намного быстрее, чем в моей стране, где поезда не только медленнее, но и дольше стоят у семафоров на станциях, и потому из-за скорости и опоздания составов моя страна необозрима. Я всегда представлял вечность как стояние поезда перед семафором. Ты, Руди, когда-нибудь встречал нервного железнодорожника?
* * *
Моя мама мечтала о маленьких вечностях, не ведущих учет времени, стремилась к каким-то аппендиксам времени, в которых можно завершить незаконченные дела. А одно из дел, которое она не могла закончить на протяжении многих лет, было приведение в порядок альбомов с фотографиями. Все свое детство я слушал рассказы о том, что ей нужен по крайней мере месяц, чтобы разобраться с фотографиями. Отец был страстным фотографом, в связи с чем у нас накопились тысячи фотоснимков. Мама складывала их в картонные коробки и регулярно покупала альбомы. Помню с десяток дорогих альбомов, с которых даже не сняли целлофановую упаковку. После ее смерти остались альбомы и коробки с фотографиями. Она мечтала о времени, когда сможет остановиться и глянуть на пройденный путь. Я потратил ровно месяц, тот самый, которого ей вечно не хватало, чтобы разобрать все фотографии по альбомам и ощутить на себе ее взгляд, и этот призрачный взгляд позволил мне обернуться назад.
Фотографии я сложил в хронологическом порядке. На обратной их стороне карандашом были обозначена дата и место съемки. Тем не менее там не было имен персонажей. Однажды утром я разложил фотографии на полу в линию. Вереница фотографий протянулась по всей квартире, и вела она от входной двери через прихожую и гостиную до окна в спальне. Я шагал вдоль них как вдоль железной дороги. Шпала за шпалой. Всего в двадцать шагов я преодолел пространство целого века. Возвращался и опять шел вдоль фотографий. Целые поколения лежали здесь, рядом со мной, уместившиеся на расстоянии нескольких шагов.
Это превратилось в мои плавания, которые я какое-то время совершал ежедневно. Потому что, только расхаживая по квартире, мне удавалось бежать от одолевающих меня мыслей. Стоило только остановиться и усесться в кресло, как я сталкивался с собственным кровообращением, со сложным механизмом человеческого тела, которое в любой момент из-за какой-то поломки может прекратить функционировать. А поломку, я был убежден, может вызвать сама мысль о поломке. Я ходил вдоль этой дороги, составленной из сотен фотографий. На каждом шагу открывались новые пространства, населенные людьми, давно покинувшими этот мир. Я проникал в трещины времени, прислушивался к голосам, сталкивался с привычками этих незнакомых людей.
Отец, перестав плавать, окончательно бросив якорь, со временем приобрел новую привычку: принял на себя обязанности семейного интенданта. Мы уже жили не в маленьком приморском городе, а в Белграде. Каждое утро он ходил в магазин, а после десяти на рынок. Так что через полчаса после завершения утренних покупок у него появлялся повод вновь выйти из дома. Случалось, он отправлялся в центр города только для того, чтобы проверить, не сняли ли с репертуара фильм, который они с мамой хотели посмотреть. Газетам он не верил, потому что те якобы часто ошибались.
В течение дня количество обязательств возрастало. Если он замечал на моем столе адресованное кому-то письмо, то немедленно относил его на почту. Возвращался через полчаса с этим же письмом в руках, чтобы спросить, отправить его простым или заказным. Поначалу я думал, что его забывчивость связана с возрастом, но вскоре понял, что отец поступает так намеренно. Он постоянно искал предлог покинуть дом и несколько часов побыть наедине с собой, занявшись единоличным передвижением. Он никогда не пользовался телефоном, чтобы выяснить часы работы мастерской или врача или узнать, есть ли в лавке на другом конце города именно то, что он намеревался купить. Для поездок на городском транспорте у него был проездной билет пенсионера. Рано утром он уезжал на самые отдаленные рынки. Сыр покупал на Каленичевом, фрукты и овощи на Зеленом Венце, а лапшу на Байлониевом, оправдывая ежедневные походы сомнительными причинами. Возвращаясь с рынка, точнее с рынков, он выяснял, что забыл что-то, и сразу же отправлялся вновь.
Сейчас я понимаю, что это были его плавания, когда он часами, ежедневно, плавал на городском транспорте по отдаленным белградским кварталам. Путешествуя трамваем с Вождовца, где мы долгое время жили после переезда из приморского города, в направлении Банова Брдо или Нового Белграда, он мысленно преодолевал расстояние от Риеки до Порт-Саида, от Фленсбурга до Карачи, от Гибралтара до Сингапура. В белградской квартире не было огромного эркера, который мог бы заменить ему капитанский мостик. Во время побегов из дома он опять был капитаном на мостике с мутной линией горизонта перед собой, а в автобусе или трамвае, положив ладони на спинку переднего сиденья, воображал, что касается отполированной поверхности штурвала. В особом отделении бумажника он держал образцы самых разных валют, от японских иен до кувейтских динаров. У него были огромные пестрые банкноты африканских стран. Некоторые из них уже исчезли с карт, но их археологические следы все еще существовали в его бумажнике. Он приплывал в порты исчезнувших держав, покупал вещи, расплачиваясь вышедшими из употребления деньгами, разговаривал с портовыми агентами, визитки которых продолжал хранить в пластиковом конверте. Часто вспоминал знаменитого Бородача, агента из Бомбея, уроженца Корчулы, с которым некоторое время переписывался. Но и перестав плавать, отец верил, что однажды получит срочный вызов от компании с требованием немедленно явиться на пароход. Однако это было маловероятно, потому что ему пошел уже седьмой десяток, и компания, в которой он проработал много лет, вряд ли бы стала платить солидную обязательную страховку за престарелого капитана и звать его на пароход.
Мне кажется, что, плавая по городу, он обнаруживал в себе черты своего отца, так же как я сегодня узнаю в себе его привычки. Ритм движений определил дед Миодраг, шаг за шагом, шпала за шпалой на участке дороги Сичево – Острвица.
Справа от полотна текла река Нишава, в пятидесяти метрах слева проходила автотрасса, по которой неслись дорожные крейсеры с регистрационными номерами Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока. Выйдя на автотрассу, я садился в тени паркинга и рассматривал большущие рефрижераторы и грузовики с прицепами и огромными кабинами. Метрах в двухстах в направлении Острвицы, рядом с гидроэлектростанцией, находился мотель, в котором ночевали шоферы. Каждое утро рыбача на Нишаве, я передвигался в сторону Острвицы, к полудню поднимался на крутой берег, переходил железную дорогу и направлялся к мотелю. Рядом с мотелем, в лощине, засаженной виноградом, стоял списанный спальный вагон с несколькими купе, в которых жили официантки. Окна прикрывали выцветшие фиолетовые занавески. Время от времени в дверях вагона-бунгало появлялся кто-то из шоферов. Я наблюдал, как он пробирается к грузовику. Темное облако выхлопных газов вырывалось из-под грузовика как джин из лампы Аладдина. Грузовик исчезал в направлении Ниша или Пирота. Однажды в полдень, когда я рыбачил на Нишаве, подошла Ружа, молодая официантка из мотеля, и остановилась поговорить со мной. Она приблизилась ко мне, и я, Руди, впервые едва не упал в обморок от одной только мысли, что могу прикоснуться к ней. Обморок от одного только желания женского тела. Она сказала, чтобы я вечером пришел в мотель. Весь остаток дня я страшно волновался, и когда вечером тайком вышел из дома и направился к мотелю, меня стала бить дрожь. Приблизившись к террасе, я увидел Ружу, беседовавшую с посетителем. Спрятавшись за деревом, я стал свидетелем встречи, закончившейся в вагоне. Несколько дней спустя я уехал и Ружу больше никогда не встречал.
Мысленно я переносился в тот вагон, куда Ружа ушла с тем клиентом, и возбужденно мастурбировал. Образ молодой официантки вскоре растаял в памяти. И только вагон остался в ней, темно-синий списанный спальный вагон в тени деревьев, всего лишь в сотне метров от полотна дороги. Годами он носился по рельсам, корчились в любовных судорогах его обитатели; случайные встречи в коридоре, короткие взгляды, достаточные для того, чтобы выкурить сигарету, заменяли дни и недели ухаживаний; смелость, которую из-за кратковременности свидания принимают за уверенность, миг свободы от оков обязательств и ритуалов, жестких норм поведения, никчемный багаж воспитания – все исчезает, когда взгляды безмолвно обещают нечто. Я, Руди, нуждался в чем-то большем, чем обещание. Совсем недавно, пару лет тому назад, во время просмотра какого-то фильма в памяти всплыла фраза, которая, словно приговоренный к пожизненной каторге, томилась в глубине моей памяти. Не знаю, какая именно деталь или слово, произнесенное в фильме, из-за чего скрипнула дверь камеры, в которой томилась фраза, произнесенная маминым голосом: «А когда какая-нибудь девушка уведет тебя во мрак…» Второй части фразы не хватает. Видимо, она навсегда утрачена. Исчезла в тени тех самых деревьев у мотеля в Сичеве.
Я всегда вздрагивал, когда голос из репродуктора, объявляя отправление поезда Белград – Прага, упоминал прямой вагон на Дрезден. Загадка «прямого вагона», который на какой-то будущей станции отделится от состава и после короткого маневрирования вновь окажется в другом составе, который тронется совсем в другом направлении, пробуждала во мне любопытство. Я подходил к этому вагону как к святилищу, рассматривал пассажиров, не отличавшихся от прочих погрузившихся в зеленые вагоны.
Погружаясь в сон, из которого меня часто пробуждал колокол на фасаде дедова дома, объявлявший прибытие поезда из Ниша или Пирота, я представлял, как просыпаюсь на рельсах какого-то далекого города, как моя комната-вагон летит по дорогам Европы, как по Транссибирской железной дороге прибываю во Владивосток. Потому что моя комната-вагон и есть тот самый «прямой вагон», который, путешествуя по стальным рельсам, меняет направление и после короткой стоянки на параллельном пути включается в новый состав. Мой вагон путешествовал вдвойне, он путешествовал внутри путешествия. Он не мог ни опаздывать, ни прибывать раньше времени. Замершее мгновение вне всяких календарей. Интервал, который никогда не кончится. Не подлежащий окончательному расчету. Время внутри времени, пространство внутри пространства. Моей мечтой было провести жизнь, не покидая вагона. Принадлежать только тому миру, который несется по рельсам. Пожизненный проездной билет как единственный паспорт, единственный документ, с которым можно на минутку выйти на перрон, заглянуть в залы ожидания небольших станций, названия которых забываются еще до того, как вы их произнесете. Перроны и стрелки, станционные рестораны и камеры хранения, каморка дежурного и вокзальные киоски. Рассказы пассажиров, с которыми некоторое время делишь пространство купе или вагона-ресторана. В дымном купе каждый становится рассказчиком, с глазу на глаз со спутниками, с которыми никогда более не встретится. Каждый немедленно выдумывает собственную биографию, самому себе кажется кем-то другим, пересказывает события, которые с ним никогда не приключались. Если повторять выдуманные происшествия, то они случаются. И тогда остается только взгляд, приглашение и разрешение одновременно, взгляд, который я не сумел понять, наверное, из-за той темноты, которую моя мама определила опытным взглядом работника сцены.
Суть моего вагона – «прямого вагона» для езды по всем желательным направлениям – возникла в пространстве внутренней лестницы, связывавшей первый этаж с подвалом дедова дома, в полумраке, рядом с узким окном у лестницы высотой в два и шириной едва ли в полметра, напоминавшим трещину на фасаде дома. В этом пространстве неопределенного назначения, окружавшем внутреннюю лестницу стеллажами, на которых бабушка держала заготовки на зиму и где были полки с коллекцией найденных дедом предметов, а также с вещами, которые окончательно вышли из употребления, но все-таки откладываются на неопределенное время, которое никогда не наступает, находилась моя строительная площадка. Это безымянное пространство, одновременно исполнявшее функции лестницы, коридора и кладовки, с окном-трещиной, окном, перегороженным одной вертикальной и семью поперечными рейками, в результате чего оно напоминало часть шахматной доски: окно-ничья. Потому что здесь в начальной позиции фигуры отдыхают от ходов и касаний пальцев. Каждое окошечко узкого лестничного окна изображало одну шахматную клетку в ничьей. Стекла были мутными и серыми из-за пыли. В самом низу этого продолговатого окна, в нижнем ряду, правое угловое окошечко можно было открыть и зафиксировать небольшим металлическим крючком. Летом из-за продуктов, сложенных на стеллажах, окошечко было постоянно открыто – пустой квадрат, который на полной шахматной доске был предназначен для ладьи.
Сквозь это отверстие я целился во внешний мир: в рыбаков, чабанов, овец, скалы на берегу Нишавы, которые в засушливые летние дни увеличивались вплоть до августовских дождей, когда река вздувалась, а огромные камни за ночь исчезали в мутной рыжей воде. Это был признак того, что летние каникулы заканчиваются и одним прекрасным ранним утром мы отправимся на железнодорожную станцию Сичево, а оттуда поездом на другой конец страны, в приморский город, где меня ждет размеренный ритм обычной жизни. В долгие сентябрьские сумерки, сгорбившись над книгами и тетрадями, я вспоминал это окно в дедовом доме в Сичеве и маленький квадрат в самом его низу, сквозь который я сейчас, сидя за письменным столом, смотрел на совсем иные пейзажи: далекие портальные краны верфи, корабли в заливе, цементный завод, который своими формами напоминал гигантскую шахматную ладью.
Моя комната, «прямой вагон» в любой город, какой я придумывал в мгновение ока, передвигалась по красным линиям железных дорог. Я пальцем прослеживал по карте задуманную линию путешествия, а в раме окошечка величиной с пустое поле шахматной доски сменялись пустые окраины безымянных городов, площади с барочными соборами, бескрайные равнины и голубоватые снежные вершины. Виды менялись со скоростью движения поезда. Все полуденные часы я проводил в камере собственной комнаты, этом передвижном кинематографе, в котором с годами менялся репертуар, так что экстерьеры в моем подростковом возрасте сменились интерьерами. Пейзажи стали статичными, поезд как будто стоял на месте, по невнимательности железнодорожников забытый в каком-то тупике. Я шатался в зимних сумерках, обходил пустые перроны, заглядывал в залы ожидания, сквозь затуманенные окна вокзального ресторана рассматривал одиноких посетителей, часами ожидавших отправления. Я воображал себя невидимкой, словно тень следящим за некой только что приехавшей девушкой и теперь с сумкой через плечо спешащей темными улицами к своему дому. Я следовал за ней, касаясь ее шеи, грудей, бедер. А проникнув вслед за ней в квартиру, переставал быть невидимым. Ничуть не пугаясь, даже не удивляясь моему появлению, она прижималась своими губами к моим, я чувствовал, как ее язык заполняет мой рот. Возбуждение, которое я переживал, целуя незнакомую девушку, заставляло меня терять сознание, как тогда, когда я впервые, сидя на ступенях дедова дома, положил в рот ложку из «Восточного экспресса».
Мы занимались любовью в кровати, на полу, рядом с этажеркой, которая сотрясалась от наших движений. Я скользил взглядом по корешкам книг, невольно замечая названия. Вдруг все внезапно сделалось известным – имя девушки, город, в котором она живет, окружающие ее люди, ее планы и ее прошлое. Сразу стали знакомыми вещи в квартире, предметы – каждый со своей историей. И тогда я, зажмурившись, впадал в транс, когда во мраке с зажмуренными глазами искал какую-то записку, скажем, со списком вещей, которые завтра намеревалась купить моя знакомая, и задавал себе вопрос: нормален ли я? Могут ли мои ровесники, сидя за столом, путешествовать в неком своем «прямом вагоне» в любом желаемом направлении? И путешествуют ли вообще? Или же, вероятнее всего, не теряют, как я, время, а по плану исполняют свои обязанности. И за это их вознаграждают любовными связями, прогулками с девушками, походами в кинотеатр, а потом и в парк. И все-таки я чувствовал по какому-то своему тайному расчету, что все это не случайно, что отсутствие результата и есть верный знак того, что я стою на правильном пути. Итак, именно то, что я из-за своей невероятной застенчивости все еще оставался без девушки, должно было означать, что жизнь моя в дальнейшем будет изобиловать любовными авантюрами.
Моей маме особенно нравилась книга «Трагедия гения», которую она часто читала перед сном. В ней описывались истории знаменитых людей, которые в молодости были особенно неудачливыми и несчастными. А ведь талант любит маскироваться под бездарность. И как правило, все эти гении, прежде чем доказать свою гениальность, долго добивались противоположных результатов. Скажем, лучшим доказательством гениальности физика служит то, что поначалу он ничего не понимает в ней. И в этом деле есть что-то от техники соблазнения – сначала отсутствие интереса к объекту любви вызывает у него ревнивое чувство, спровоцированное эдаким равнодушием. Решительный момент наступает, когда мы сбрасываем личину притворной незаинтересованности и переходим в атаку. В этом и состоит врожденный талант соблазнителя, который, как и вино, требует выдержки в бочках, в темноте подвалов юношеского нетерпения. В моем случае период кипения затянулся очень надолго. Однажды открытая бочка стала неиссякаемым источником любовной страсти, которая, как я верил, не покинет меня до глубокой старости.
Ее звали Клара. Уже в первом классе гимназии она слыла одной из самых красивых девушек в городе. У нее были кратковременные связи. А потом стала любовницей известного местного художника. Через год она бросила его, и он запил. В одном из кафе выставил пустые полотна.
В молодые годы, Руди, дерзость – единственная действующая валюта. А во мне накопились одиночество и страх. Клары наказывают. Я уехал из маленького города. Только двадцать пять лет спустя, после смерти Юлии, я приехал в город своего взросления. Это было тем летом, когда я уехал в Италию. Неузнанный, как граф Монте Кристо, я провел в этой темнице три дня. Я ненавидел этот город, продолжая верить, что в других координатах стал бы кем-то иным.
Я узнавал улицы, углы, фасады. И все-таки, Руди, это был совсем другой город. Тут у меня заболел зуб. В гостиничном телефонном справочнике я нашел адреса стоматологических кабинетов. Через полчаса я уже сидел в зубоврачебном кресле своего товарища по гимназии. Он беспрерывно говорил, как будто отчитывался передо мной за все время моего отсутствия. От него я узнал, что три года назад покончил жизнь самоубийством тот самый художник, что выставлял пустые полотна. Вспомнил и Клару, нашу подругу. В промежутке – а этот промежуток по сути был самой жизнью – Клара жила в Париже.
Маленький город – интервал, пауза, место отдыха. Маленький город существует для того, чтобы из него уезжали. Все происходящее после этого – проверка. Путешествия – неудачная версия того самого нашего внутреннего единственного путешествия, путешествия от окна к креслу, от стола к постели. Как рассказал мой приятель, пять лет назад Клара вернулась в наш город. Опять стала сожительствовать с художником, который ради нее оставил жену и двоих детей. Он повесился в гараже, когда она бросила его. Приятель положил мне в дупло мышьяк и велел через три недели посетить своего дантиста, чтобы тот поставил пломбу. Узнав, что я только что приехал и собираюсь пробыть в городе еще два дня, он предложил посетить вечеринку, которую устраивал наш общий знакомый. Я принял приглашение. Предчувствовал, что там будет Клара.
Когда около девяти часов вечера мы пришли в одну из вилл итальянских времен, с каменной балюстрадой и огромным двором с пальмами, калиной и кустами олеандров, там уже было десятка два гостей. На веранде стоял длинный стол с закусками, разливалось вино. Мне показалось, Руди, будто я попал в разгар съемок какого-то фильма совершенно неподготовленным, не имея ни малейшего представления о своей роли, точнее, кого я должен подменить, попадая в кадр. Знакомых времен молодости я едва узнавал. Мы разговаривали, ели салаты, пили вино. И тогда на тропинке во дворе появилась Клара. Она все еще была красива. Тело, которое наслаждалось, душа, которая не разрывалась от одиночества и страсти, остается красивым в любом возрасте. Это остается, Руди. Как остаются следы одиночества, напрасно потраченной молодости. Когда она проходила мимо нас, мой приятель схватил ее за руку. Да, Клара припомнила меня. Вспомнила места, на которых мы встречались в молодости. Мы говорили так, будто сто лет знаем друг друга. Она жила одна. Работала заведующей хозяйством в местном театре, вела активный образ жизни во все уменьшающейся колонии холостяков, к которой принадлежал и мой приятель-дантист. И вдруг тот факт, что через два дня я продолжу путешествие, что, может быть, никогда больше не приеду в город, где вырос, в город, оставивший рубцы после преодоления агонии взросления, внезапно сделал все легким и пустым. Камень свалился с моей души. Мы пили, Руди, мы много выпили. С каждым глотком мальвазии я все глубже скользил по желобу времени в далекую молодость. Мой приятель удалился. Мы остались вдвоем. Она соблазнительно стояла рядом на террасе, слегка касаясь меня, когда я вспоминал о какой-то детали времен нашей молодости. Она закатывалась от смеха, когда я рассказывал, как однажды трижды направлялся к ее столику, чтобы пригласить на танец и как в самый последний момент отказывался от этого. Почему, почему же ты отказывался, капризно спрашивала она. Сейчас эта женщина была целиком моя. Я чувствовал, Руди, что происходит нечто страшное. Как будто я вошел в храм, от которого остались одни развалины, великолепные остатки былой роскоши. И чем больше она демонстрировала расположение ко мне, расположение, которое становилось открытым призывом наконец-то коснуться ее, тем сильнее вскипало во мне необъяснимое бешенство. Вся моя жизнь предстала передо мной во всем своем ничтожестве. Руди, во мне заговорил врожденный дар соблазнителя. Я вспомнил мать, ее философское убеждение в том, что талант прячется, что он подобен подземной реке. «Все время делаешь что-то не то», – говорила мне мама. Теперь я делал то, что надо было делать всегда. Не испуганно смотреть на речную воду, а отважно плыть. Выйти из засады за деревьями, появиться на террасе мотеля в тот момент, когда этого потребует структура мелодии. А не как собака, Руди, бежать в кусты, поджав хвост. Ложка из «Восточного экспресса»… Такой я видел Клару. И знал, что этой ночью стану членом кружка, который имел Клару. На мгновение я перехватил взгляд приятеля. Он стоял метрах в двадцати от нас и беседовал с девушкой. Рука Клары все дольше задерживалась на моем плече. Она поставила бокал на перила террасы. Я попросил ее кое-что обещать мне. Улыбаясь, Клара кивнула. Да, сказала она, все, что пожелаешь. Я сказал, что хочу прогуляться. И поцеловал ее. Откуда-то из глубины двора, как с палубы удаляющегося парохода, доносились голоса гостей. Была только Клара, которую я целовал. Мы пересекли двор, не попрощавшись с компанией. Держась за руки, зашагали по пустым улицам. Город спал глубоким сном провинции.
Я был кем-то иным, там, глубоко во времени, и делал то, что следовало делать всегда. По этой улице я четыре года ходил в гимназию, говорил я. Признался, как часто прятался возле здания городской тюрьмы, поджидая, когда она появится из-за угла. И после этого следовал за ней до самой гимназии. Во времена Италии эта улица называлась Водопроводной, сказала Клара. Сейчас мы возвращаемся с дискотеки, на которой я с тобой познакомился, сказал я. Клара смеялась. У тюремного здания мы замедлили шаги. Вошли в одноэтажный дом, пройдя через двор, заросший кустами самшита и олеандра. Постепенно освобождаясь от одежды, мы продолжили пить белое вино. Тело Клары все еще было стройным и красивым. Но эти груди до меня целовали столько человек, в то время как я томился в тюрьме запретов и воспитания, в этой самой строгой тюрьме. Нет тюрьмы хуже той, которую мы воздвигаем сами для себя. Передо мной была какая-то другая Клара. Да, Руди. И я был кем-то другим. Я примерял обличия всех своих предшественников, пока не добрался до того перепуганного мальчишки, который каждое утро прятался в засаде у тюремного здания в ожидании, когда на пригорке появится Клара. Мы занимались любовью и проснулись только под утро.
Что случилось с Кларой? Осталась в тупике, в пространстве двойного дна. На каком-то из тех боковых путей, которые уводят нас от тех мест, где должна проходить наша настоящая жизнь. Где-то на пути в Дебрецен.
«Всю жизнь я делала не то, что хотелось, – говорила моя мама, беря в руки утюг или готовя обед на широком кухонном столе. – Я раб этого дома. Если один раз возьмешь неверное направление, понесет тебя как по реке, и никак это уже не исправить».
Мне было не совсем понятно, чем бы занялась мама, если бы ее освободили от каждодневных обязанностей, и как бы посвятила себя делам, которые ее так привлекали, тем более что она постоянно выдумывала все новые обязательства, чтобы, похоже, максимально отдалить тот момент, когда, оторвавшись от повседневности, сможет посвятить себя тому, к чему стремилась всю жизнь. Из-за неверно избранного направления она и не могла привести в порядок альбомы, не говоря уж о более важных делах. Но только как мы вообще можем узнать, правильное ли направление избрано нами, если не откажемся от него, а если и откажемся, то, судя по опыту моей мамы, уже не сможем изменить ранее избранное направление. Следовательно, определение верного направления в жизни есть лотерея, вопрос везения или какого-то инстинкта. Я помню, сколько лишних километров ежедневно накручивала мама, занимаясь домашними делами. Она страдала болезнью симметрии. Преданность симметрии – первый шаг к рабству, этот порок хуже алкоголизма или игромании. С огромным вниманием она каждое свое движение, все дела по дому согласовывала с правилами и законами симметрии. Скажем, зимой темное белье сушили на радиаторах, и я хорошо помню, как она, развешивая носки на их ребрах, внимательно следила за тем, чтобы нижняя часть была старательно расправлена, чтобы полностью закрыть ребра радиатора, и, конечно, гольфы не должны были располагаться где-то посередине, а исключительно в начале батареи, причем объясняла свои действия крайне разумно. Ребра горячее всего у вентиля, а поскольку гольфы не только толще носков, но и занимают большую поверхность, логично вешать их в самом начале радиатора. И какими бы разумными не были ее объяснения, я прекрасно понимал, что служение симметрии сводится к членству в сомнительной секте. Если я и принимал мамино объяснение в вопросе сушки носков, то все-таки никак не мог понять, почему, раскладывая носки и нижнее белье по радиаторам, нужно непременно учитывать требования спектра, чтобы черное белье всегда соседствовало с синим, далее следовали зеленые тона, и все это завершалось красным цветом.
Простудившись, я избавлялся от соплей, продувая сначала одну ноздрю, а потом другую, потому что если это делать одновременно, можно заболеть синуситом.
Так утверждала мама. Если у меня чесался правый глаз, то ради соблюдения симметрии следовало почесать левый. Я начал верить в симметрию и был готов совершить все те ошибки, из-за которых моя мама всю жизнь шла в неверном направлении. Но когда я окончил среднюю музыкальную школу, расстался с семьей и уехал учиться в Белград, то прильнул к божеству асимметрии, уверовав, что оно сохранит меня от неправильного пути. Так, я стал вытаскивать из-под джемпера только один уголок воротника, что весьма нервировало мою девушку, нежную флейтистку. В холодильник я беспорядочно складывал бутылки и пакеты с молоком и соками, по радиаторам развешивал носки, специально следя за тем, чтобы они сушились не парами и чтобы гольфы занимали именно ту часть батареи, которая, по теории моей мамы, была наименее горячей. Ноты и книги на полках располагались не по размеру и не в алфавитном порядке и даже не по тематике, я складывал их без какого-либо порядка. Все это весьма нервировало мою девушку, и она вскоре оставила меня. Родители переехали в Белград, и я опять стал жить с ними. Я отказался от асимметрии, но не из-за мамы, а потому что понял: мое упорное соблюдение беспорядка со временем превратится в тайный, но практически в такой же порядок. И не было никакой разницы в том, чтобы стать рабом симметрии или асимметрии. Я хотел быть равнодушным. Как моя равнодушная сестра. Она вышла замуж и осталась жить на море.
«Моя жизнь прошла в мытье посуды, вытирании пыли, в заготовках на зиму, – говорила мама в минуты, когда достигала точки, с которой все выглядело бессмысленным. – Дом это пропасть, потому что все время надо что-то делать, даже присесть некогда, и все время говоришь, хорошо бы отдохнуть немного. Такая жизнь и Богу надоела бы. Дом это тюрьма, и нет оков крепче ежедневных домашних дел. У всех у вас есть какое-то свое увлечение, этот весь мир объехал, знаю, ему не так уж и легко на море, но есть о чем поболтать с коллегами на пароходе и отвлечься, погулять по городам, и только я томлюсь в четырех стенах, постоянно в делах и вроде как не работаю, и никто этого не замечает. Как хочется бросить все и уйти в кафе, почитать газеты и выпить кофе».
Мама так никогда и не осуществула свою угрозу уйти в кафе, чтобы там выпить кофе и почитать газеты. Хотя после обеда и мытья посуды ежедневно следовал привычный ритуал: газеты и кофе. И я никак не понимал разницы в том, делать это дома или в кафе. Но, похоже, человек вынужден жить там, где ему меньше всего хочется жить. Так, например, я половину жизни провел, играя в барах отелей, но все время мечтал о концертных залах, страдал по просторным холлам оперных театров, залитых светом шикарных люстр. Я видел голые плечи дам, жадно отыскивающих меня взглядами, в то время как я в тот момент в гримерке сосредоточивался перед выступлением.
Мама часто вспоминала имена довоенных белградских адвокатов и врачей, которые после войны сразу переехали в Америку. Они продавали стильную мебель, ковры, картины, серебро и фарфор по вполне приемлемым ценам, а иной раз и почти даром. Некоторые из этих имен до сих пор сохранились в моей памяти. Они жили в моей памяти, сохранив свой образ жизни. Летом по дороге в Сичево, оставаясь на день-другой в Белграде, мы бродили по этому городу как по контурной карте. Мама часто останавливалась, указывая на тот или иной дом. – Там, на втором этаже, жил адвокат Джорджевич. У него я купила лампу, что теперь стоит у твоей кровати, и застекленный книжный шкаф.
Миновав две улицы, она опять останавливалась и устремляла взгляд на фасад угловой пятиэтажки, выстроенной каким-то сербским торговцем.
– В этом доме жила моя подружка Марина Скарловник. Перед отъездом в Америку она подарила мне Колесникова. Сейчас она живет в Санта-Монике.
Колесников? Бежавший в Белград после Октябрьской революции, какое-то время он пользовался успехом у белградских мещан. Его картина, один из многих сотен зимних пейзажей, висела в столовой над комодом: голубая гора растворяется в снегу того же цвета. Когда во время приема гостей мне приходилось уступать свою комнату и перебираться на диван в столовой, первое, что я видел, открыв утром глаза, была именно эта заснеженная гора. Спросонья я тер глаза, и калейдоскоп под ресницами переливался красками пейзажа Колесникова. Темные пятна у подножия горы принимали необычные формы. Иногда на мгновение-другое появлялся абрис женского лица с белыми щеками и крупными глазами, но стоило только приблизиться к картине, как он исчезал в зимнем пейзаже.
Вещи и предметы в нашей квартире были всего лишь образцами, взятыми из других жилищ. Я был убежден, что эти пришельцы так и не забыли пространства, из которых явились к нам. Ясными ночами они призрачно светились и в пределах нашей квартиры как бы возвращали взгляды, десятилетиями копившиеся в этих стенах. Погружаясь в сон, я часто слышал шепот незнакомых голосов, звуки шагов, скрип перьев по шершавой бумаге. Где-то неподалеку некто вслушивался в мое дыхание, записывал движения, вводил меня в представление, конец которого я никогда не узнаю, потому что в действительности никакого конца нет. Картина мира постоянно вздрагивает, исчезают внутренние дворы и лестницы, уличная реклама и скамейки в парке, фасады и кроны, целые города и окрестности, а на них накладываются новые слои. Каждая фотография, каждое произнесенное слово, каждый тон или шум безвозвратно меняют облик мира. Изменение – единственная константа. Взгляд сокола ищет добычу – точку, которая движется и меняет пейзаж.
В ящике ждет письмо. Пятью метрами выше, в трех метрах правее в укрытии квартиры дремлет ничего не подозревающий получатель. От новой траектории его отделяют несколько часов тонкого послеобеденного сна в бамбуковом кресле. И изменится не только его мир. Движение, судя по содержанию этого письма, изменит инвентарь сцены, перенаправит траектории развития других действующих лиц. Изменит движение вещей в чемоданах, сэндвичей в сумках, содержание в записках. И появится как незваный гость, изменяя мантры повседневности.
Однажды ночью в нашем доме появится далекий родственник моей мамы, который жил в Суботице. Он направлялся в Триест. Перед этим провел несколько дней в Будапеште. Я получил от него в подарок кожаный футляр для карандашей, внутри которого, на дне, была наклейка: KEZMUVES. Футляр был из желтой кожи, с узором на крышке, обшитый темной кожаной полоской – ручная работа мастера, который в своей мастерской неизвестно в каком районе Будапешта ежедневно делал десятки футляров и других изделий из кожи. И без наклейки KEZMUVES, что по-венгерски означает РУЧНАЯ РАБОТА, было понятно, что это стоящий предмет. Крышка изнутри была обтянута темной кожей того же цвета, что и декоративная полоска, обрамлявшая нижнюю часть футляра. В футляре помещались три карандаша. Центральная перегородка, чуть шире прочих двух, предназначалась, вероятно, для авторучки. Однако гораздо более этого ценного предмета меня заинтересовал неизвестный мастер, который в своей мастерской в Будапеште создавал уникальные предметы. Я представлял, как он выглядит, его привычки, мысленно прокручивал несколько знакомых мне венгерских имен, никогда не отличая имена от фамилий. Я пытался представить себе десятки других обладателей подобных предметов, рассыпанных по миру. Мы составляли тайное братство, касались кожаного футляра, на поверхности которого оставались невидимые следы того, кто этот предмет сделал. И каждый из этих предметов был отличен от прочих. Потому что мастер в Будапеште изготовлял их, будучи в разном настроении, разные мысли бродили в его голове, когда он кроил и сшивал кусочки кожи. Я чувствовал, что весь мир покрыт бесконечным количеством контурных карт и что Бог, если он есть, днями напролет вносит условные знаки в их белые пятна. И что учет проделанной работы есть единственное занятие Бога. Поэтому сначала было много богов, так как предстояло переписать множество вещей. Хотя людей было намного меньше, чем сейчас. Со временем боги натренировались, и их количество уменьшилось. Каждый человек – контурная карта, на которой годами предметы, люди и события оставляют следы своего присутствия. Утраченные предметы связывают множество людей, как, например, та ложка из «Восточного экспресса». И хотя эти люди никогда не встретятся и не поймут, что их связывает, и даже если бы они встретились, то трудно вообразить, что они смогут обнаружить точки соприкосновений с этими предметами. Но я все равно чувствовал, что невидимая система кровообращения мира, в которую включены и живые, и мертвые, их общий мир обитания есть образец вечности и в ней ничего и никогда не сможет исчезнуть. Вечность – необозримый архив, в котором фиксируются не только исторические события, но и судьбы безымянных домохозяек, которые готовят, стирают, сметают пыль с вещей и предметов, моют полы, гладят белье; в этом архиве копятся картины голландских мастеров и окаменевшие животные и растения, симфонии классиков и песни уличных музыкантов, государственные гимны и любовные письма, планы городов, чьи улицы уничтожены бомбардировками, и затхлый воздух пирамид.
Мои родители познакомились во время профсоюзной экскурсии на Фрушку-Гору. Отец решился поехать туда в последний момент. Он прибыл на автовокзал за минуту до отправления автобуса. Подруга моей мамы проспала, так что свободное место в автобусе занял тот, кто год спустя станет отцом. Так что мое появление на свет стало результатом того, что мамина подружка в то судьбоносное утро проспала. Она снимала комнату у той женщины, темная квартира которой располагалась над баром «Лотос», там, где постоянно менялось освещение. И похоже, только из-за полумрака сон маминой подружки так затянулся.
Адрес проживания создает картины и события.
Крутая улица приморского города, в котором я случайно появился, поскольку отец согласился на решение кадровой службы Морского центра перевести его именно туда, годами казалась мне светлой трещиной, по которой я ходил, ежедневно совершая экскурсии в далекие уголки, которые ограничивали существующий мир. Добравшись до здания Городской библиотеки и Археологического музея, этих Геркулесовых столбов знакомого мне мира, за которыми начиналась бурлящая пучина города – грозовой предел океана, я тем же путем возвращался назад, предаваясь какому-то близкому будущему, зашифрованному в окружающих пейзажах.
Куда уходят вещи после смерти владельца? Этот вопрос я задал маме, когда она читала мне перед сном сказки. Их наследуют дети, так она мне ответила.
В моей заинтересованности судьбой вещей и предметов мама усмотрела удел божьего провидения. Меня никогда не занимало развитие сюжета произведения, я с большим удовольствием заглядывал в кусты, не следил за ходом повествования, интересуясь судьбой какого-нибудь второстепенного героя. Меня привлекали загадочность, белые пятна, в которых исчезают буквы, эпизодические герои, появляющиеся на сцене только для того, чтобы доставить какое-то письмо или вывести лошадь из конюшни.
Достаточно было диктору из «Программы для моряков» упомянуть, что пароход отца сейчас в Роттердаме, чтобы название этого города вызвало в моей памяти вереницу статичных интерьеров на картинах голландских мастеров, репродукции которых я рассматривал в «Энциклопедии голландской живописи XVI и XVII веков». Эту книгу маме подарил адвокат Джорджевич накануне отъезда в Америку. Каждому купившему картину из его коллекции он дарил книгу. Его великодушный жест в первую очередь был вызван тем, что в то время невозможно было найти человека, который купил бы всю библиотеку. Так в нашей квартире вместе с Колесниковым поселились голландцы.
Женщина с облитым светом лицом, читающая у окна письмо, заархивированная в моей памяти, уводила меня на несколько секунд в действительность, которую я узнавал и в собственной обыденной жизни. Посуда на кухонной полке сложена по законам той самой геометрии, которую уважала мама. И она такая чистая, что на ее поверхности видны тени других предметов. Все сверкает, нигде не пылинки, все дышит порядком и тишиной. Это райское пространство частично отражается в овальном зеркале, висящем на стене. Рядом с зеркалом – портрет какого-то серьезного господина с ухоженной бородой и маленькими искрящимися глазами. Его правая рука покоится на голове гончей. Собачьи глаза тоже маленькие и искрящиеся. Серьезность изображения смягчают маленькие пальцы, словно рука, опущенная на голову собаки, принадлежит ребенку. Возможно, этот мужчина – предок женщины, стоящей у окна и читающей письмо, вероятно, он был купцом или судовладельцем, привозившим товары и рабов из далеких колоний, обеспечивших его богатство. Потому что расстояния несравнимо больше, чем между Сичево и Острвацом. И благодаря этому женщина, читающая письмо, унаследовала множество фарфоровых сервизов, хрусталя, золотых и серебряных приборов. А я лишился даже ложки из «Восточного экспресса», она пропала после смерти дедушки. Бабушка переехала в дом престарелых. В бывшем дедовом доме поселился новый диспетчер станции Сичево. Исчезла и коллекция предметов со стеллажа у лестницы. И только свежий воздух все еще струился в маленькое окошечко внизу продолговатого окна, которое в России называют форточкой.
* * *
Бегство в книги было даже интереснее рассматривания картин голландских мастеров. Помню, как после прочтения «Мальчишек с улицы Пал» я несколько месяцев жил в одном из кварталов Будапешта. Ференц Молнар, который придумал все это или просто пересказал события своего детства, по сей день у меня на слуху, сведенный к двум словам в отделе моего архива, посвященного округу Ференцварош: парк Фувеш, улица Пал, площадь Кальвари. Но это имя, эту мелодию мамин родственник из Суботицы напевал иначе: Молнар Ференц. Бархат гласного звука смягчает резкость согласного, и только «ц» в конце слова остается незащищенным драпировкой вокала.
Или Карл Май, Архитектор просторов. Мелкий аферист, учитель по образованию, провел семь лет в тюрьме за кражи и мошенничество. А знаешь ли ты, Руди, что Карл Май до пяти лет был слепым? И когда он каким-то чудом прозрел, мир уже отпечатался в его сознании. Что это был за отпечаток, Руди? И какой это шок – внезапно оказаться в мире, которому мы обязаны зрением? Карл Май ни разу не покидал Германию. Но география других континентов, которую он создавал в Радебойле под Дрезденом, по сей день сопротивляется официальной версии. Он выдумывал слова несуществующих языков, имена индейских воинов, рек, озер и гор. Оживил контурные карты Америки. Опускался по цепи Кордильер вплоть до Огненной Земли, бродил по Сахаре в поисках тайны пирамид, добрался и до берегов Малой Азии. Создавал пространства в окружении стен своего дома. Повлиял на взгляды миллионов читателей. Он не любил путешествия, но все время описывал их. Он знал только родную Саксонию, а описал весь мир. Пять лет слепоты и семь лет тюрьмы, итого двенадцать лет путешествий.
Прямой вагон в Дрезден – вагон, маневрируя, меняет направление движения, движется по сети стрелок и параллельных путей и в соответствии с расписанием подключается к голове или к хвосту составов. Голос диктора в дышащих на ладан репродукторах белградского железнодорожного вокзала оповещает пассажиров о прямом вагоне на Дрезден в составе поезда Белград – Прага. А в это время я уже читаю романы волшебника из Дрездена, разбросавшего своих героев по всему миру. Добрались они и до балканских ущелий.
Мы ехали на юг, следуя направлению «Восточного экспресса», через зеленые пейзажи Шумадии, долиной Моравы, вплоть до гор, у подножия которых начиналось Сичевское ущелье. Там, в дедовом доме, узкое окно с маленьким отверстием в самом низу ждало меня с моим видом.
Однажды весной мы провели семь дней на Плитвицких озерах. Чистые воды Национального парка Плитвице скрывали тайну клада. За несколько дней до этого в районе Плитвиц снимали фильм по роману Карла Мая – «Сокровище Серебряного озера». Хозяйка пансиона показала нам комнату, в которой во время съемок жил Виннету. Мы разместились в номере Олд Шаттерхенда. В том же пансионе останавливались воины апачей, а через дорогу, в довольно-таки запущенной государственной гостинице, жили команчи. На стене у регистрационной стойки висели в рамках фотографии Виннету и Олд Шаттерхенда. Я хотел забыть имена улыбающихся с фотографий актеров, их автографы с благодарностью хозяйке пансиона госпоже Восе, потому что сам факт, что Виннету на самом деле Пьер Брис, а Олд Шаттерхенд всего лишь Леке Баркер, не давал возможности вообразить, что я там, а вовсе не здесь, и что это не Плитвице, а Серебряное озеро, и что вокруг нас простираются пейзажи Дикого Запада.
Каждое утро госпожа Боса гадала маме на кофейной гуще. Подсохший на дне осадок образовывал иероглифы, которыми была записана и моя судьба. В соответствии с ее предсказаниями мне следовало пересечь большую воду, чтобы там, в далеком мире, стать богатым и знаменитым. Время, остававшееся до этого окончательного ухода, следовало чем-то заполнить, закрыть белые пятна повседневности картинами из сокровищницы будущего времени. И несмотря на то, что из предсказанного маме не случилось практически ничего, она постоянно твердила, насколько точно предсказала ей будущее пророчица Боса с Плитвицких озер, сумевшая предугадать все важные события ее жизни. И когда в последние годы жизни мама погрузилась в пучину болезни, опустошившей память, освободив ее от всех записей, имя хозяйки пансиона – Босилька Ракита – стало для нее чем-то вроде скалы в океане забвения. И не только имя, но и события, которые Боса предрекла, но которые так и не случились, поврежденная память записала как произошедшие на самом деле. Живые оказались мертвыми, а давно скончавшиеся бродили по лабиринтам маминого сознания, вновь погрузившись в ликвор жизни, теперь уже с новыми биографиями. В ее мире не существовало препятствий, расстояния преодолевались так, словно их и не было, боль по утраченным людям гасилась их оживлением. Все было на одном месте, пережитое депонировалось в реквизитах, которые всегда были под рукой. Прямой вагон до Дрездена функционировал безостановочно.
Я пытался расшифровать происхождение особы, так близкой моей маме, которая вдруг появлялась в образе собеседницы в утреннем разговоре, с тем чтобы через несколько часов исчезнуть так, будто ее никогда и не было. Случалось, это была какая-нибудь ее многолетняя приятельница, а именно героиня телевизионного сериала или литературный образ из книг сестер Бронте. Отца она почти не вспоминала, зато адвокат Джорджевич получил важную роль в ее жизни. И был он уже не адвокатом, а торговцем чая из Фленсбурга. Она никогда не бывала во Фленсбурге, где располагался офис морской компании, от которой отец некоторое время плавал, но описывала мне этот город настолько точно, будто провела в нем годы. Она сидела в кресле, и если хотела вспомнить какой-нибудь важный момент из своей жизни, то зажмуривалась и немного откидывала голову. А когда открывала глаза, иной раз спрашивала меня, кто я такой. Я был свидетелем распада ее памяти. Казалось, будто я листаю книгу, в которой не хватает многих страниц, книгу, в которой все перепутано, и только изредка натыкаюсь на знакомый текст. Наши разговоры напоминали допросы у следователя.
Знаешь, Руди, забота о фактах со временем становится тяжким грузом, потому что все больше ритуалов, все больше воспоминаний, все больше людей и все меньше пространства между потолком и подвалом. Невысказанные намерения обязывают, замедляют движение. Остается только проходить мимо. Как только мы выбрали дорогу, то уже промахнулись, и поэтому, возможно, лучше никуда не идти, ждать, хотя, даже остановившись, мы минуем все, чего могли бы коснуться в движении.
Случалось, что я по утрам заставал маму у окна. Заметив меня, она только вздыхала и говорила, что не знает, стоит ли выйти на террасу или лучше сначала сварить кофе. На столе в гостиной аккуратно, по датам, складывала ежедневные газеты. Постоянно повторяла, что чтение газет – напрасная трата времени, однако раз в неделю проводила несколько часов, перелистывая груду газет. Всю жизнь она была скована ритуалами и обязательствами, которые поджидали ее на каждом шагу.
Она вечно опаздывала, и я не помню, чтобы она хоть раз пришла куда-нибудь вовремя. В фильмах и театральных спектаклях в ее памяти вечно недоставало начала. Даже дома ей не удавалось посмотреть по телевизору фильм с самого начала, потому что в последний момент вспоминала, что забыла полить цветы. Сразу же поднималась с кресла, уходила за пластмассовым ведерком и поливала из него горшки. Потом вдруг вспоминала, что накануне вечером в ванной перегорела лампочка. Никогда не считалась с тем, что в доме есть запасная лампочка в шестьдесят свечей. Обувалась и отправлялась в магазин, возвращаясь с полной сумкой лампочек. Однажды в какой-то лавке наткнулась на маленькие импортные лампочки для холодильников марки «Игнис». Сразу же купила про запас две штуки по исключительно высокой цене, оправдывая свой поступок тем, что дефицитные вещи следует покупать не по мере надобности, а про запас.
– Кто знает, когда еще появятся в магазинах лампочки для холодильников «Игнис», а наша уже почти перегорела. Ты заметил, как она моргает?
Несмотря на то, что до конца ее жизни в холодильнике горела все та же оригинальная лампочка, мама заботливо перекладывала в кладовке две маленькие коробочки для «Игниса», не скрывая удовлетворения от того, что в любой момент готова воспользоваться ими, постоянно приговаривая:
– Похоже, в этом доме я одна забочусь обо всем!
Выход на улицу означал многочасовую подготовку. А когда наконец выходила, то долго стояла перед домом, размышляя, какой дорогой следует пойти. Отправлялась на условленную встречу с подругой, а возвращалась из кинотеатра, пересказывая фильм, в котором, естественно, не было начала. Уходила на кладбище к отцу, а через полчаса, запыхавшись, появлялась в квартире со штукой ткани, из которой собиралась сшить чехлы для кресел. После ее смерти я нашел в шкафах материю для платьев, хрустальные бокалы, сервизы, нераспечатанные коробки со столовыми приборами. У нее была привычка выгодно покупать ценные вещи, которые можно было дарить в дни рождения, на свадьбы или новоселья.
У нее уже не было памяти, только белые пятна, испещренные мутными пейзажами, в которых вдруг появлялся какой-нибудь образ. Произнося какое-нибудь имя, она подолгу смотрела на меня, словно только по моей реакции можно было определить значение этого человека, словно я был сторожем на складе, где хранятся люди из ее прошлого. Каждое утро мама наивно распределяла материал, заново создавая мир, опустошенный во время сна, как театр по окончании представления. Узнавая меня, она была счастлива тем, что у нее есть сын.
Предметы, в отличие от людей, она помнила прекрасно, но только не их просхождение. Лампа на ножке из розового фарфора, стоявшая на тумбочке возле моей постели, купленная сразу после войны у кого-то из покидавших страну, в одном из рассказов приобретала совсем иное происхождение. Лампу ей подарил адвокат Джорджевич, когда она впервые посетила его во Фленсбурге. А когда я заметил, что это была не лампа, а зимний пейзаж Колесникова, и что картину адвокат Джорджевич не подарил, а продал ей, и было это не во Фленсбурге, а в Белграде, она спокойно отозвалась:
– Нет, это не Колесников. Он умер еще до войны. Я с ним не была знакома, как же он мог мне что-то подарить? И почему именно лампу? Не хорошо, когда смешивается разный свет. У меня была знакомая женщина, которая жила в темной квартире над баром «Лотос». У нее даже днем горел свет. В итоге она почти ослепла. Но даже полуслепой она содержала квартиру в идельном порядке. Как это, где это было? Во Фленсбурге, сразу после войны.
– Бельевая корзина? Да, помню. Изнутри она была обтянута синим полотном. Где сейчас эта корзина? Боже, куда только разбежались наши вещи! Вот и еще один день прошел. И что я сделала – ничего! Где я побывала – нигде! Вот так глупо и проходит вся жизнь.
Осадки картин жизни давят. Изо дня в день пережитое становится все тяжелее. Спасение в забвении. В мире намного больше людей, чем судеб, говорила мама. Судьбы как ящики стола, в один могут поместиться тысячи людей. За несколько дней до смерти она схватила меня за руку и спросила шепотом, не знаю ли я, откуда у меня такое имя – Даниэль.
– Один мой парень жил в таком беспорядке, что я его бросила из-за этого. Его звали Даниэль. Он очень любил меня. А вот в ванной у него в тюбике вечно была засохшая зубная паста. Или он нерегулярно чистил зубы, или покупал пасту в лавках на окраине, где товары подолгу никто не берет. Но зачем ехать на окраину, чтобы купить зубную пасту?
У меня тоже скоро появятся на одном месте и живые, и мертвые. Не будет ничего ни далекого, ни близкого. От далекого до близкого всего один шаг. Вагон на двух колесах. Все на расстоянии вытянутой руки, Руди. Освободиться от груза намерений и без паники отдаться расписанию движения. Если организоваться как следует, все будет путем.
Поезда