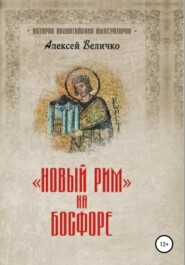скачать книгу бесплатно
Константинопольский собор завершил свою работу в феврале 361 г., а в ноябре, лежа уже на смертном одре, царь с ощущением выполненного долга вспоминал о перипетиях многолетней церковной смуты, которую он, как ему казалось, наконец-то преодолел. Увы, Констанций ошибался. В ситуации, сложившейся вследствие тринитарных споров в Церкви, никакая сила и власть не смогли бы привести к разрешению всех догматических и богословских противоречий.
Но для того чтобы сама Церковь «разрешилась от богословского бремени» своих искушений, нужно было сохранить ее единство, что и было обеспечено последовательной церковной политикой Констанция. Не являясь богословом по призванию, он предпринимал все для того, чтобы противники садились за стол переговоров и искали компромисса. И вполне возможно, что без этого принуждения общение церквей вообще бы прекратилось – это не кажется невероятным, если вспомнить ригоризм противников. Бесконечные и безрезультативные Соборы заставляли Церковь искать свою веру, мужать разумом, преодолевать сомнения и богословски формулировать истину. В те же минуты, когда такое общение становилось совершенно невозможным, являлся император, который требовал во имя исполнения своей воли признания той компромиссной формулы, на основе которой, как казалось, можно было восстановить единство Церкви. В этом как минимум заключается величайшая заслуга императора Констанция перед всем православным миром и Церковью.
Глава 3. Личность Констанция
Теперь самое время обратиться непосредственно к личности последнего сына св. Константина Великого и тем оценкам, которые он снискал после смерти. Надо прямо сказать: если судьба при жизни долго щадила последнего отпрыска великого императора Рима, то впоследствии его не пожалели историки. Констанция часто изображают недалеким, высокомерным человеком, страдающим манией величия, бесталанным правителем и неудачным полководцем, безнравственным женолюбом (!), неразборчивым в способах достижения своих целей, «зверем», гонителем православных и т.п. С «легкой» руки Э. Гиббона (1737—1794) полагают, будто правление его было возможным только путем создания целой армии шпионов и доносчиков. А главнейшим способом пополнения казны, как рассказывают, стало вымогательство средств у обеспеченных граждан316. Почему-то именно западные авторы считают, что царь являл собой образчик завистливой, слабой, тщеславной фигуры, полностью находившейся под контролем евнухов, женщин и близких епископов317.
Но на самом деле пословица, будто «природа отдыхает на детях гениев», малопригодна для характеристики Констанция. Наверное, он не был гением, но занимает далеко не последнюю строчку в череде Византийских, а тем более европейских самодержцев. Возможно, в воинских успехах Констанций действительно уступал своему отцу – человеку, выигравшему все сражения без исключения. Однако в то же время Констанций имел и свои военные удачи, которые можно было бы привести в качестве положительного примера. В частности, он не без успеха противостоял персам – очень серьезному противнику, побеждал варваров и умело, быстро подавлял внутренние бунты, например Магненция. В персидских походах он неоднократно подвергал себя лишениям и опасности, за что пользовался уважением у солдат. Введя строгую дисциплину, проявив недюжинные организаторские способности, царь из деморализованной и самовольной массы создал мобильную и хорошо обеспеченную армию, наводившую страх на врагов318.
Допустим, он не обладал такой политической мудростью, как св. Константин Великий, и не сумел вовремя ликвидировать следы своих ошибок, быстро становившихся известными. Но, в отличие от четырнадцати мирных последних лет правления равноапостольного императора, Констанций жил в бушующем мире варварских нашествий, вечных войн и внутренних заговоров. Оставшись один на один с многочисленными проблемами, не обладая авторитетом своего отца, имея вначале под рукой разлагающуюся армию, нередко стремящуюся дезертировать с поля боя, Констанций сделал все, что было в его силах. При нем в тяжелейших условиях Римская империя сохранила свою территориальную целостность и политическую стабильность. Царь провел административную реформу и привел в порядок юстицию. Финансы были, конечно, в плохом состоянии, что обуславливалось частыми войнами и многочисленными Соборами епископов, содержащихся на казенный счет, – очень затратное мероприятие.
Обстоятельства последних месяцев жизни Констанция заставляют сомневаться в тех оценках, где он изображается слабым правителем и высокомерным себялюбом. Когда на чаше весов оказалась гибель восточных провинций и восстановление единовластия, царь без долгих сомнений отправился в поход на персов, тем самым фактически предопределив судьбу императорской короны и буквально отдав ее в руки беззастенчивого конкурента. Не стесняемый ничем, не встречая на своем пути почти никаких воинских подразделений соперника, Юлиан беспрепятственно шел к Константинополю. Именно он, а не Констанций, совершенно забыл о своей обязанности охранять западные границы Римской империи от варваров.
Тезис о «кровавом режиме» Констанция также весьма слабо сочетается с многочисленными проявлениями верности, которые демонстрировали войска императору даже в условиях, когда его участь уже была предрешена. Между тем прагматичный и привычный к своим «свободам» Рим никогда не ощущал пиетета к неудачным полководцам и слабым императорам. Считалось, что все они должны быть достойными его славы и истории, и если даже в ходе нашествия Юлиана многие города не желали перейти под власть удачливого и молодого узурпатора, то, очевидно, еще и потому, что искренне любили Констанция и, в отличие от поздних историков, не считали его тираном. Хрестоматийный пример этому – обстоятельства проводов тела покойного царя жителями тех населенных пунктов, через которые его вез Иовиан, и знаки почтения, какие они выказывали уже покойному Констанцию.
Да и о какой тирании и тотальном шпионаже может идти речь, если царь лишь в исключительных случаях прибегал к уголовному преследованию своих врагов и мятежников, что далеко не характерно для римских обычаев тех времен? Конечно, Констанций был последователен в своих решениях и не вполне толерантен к тем, кого относил к разряду нарушителей царских распоряжений. Но как настоящий христианин, пусть еще и не крещенный, он был милостивым и терпеливым к недостаткам своих подданных.
Наверное, по сравнению со св. Константином Великим линия поведения императора по отношению к инакомыслящим епископам могла казаться несколько более жесткой или даже жестокой. Действительно, равноапостольный царь, как известно, очень скоро возвратил из ссылки практически всех сосланных им после Никеи арианствующих епископов и самого Ария. Он искренне полагал, будто священник, подписавшийся под Никейским оросом, тем самым окончательно принял ту сторону, какой симпатизировал сам василевс. Его сын в этом отношении был куда более осторожным и не склонным к легким выводам – он не ограничивался простыми письменными признаниями тех, кто придерживался иной точки зрения в вопросах веры. Хотя за преследования инакомыслящих василевса иногда называли «зверем», но объективно гонения на епископов, отвергавших царские указы (а это по римскому закону являлось преступлением, равно как и во все другие времена), очень редко заканчивались смертной казнью, что, вообще-то говоря, было не вполне закономерным итогом для столь негативной характеристики, какую дают царю.
Личное участие императора в догматическом споре исходило из его глубокого религиозного чувства и понимания всей важности одного из кардинальных вопросов христианского вероучения. Как искренний христианин, хотя еще и не крещенный, Констанций желал церковного мира, то есть проводил в полной мере политику своего отца. Уже св. Константин, убедившийся в том, что Восток не понял и не принял Никейского Символа, предпринимал меры по компромиссному разрешению тринитарного спора. Констанций также полагал единство Церкви альфой и омегой своей деятельности; это была для него самодостаточная цель. Но, находясь под влиянием Евсевия Кесарийского, воспитателя своего детства, Констанций понимал единство Церкви исключительно на основе антиникейского богословия. Кроме того, император не мог игнорировать тот факт, что подавляющее большинство епископата и мирян придерживаются антиникейских настроений319.
Как и его великий отец, царственный сын искренне полагал, что истина открывается через Соборы епископов. Он также искренне полагал, что большинство епископов, соборно обсудивших догматические вопросы, ведомые Святым Духом, таинственно и промыслительно обладают свойством непогрешимости. К сожалению, они оба ошибались: сама по себе соборная форма не обладает столь высокими достоинствами – истина вообще не склонна ограничивать себя внешними формами. Тем не менее, последовательно реализуя эту идею в жизни, Констанций полагал, что просто нужно собрать необходимое большинство архиереев и найти ту догматическую формулу, которая устроила бы их.
Так, упрекая Римского папу Либерия за содействие св. Афанасию Великому, он, между прочим, сказал: «Приговор большинства епископов должен иметь свою силу. Ты один только стоишь за дружбу того нечестивца»320. По данной причине Констанций так «легко» метался от одного вероопределения к другому, не всегда отдавая отчет в том, что становится игрушкой в руках некоторых недобросовестных «богословов».
Но мог ли он оценить все те догматические тонкости, которые ставили в тупик или заставляли ошибаться даже столпов веры? Блестящий император, он был, как и подавляющее большинство верующих, посредственным богословом, обстоятельствами времени вынужденный скользить умом по поверхности Символа, не в силах совладать с теми задачами, которые оказались по плечу лишь таким отцам Церкви, как св. Афанасий, св. Григорий Богослов и св. Василий Великий.
Достаточно было Евдоксию, Аэцию, Валенту или Акакию убедить его в том, что большинство епископата придерживается какой-то конкретной редакции, как император, отчаявшийся обеспечить мир Церкви, шел на все, чтобы обязать остальных присоединиться к ней. В принципе такая позиция не столь легкомысленна и неверна, как это иногда кажется: искренне веря, что «врата адовы не одолеют» Церкви, он чистосердечно полагал, будто при обеспечении единства Церкви истина сама пробьет себе дорогу, а Господь даст епископам сил и разумения для словесного определения Своего Лица. В конце концов именно так и произошло.
В годы правления Юлиана, когда над Церковью нависли давно уже забытые угрозы гонения и физического уничтожения, архипастыри, словно прозрев, отставили взаимные упреки и покончили с расколом, 50 лет терзавшим тело Церкви. Чтобы приобрести новое качество, нужно было потерять и оценить все то, что имела Церковь при православных императорах.
Впрочем, по довольно многочисленным свидетельствам, Констанций занимал богословскую позицию, близкую к взглядам своего святого отца и братьев. В качестве примера можно привести его послание антиохийцам, в котором император напрямую признавал Сына подобным Отцу по сущности. Другое дело, что его официальная позиция во многом, как указывалось выше, ориентировалась на политические реалии и соответствующим образом корректировалась под соборные прения321.
Помимо попыток решения главнейшей задачи своего царствования – преодоления раскола, Констанций очень многое сделал для Церкви в своей обычной деятельности. Став единоличным самодержцем, вторя отцу, он покровительствовал ей и значительно расширил иммунитет духовенства, причем установил exemption от светского суда. Продолжая теснить язычество, Констанций ввел смертную казнь для похитителей женщин и дев, посвятивших себя Богу. Посетив Рим, император велел вынести из здания сената священный для язычников-римлян алтарь Победы322.
Стало уже привычным приводить слова Констанция, сказанные им от отчаяния епископам: «Мое слово – для вас канон!» – с чем традиционно связывают цезаропапистские настроения императора. Но как соотнести эту оценку с тем фактом, что лично царь инициировал Карфагенский собор в 346 г., два Собора в Милане – в 347 и 355 гг., два Сирмийских и один Анкирский собор в 349 и 351 гг., Ариминский в 359 г., Селевкийский в 351г. и Константинопольский в 360 г. для восстановления единства Церкви и установления единой догматической формулы?
Лично (опять же) безусловно скромный во внешних проявлениях своей власти, царь не из самолюбия принимал бразды церковного правления в свои руки. Помимо явственного раскола Церкви, когда не только Запад противостоял Востоку, но и в восточных провинциях епископы и Соборы постоянно анафематствовали друг друга, только внешняя сила могла хоть как-то сохранить саму возможность общецерковного общения и обсуждения догматического вопроса о Лице Христа. Такой силой мог быть и стал только сам император, никаких общепризнанных авторитетов из числа клириков в то время просто не существовало.
Можно сказать, что нередко царь в буквальном смысле слова оказывался одиноким, а вокруг него роились заговорщики, интриганы, карьеристы от клира. Увы, нравственный уровень епископата к тому времени уже не был так высок, как в первые столетия существования Христовой Церкви, и сам император прекрасно отдавал себе в этом отчет. Так, опровергая в 358 или 359 г. слухи о том, что недавно сосланный им епископ Евдоксий является его ставленником, император пишет: «Евдоксий пришел не от нас, пусть так не думают, мы далеки от этого. А кто, кроме сего, вдается еще в подобные софизмы, тот, очевидно глумится над Всевышним. Да и отчего по собственной воле удержатся те, которые, ища власти, проходят города?, перебегают из одного в другой, как бродяги, и влекомые жаждой к большему, проникают во всякое убежище. Между ними, говорят, есть пройдохи и софисты, которых и наименовать неприлично: это племя злое и нечестивейшее (выделено мной. – А. В.). Скопище их вам и самим хорошо известно»323.
Эти слова кажутся горьким преувеличением, но св. Афанасий, св. Григорий Богослов и св. Василий Великий приводят на этот счет эпитеты, куда более жесткие, чем оценки царя. В таких условиях действительно только слово императора имело шанс стать каноном для всех; слова многочисленных Соборов и епископов тонули во всеобщей сумятице, недоверии и недопонимании.
Полагают, что его тайная служба функционировала очень эффективно; но, кстати сказать, таковой она была уже при св. Константине Великом. А каким иным образом царь мог обеспечить собственную безопасность, если само царствование его уже изначально было под вопросом, а позднее в результате заговора погиб младший брат? Мог ли он легкомысленно отвергать традиционные средства охранения власти, если приближенные им люди, включая близких родственников, не раз предавали своего благодетеля? Кстати сказать, едва ли все же деятельность агентов Констанция заслуживает столь высокой оценки, и уж, во всяком случае, едва ли его тайная служба была столь разветвленной и вездесущей. Достаточно напомнить, что она «проморгала» два крупных заговора. Один из них (Галла) едва не стоил царю жизни, а второй (Юлиана) лишил его державы. Как известно, его чиновники годами находились рядом с Юлианом и даже приезжали с инспекциями, но не заметили наличия у молодого и дерзкого царевича столь дальних мыслей.
Действительно, Констанций был не единожды женат, но, конечно же, не являлся сластолюбцем. Его первая жена приходилась родной дочерью дяди – казненного в начале царствования цезаря Юлиана, в чем нет ничего удивительного. Родственные связи всегда являлись лучшей гарантией верности в межличностных отношениях внутри династических домов. Следующей женой вдовца Констанция стала знаменитая и очень любимая им Евсевия, так же, как и первая жена царя, оказавшаяся бесплодной. Наконец, в 360 г. Констанций заключил третий брак с Максимой Фаустиной, видимо, надеясь на появление мужского потомства. Однако его мечтам не суждено было сбыться. Объективно эти примеры не дают оснований говорить о царе столь скабрезно, как это иногда позволяют себе делать публицисты.
Надо сказать, современники были куда более благосклонны к своему царю. Даже отличающийся ригоризмом в оценках отдельных персон историк Феофан Византиец очень сочувственно описывает личность и поступки Констанция, постоянно обращая внимание на его добрые дела. В частности, историк отмечал, что, находясь в Риме после победы над Магненцием, император подавал много милостыни бедным, и вообще уважал священников до самой смерти324. Следующая оценка Феофана еще более интересна: «Следовало назвать благочестивейшим царя, который, не совсем еще избавившись от языческих привычек, увлечен был, скорее по простоте, нежели с умыслом, в ересь происками ариан»325.
Позицию Феофана вполне разделял и знаменитый епископ Феодорит Кирский (386—457). Он в очень мягких формах описывает поведение василевса, стараясь отметить его благородство и терпимость к мнению других людей. Особенно интересен в этом отношении приводимый им разговор августа со св. Афанасием, когда царь принял его сторону в вопросе о предоставлении отдельных храмов для православных в арианских епархиях, и наоборот326.
Очень сдержанным изображается царь и в беседе с Римским папой Либерием, которого он уговаривал отречься от св. Афанасия Великого. Как и его святой отец, Констанций искренне полагал, что сила веры – в большинстве голосов, высказанных за то или иное определение. Вообще, Феодориту принадлежит очень точная и яркая характеристика религиозных воззрений Констанция: «Если Констанций, – писал он, – обманываемый управлявшими им людьми, и не принимал слова “Единосущный”, то, по крайней мере, искренно исповедовал его значение (выделено мной. – А. В.), потому что Бога-Слово называл Сыном, истинным рожденным от Отца прежде веков, и явно отвергал дерзавших называть Его тварию, а идолопоклонство воспрещал решительно»327.
Вообще, для Феодорита Кирского характерны такие фразы, в которых речь идет о неприятных для православной партии действиях царя, как «поддавшись уговору ариан», «возбудив гнев царя» и т.п. Ссылаясь на административные действия царя против никейцев, историк неизменно приводит причины, вынуждающие василевса принять то или иное негативное для них решение. Он или обманут, или введен в заблуждение, но никак не ересиарх, сознательно борющийся с Церковью.
Пожалуй, если кто и имел моральное право упрекнуть императора Констанция, так это вечно гонимый им св. Афанасий Великий. Вот, в частности, как он оценивает роль императора в борьбе с православными епископами, которые подверглись гонениям: «Ибо написавшие с тем, чтобы концом их писания были изгнание и другие казни, могут ли быть не чужды христианам и не друзьями диаволу и его демонам, тем более, что богочестивейший Царь Констанций человеколюбив, а они против воли его разглашают (выделено мной. – А. В.), что хотят?»328
В известном послании самому императору Констанцию св. Афанасий Великий опять не желает верить в виновность царя: «Для чего же такие замыслы, или к чему предпринимали злоухищренно строить козни, когда можно было велеть и писать? Царское приказание дает большую свободу, а желание действовать скрытно делало ясным подозрение, что не имеют они царского приказания»329.
Император являлся блестящим воином и тайным аскетом, обладал большой физической силой и был обучен хорошим манерам330. Он мало спал и скромно ел, был трезвенник и целомудрен, терпелив к своим обидчикам. Например, он только посмеялся над жителями Эдессы, которые избили бичами его статую, приговаривая, что претерпевший такое наказание человек не способен к царствованию – то есть хорошо, что избили не его лично, а только статую331. Справедливый и щедрый, попечитель подданных, ценящий верную службу, он был недоверчив только в отношении посягательства на свою власть – более чем объяснимая линия поведения332.
Не был он чужд и других добрых человеческих чувств. Как указывалось выше, очевидно, василевсу было выгоднее принять предложенный Магненцием мирный договор, дававший ему без труда многое, чем рисковать – и очень серьезно! – всем, чем он владел. Но долг отмщения смерти брата не позволил царю занять конъюнктурную позицию даже на время. Он победил тирана, хотя победа над Магненцием вовсе не была предопределена.
Истинная роль Констанция в деле восстановления единства Церкви открылась современникам несколько позднее. Когда после попытки реставрации язычества св. Григорий Богослов составил два обличительных слова на Юлиана, где противопоставляет царя-язычника царю-христианину, оставшемуся верным, несмотря на все колебания, Никейскому Символу Веры, он имеет в виду не св. Константина Великого, как можно было предполагать, а… Констанция. Святитель Григорий именует его «великим Констанцием», «благочестивым», «божественнейшим и христолюбивейшим из царей», которого «мышца Божия руководствовала во всяком намерении и действовании».
Святитель Григорий пишет, что Констанций «сам возрастал с наследием Христовым и, постепенно утверждая оное, возрастил в такую силу, что стал через сие именитее всех прежних царей». Лишь один недостаток видит в нем обличитель Юлиана – то, что он «впал в грех неведения, весьма недостойный его благочестия; сам не зная, воспитал христианам врага Христа; из всех дел своего человеколюбия оказал одну худую услугу тем, что спас и воцарил ко вреду спасенного и царствовавшего (то есть Юлиана. – А. В.) 333. Правда, св. Григорий тут же оговаривается, что в его обвинении содержится уже и извинение Констанция: «Кто не надеялся, если не другого чего, по крайней мере того, что Констанций почестями сделает Юлиана более кротким? Кто не полагал, что после доверенности, какая ему сделана даже вопреки справедливости, и он будет праведнее?»334
По утверждению св. Григория, Констанций разумением и быстротой ума во многом превосходил не только современных, но и прежних царей. «Ты очистил, – заочно обращается он к нему, – пределы царства от варваров и усмирил внутренних мятежников; на одних действовал убеждениями, на других – оружием, а в том и другом случае распоряжался, как будто бы никто тебе не противодействовал. Важны твои победы, добытые оружием и бранями, но еще важнее и знаменитее приобретенные без крови. К тебе отовсюду являлись посольства и просьбы: одни покорялись, другие готовы были к покорности. Мышца Божия руководствовала тебя во всяком намерении и действии. Благоразумие было в тебе удивительней благоразумия; самой же славы за благоразумие и могущество еще удивительней благочестие»335.
«Кому из знавших сколь-нибудь Констанция неизвестно, что он для благочестия, из любви к нам, из желания нам всякого блага не только готов был презреть… честь всего рода, или приращение царской власти, но за нашу безопасность, за наше спасение отдал бы даже самую державу, целый мир и свою душу, которая всякому всего дороже?»336
«Если же и оскорбил несколько, – продолжает св. Григорий, – то оскорбил не из презрения, не с намерением обидеть, не из предпочтения нам других, но, желая, чтобы все были одно, хранили единомыслие, не рассекались и не разделялись расколами»337.
«Никто никогда ни к чему не пылал такой пламенной любви, с какой он заботился об умножении христиан и о том, чтобы возвести их на высокую степень славы и силы. Ни покорение народов, ни благосостояние общества, ни титло и сан царя царей, ни все прочее, по чему познается счастье человеческое, – ничто не радовало его столько, как одно то, чтобы мы через него и он через нас прославлялись пред Богом и пред людьми, и чтобы наше господство навсегда пребывало неразрушимым. Ибо кроме прочего, рассуждая именно по-царски и выше многих других, он ясно усматривал, что с успехами христиан возрастало могущество римлян»338.
Без него «Церковь сиротствует и вдовствует», а сам он «вчинен Богом, наследовал небесную славу». «Голос сил Ангельских был слышен при погребении Констанция», и сам св. Григорий молился об усопшем: «Мы почтили должным образом земную храмину того, кто жил достойно царя, окончил жизнь смертью праведника».
Констанций действительно был царем-праведником, положившим всю свою не очень долгую, но содержательную жизнь на благо Кафолической Церкви и Римской империи.
III. Юлиан-Отступник (361—363)
Глава 1. На пути к царству
Взошедшему на престол молодому царю было 30 лет от роду. Родившись в Константинополе в июне 331 г. в семье родного брата св. Константина Великого Юлия Констанция, Юлиан, как указывалось выше, рано остался без отца и родственников, казненных солдатами. Из всех родных рядом с ним находился только старший брат Галл, и оба они оказались под опекой императора Констанция. По свидетельству историков, братьев охраняли очень строго, прервав все их возможные сношения с внешним миром.
Очень возможно, что эта превентивная мера была вызвана желанием трех царственных братьев лишить некоторых своих недоброжелателей возможности использовать родственную близость Галла и Юлиана к семье равноапостольного императора в политических интригах – спустя тысячелетия мы часто оцениваем те или иные действия и поступки изолированно, вне контекста исторической картины ушедших времен. Зная «свободные» политические нравы тех времен, несложно предположить, что при желании Константин, Констанций и Констант без большого труда предали бы их смерти: что-что, а организовать «несчастный случай» умели и в IV в.
Сам Юлиан позднее, в 356 г., в своем сочинении напишет буквально следующее о Констанции: «Царь был добр ко мне почти с самого раннего детства, его щедрость не имела пределов, он спасал меня от опасностей столь великих, что даже “муж и летами цветущий” не мог бы легко избежать их; и после того, как мой дом был захвачен неким человеком из тех, что имеют власть, как будто бы не было никого, чтобы отстоять его, Констанций вернул его мне, как и было справедливо, и еще раз восстановил мое богатство. Я мог бы рассказать вам и о других его благодеяниях, достойных всяческой благодарности»339. Конечно, можно допустить, что в этом публичном обращении Юлиан несколько преувеличил участие императора в своей судьбе, но все же несложно сделать вывод о добром расположении Констанция к нему и его старшему брату Галлу.
В любом случае мальчики остались живы, и потому едва ли уместна версия, будто сыновья св. Константина вынашивали в отношении них какие-то преступные планы. Скорее, речь шла об их безопасности и, повторимся, о разумных мерах обеспечить политическую стабильность в государстве. Наверное, это были далеко не чрезмерные меры предосторожности – последующие события, во главе угла которых иногда в качестве активной стороны, а зачастую, в виде слепого орудия реализации замыслов языческой партии находился Юлиан, позволяют обоснованно предположить, что эти мероприятия были далеко не излишними.
Мальчики жили под опекой Констанция, и их окружение составляли в основном люди духовного звания, все или тайные сторонники Ария, или умеренные антиникейцы. Главным воспитателем Юлиана являлся знаменитый (и печально знаменитый) Евсевий Кесарийский, а после его смерти в 341 г. учителем будущего августа стал некий придворный евнух Мардоний. Едва ли тот был сведущ в науках, но зато сумел внушить своему воспитаннику твердое убеждение в том, что наибольшая добродетель человека – самообладание и скромность. Нет, конечно, родственникам царей не воспрещалось брать уроки и у других педагогов, но при непременном условии, чтобы те были христианами.
Эта важная деталь позволяет укрепиться во мнении, что уже тогда некоторые силы пытались манипулировать царственным статусом Галла и Юлиана. По-видимому, до Констанция доходили кое-какие слухи и донесения тайных агентов о происках язычников, поэтому он предпринял решительные меры для того, чтобы не допустить их влияния на Галла и Юлиана. Но его усилия оказались тщетны – учителем Юлиана по грамматике являлся некий лакедемонянин Никокл, внешне принявший христианство, но в душе сохранивший приверженность языческим культам. Очевидно, он был образованным человеком и сумел привить Юлиану любовь к античной литературе, в первую очередь к Гомеру. Вторым учителем, также не отличавшимся особой тягой к христианству, стал софист Экиволий, систематически переходивший из христианства в язычество и обратно. Неудивительно, что Юлиан в душе своей не стал христианином, все более и более увлекаясь языческими культами. Последующие события только укрепили его религиозные воззрения.
В 343 г. Мардоний внезапно был отставлен от двора, а братьев перевели в уединенный каппадокийский замок Макелл. Целых 6 лет, с 343 по 349 г., Юлиан пробыл в замке, не имея свободы перемещения. Там он продолжил изучение классической греческой литературы, познакомившись с сочинениями Аристотеля и Платона. Но это делалось тайно, так как окружавшие Юлиана евнухи и священники тщательно следили за внешними проявлениями его христианского благочестия. И повзрослевший царевич принял правила игры, противодействуя им, по-видимому, не без помощи своих взрослых воспитателей. Он постоянно присутствовал при богослужении, раздавал милостыню нищим и даже был зачислен в сонм чтецов, читая народу на службах священные книги340. Но это были только внешние поступки, ничуть не выражавшие ту революцию чувств, что бурлила в сознании Юлиана.
В маленьких братьях сыновья св. Константина едва ли видели потенциальных конкурентов или даже крупных государственных деятелей. Они сами были еще очень молоды и вряд ли могли предположить, что их семейная ветвь так внезапно прервется. Вообще, у некоторых писателей складывалось впечатление, будто Галла и Юлиана готовили к принятию духовного сана341.
Возможно, так оно и было, но, к сожалению, духовники, воспитывавшие мальчиков, относились, во-первых, к не самым образованным кругам своего общества, и, во-вторых, понимали христианство очень ограниченно, в арианском смысле. Поэтому при всей внешней принадлежности к Церкви оба брата, особенно Юлиан, были весьма холодны к учению Христа. Впрочем, св. Григорий Богослов приводит другие данные о молодости и воспитании детей: по его словам, Констанций «удостоил их царского содержания и царской прислуги, сохраняя их, как последних в роде, для царского престола». Поэтому все первоначальное обучение было дано им непосредственно царем Констанцием342.
Несмотря на ухищрения и скрытность Юлиана, для окружающих все же не укрылась перемена, произошедшая в нем после увлечения древней философией, литературой и языческими верованиями. Святитель Григорий Богослов приводит два эпизода, в которых наглядно проявилась богоотверженность подрастающего юноши. В Каппадокии оба брата подвизались над постройкой храма в честь святого мученика Маманта, разделив между собой наблюдение за работами. Дело старшего брата Галла шло успешно, «Бог охотно принимал его дар, как Авелиеву жертву, и сам дар был как бы некоторым освящением первородного, – а дар другого отвергал Бог мучеников, как жертву Каинову»343.
Как ни старался Юлиан, но его строительство шло очень плохо, казалось, сама земля не желала принять труды человека, в своей душе уже отвергшего Христа. Хуже того, построенный братьями храм еще не успели освятить, а он уже рухнул, к ужасу местных жителей344. Многие окружающие не без страха наблюдали за происходящим, делая для себя обоснованный вывод, что Юлиан в почитании Бога неискренен.
Кроме того, опять же по свидетельству св. Григория Богослова, Юлиан в разговоре с братом не раз в запале защищал язычников, ссылаясь потом для объяснения своей позиции на необходимость упражняться в красноречии. Едва ли старший брат верил ему, но и не доносил; скорее, эти факты стали известны ближнему окружению принцев, присутствовавшему при их ораторских диспутах, а через них доходили до Констанция. И, откровенно говоря, мало верится, будто их религиозные убеждения кардинально разнились между собой – едва ли обоснован тезис о наличии христианских добродетелей у Галла, зная, как он вскоре поведет себя в качестве цезаря Сирии. В этом отношении сравнение его трудов с «Авелиевой жертвой» могло являться со стороны св. Григория Богослова известным риторическим приемом, позволяющим таким гротескным сравнением еще более подчеркнуть антихристианские настроения Юлиана.
После того как в 351 г. Галл стал цезарем, Юлиан начал думать о собственной карьере – мысль, появлению которой также наверняка помогли некоторые воспитатели из близкого круга молодого человека. К этому времени его уединение закончилось: Констанций разрешил ему свободно передвигаться по стране, видимо, уверенный в его благонадежности. Прибыв в Константинополь, царевич встретил самый ласковый прием со стороны местных жителей. Им импонировали его ученость и склонность к науке, все видели в нем образованного и ласкового в обращении юношу, даже стали поговаривать о том, что именно он должен стать преемником бездетного Констанция. Все это не могло не возбудить недоверие к Юлиану со стороны императора, который уже получил известия о безобразном поведении Галла и его честолюбивых проектах.
Потому, от греха подальше, царь велел отправить Юлиана в Никомидию, что едва ли можно отнести к удачным решениям. Следует отметить, что этот славный город Малой Азии в то время был настоящим прибежищем для языческих ораторов, философов и софистов со всех границ Империи, так что Юлиан нашел вполне подходящее для себя окружение; например, там жил и преподавал известный софист Ливаний, язычник по своим убеждениям, которого страстно желал услышать юноша. Правда, опасаясь негативных последствий, Констанций предусмотрительно взял с Юлиана клятву, что тот не будет слушать лекций Ливания, и юноша охотно присягнул, даже и не думая, конечно, сдержать своего слова345.
Итак, в Никомидии Юлиан попал в самое «пекло» язычества – здесь собрались самые разнообразные его элементы, изгнанные или не признанные в других провинциях Римской империи. В юном царевиче они с восторгом для себя обнаружили лучшее орудие против христианства. И вновь сформированное окружение Юлиана поставило перед собой задачу окончательно укрепить его в политеизме с тем, чтобы получить энергичного защитника древнего культа. Самое решительное влияние на Юлиана имел философ Максим, известный в своих кругах теург и маг, который очень быстро подчинил Юлиана своему влиянию и посвятил в теургические и магические обряды346. Их отношения были очень близкими и доверительными. Через много лет, уже став царем, Юлиан, узнав о прибытии в его ставку Максима, бросил все дела и выбежал навстречу своему старому другу и воспитателю347.
Безусловно, мысль о скором поставлении Юлиана на царский престол уже давно витала в умах азиатских язычников. Дело в том, что в то время среди них были чрезвычайно популярны «пророчества», согласно которым христианство вскоре будет повержено. Понятно, что «ниспровергателем» мог стать только глава Римской империи, и таковым они видели Юлиана. Очевидно также, сам Юлиан не стремился их в этом разубеждать. Все же можно констатировать: эта группа вела весьма скрытный образ жизни и не давала повода для преследований, поскольку ни при каких обстоятельствах подозрительный Констанций не стал бы доверять человеку, замыслившему против него столь честолюбивые планы.
Постепенно в душе Юлиана утратились последние следы заложенных в детстве первооснов христианства. Если первоначально его увлечение язычеством можно было отнести к детской любознательности и специфичной психике «переходного возраста», когда назойливые наставления взрослых переходят в зримые формы протеста детей, то теперь принц стал сознательным приверженцем языческих культов. Он думал уже не о сравнении их с христианством, а о том, какой из них наиболее близок его воззрениям и эстетическим чувствам.
Юлиан искренне недоумевал, как люди могли воздавать поклонение Христу, и почему, по какой причине люди так быстро отпали от старых богов? Вместо сухих, по его мнению, обрядов христианства, Юлиана привлекала атмосфера античных образов, эстетика греческой литературы, ее богатство и разнообразие, таинственность древних культов, их мистика. Отпадению молодого царевича от Церкви в немалой степени способствовали события церковного раскола. Он с едва скрываемой брезгливостью наблюдал за противостояниями и непристойными страстями, нередко демонстрируемыми главами отдельных партий, их интригами и попытками любой ценой получить вселенское первенство собственных редакций Символа Веры.
Все же Юлиан был по-своему слишком образован, чтобы удовлетвориться только древними отеческими культами – сам политеизм уже был недостаточно для него интеллектуален. К этому времени его очень увлекли неоплатоники, вдохнувшие свежий ветер в казалось бы угасающую страсть; аллегоризм неоплатоников оказался в состоянии удовлетворить возрастающие потребности интеллектуального роста. Новые учителя еще более укрепили Юлиана в мысли о его первородном предназначении занять Римский трон и повернуть вспять колесо истории. Известно, что в это время до Констанция и Галла стали доходить отдельные слухи о новых увлечениях Юлиана, вполне возможно также, что Галл, уже замысливший занять трон Констанция, испугался не столько религиозных перемен в брате, сколько сведений о его амбициозных планах. Ведь если бы Констанций получил об этом более точные известия, участь Галла и Юлина могла считаться предрешенной.
По счастью для обоих братьев, посланный императором для ревизии дел арианский священник Аэций не усмотрел в поведении Юлиана ничего предосудительного. Он даже доложил царю, что тот регулярно посещает богослужения и гробницы мучеников и ревностно исполняет обязанности христианского благочестия348. Впрочем, через много лет сосланный Констанцием Аэций был возвращен Юлианом в епархию, и ему был сделан богатый подарок. Трудно уклониться от мысли, что таким образом Отступник отблагодарил того, в чьих руках в какой-то момент времени была его жизнь и карьера. Для Юлиана это был слишком очевидный сигнал, чтобы он им пренебрег. С еще большим рвением он начинает внешне исполнять христианские обряды, ведет аскетический образ жизни и даже сбрил бороду, которую ранее отпустил по примеру древних философов.
Но в 354 г. его положение становится критическим: неудачный заговор Галла едва не стоил жизни самому Юлиану. Помимо этого, Констанцию стали известны, хотя и в смутных деталях, замыслы языческой партии о возведении Юлиана на престол. Юношу срочно переводят в Милан, рядом со ставкой императора, где на царском совете решалась его судьба. Подавляющее большинство царского окружения безоговорочно высказалось за смерть царевича, но император не решался умертвить родственника, не видя за ним прямой вины. Целых шесть месяцев его жизнь висела буквально на волоске, он был окружен бдительной стражей и множеством шпионов, немедленно доносивших царю обо всех его телодвижениях. Наконец, в дело активно вмешалась царица Евсевия, убедившая царя в безосновательности возводимых на Юлиана обвинений. «Она настаивала на своих просьбах к императору, – писал сам Юлиан, – до тех пор, пока не привела меня пред царские очи и не устроила мне разговора с государем. Она радовалась, когда я оправдался от всех несправедливых обвинений и когда я пожелал вернуться домой, она первая стала убеждать царя удовлетворить эту просьбу»349.
Полагают иногда, будто таким образом она хотела обеспечить свое вдовье будущее на случай преждевременной гибели императора – одна из версий (правда, сомнительная), имеющих право на существование. Царю в то время не было еще и 40 лет, болел он редко и едва ли имелись реальные основания предполагать, будто он непременно должен был отойти к Богу раньше своей жены.
Более правдоподобно предположение о том, что царицей двигали более высокие побуждения – забота о Римской империи, которая после смерти бездетного Констанция осталась бы без царя. Возможно также, что здесь довлело и нечто личное – не имея детей, она желала утолить материнские чувства на умном и образованном Юлиане. Вообще, как известно, впоследствии Евсевия довольно ревниво относилась к жене Юлиана – естественная реакция всякой матери на невестку. Так или иначе, но именно она сумела добиться личной встречи царевича с Констанцием, в ходе которой Юлиан с присущим ему ораторским искусством и лукавством разрушил все подозрения на свой счет. Его освободили из-под стражи и даже разрешили выехать в Афины для продолжения образования, опять же, по хлопотам Евсевии.
Афины того времени были не только центром античного просвещения, но и местом, которое регулярно посещали деятели языческой партии, наиболее известные прорицатели и теурги. Вместе с ними Юлиан стал бывать на языческих капищах, устраивал богослужения и предавался гаданиям о собственной судьбе350. Вместе с ними юноша искренне сожалел о «падении нравов» и клялся немедленно восстановить древние культы после своего воцарения. Знакомство с теургами оказалось для Юлиана очень кстати. Да, неоплатоники дали ему необходимую рациональную основу для формирования собственного мировоззрения, но душа, оставившая Церковь, искала духовной пищи. Юлиан жаждал мистерии, чувств, способов познания духовного мира. И такой суррогат был ему в избытке предоставлен.
По свидетельству Феодорита Кирского, находясь в Элладе, он обходил гадателей и «провещателей», которые могли бы предсказать ему императорскую корону и удовлетворить духовный голод; подходящая кандидатура, конечно, вскоре нашлась. Вместе с этим безымянным для нас «предсказателем» Юлиан проник ночью в языческое капище, где ему явились демоны. Испугавшись их, юноша непроизвольно перекрестился, отчего те немедленно с испугом удалились вон. Но спутник Юлиана пристыдил его этим поступком, объяснив, что демоны якобы не боятся крестного знамения, а лишь презирают его, после чего ввел Юлиана в «тайны беззакония»351.
Хотя в это же время в Греции Юлиан встречался с будущими святителями Василием Великим и Григорием Низианзином, встречи с ними не оставили большого следа в его душе. Так, отправляясь после полугодичного пребывания в Афинах на западные границы государства для их защиты от варваров, он на виду всего народа горько стенал о предстоящем расставании и проливал горькие слезы, прося у богов смерти для себя.
6 января 361 г. на празднике Богоявления во Вьенском соборе Юлиан последний раз присутствовал на христианском богослужении. Спустя несколько месяцев он прошел несколько ступеней митраистских посвящений, заняв вторую ступень в иерархии и став Гелиодромом – Посланцем Солнца352.
Посвященный в элевзинские мистерии, Юлиан настолько проникся уважением к ним, что, отправляясь в поход в Галлию в 361 г., даже пригласил элевзинского жреца для совершения над собой особого таинственного обряда, в ходе которого торжественно засвидетельствовал формальный акт своего отречения от христианства353. Почувствовав собственную силу, приняв от Констанция титул цезаря, Юлиан уже не скрывал своей расположенности к язычеству. Но эти события произойдут в скором будущем, а до этих пор царевич продолжал скрывать свои пристрастия.
Если у Юлиана ладились дела на публичном поприще, то семейная жизнь не приносила радости. Царица Евсевия, столь много сделавшая для молодого цезаря, невзлюбила его жену – сестру своего мужа Елену. Поговаривали даже, что она сделала все, чтобы лишить Юлиана мужского потомства, в частности, при помощи повивальной бабки умертвила новорожденного младенца Елены, а потом тайно давала ей специальное снадобье, чтобы у царицы каждый раз случался выкидыш354. Впрочем, Юлиан не любил своей жены и через короткое время расстался с ней, попросту выгнав из дома.
Надо сказать, прибыв в новом и лестном для себя качестве цезаря на Запад, Юлиан сумел быстро выправить там положение. В течение времени своего правления Галлией, с 355 по 361 гг., он показал себя хорошим администратором, удачливым полководцем и государем, способным снискать к себе признательность подданных. Прибыв в качестве номинального правителя, в реальном управлении которого находилась только его личная охрана (360 человек), Юлиан тщательно изучает военное дело и вскоре уже делает прекрасные успехи. Когда в июне 356 г. германцы захватили нижнюю Галлию и Кельн, попутно осадив город Отен, принц решительно взял командование войсками в свои руки и отразил натиск варваров, сняв осаду с Отена, Страсбурга, Брумата, Цаберна, Зальца, Шпейера, Вормса и Манца, а затем даже отбил у германцев Кельн.
В 357 г., попав в опасное положение вследствие предательства некоторых римских военачальников, Юлиан с 13?тысячным отрядом оказался лицом к лицу с 60 тысячами Хнодомара, которых блестяще разбил в битве при Страсбурге. Говорят, потери варваров были гигантские, а у римлян – несколько сот человек. В октябре, когда кампании уже обыкновенно не велись, правитель Запада внезапно перешел Рейн, восстанавливая старые укрепления и захватывая пленных. В 358 г. Юлиан заново отстроил флот, после чего Рейн окончательно перешел под контроль римских войск. В результате этого в 359 г. варвары вообще не осмелились напасть на римские провинции355.
Разбив франков и алеманов, он обеспечил правосудие на имперских территориях и облегчил нестерпимое бремя налогов, восстанавливал разрушенные селения и города, защищал население от произвола местных чиновников. Свои удачи молодой цезарь открыто относил к милости древних богов, сам исподволь потакая реставрации языческих культов в городах, находившихся под его властью, и принимая непосредственное участие в жертвоприношениях.
К этому времени он стал суеверным до крайности, особенно когда встал вопрос о войне с Констанцием. В Иллирике некий опытный оратор и тайный маг Апрункуллий, назначенный впоследствии Юлианом правителем Нарбоннской Галлии, устроил жертвоприношение, предсказав счастливое будущее для самопровозглашенного августа. Но Юлиан опасался, что таким образом друзья лишь желают поддержать его, потакая тайной слабости и честолюбию молодого правителя. В тот самый момент, когда Констанций умер, о чем узурпатор еще не знал, он садился на коня, и солдат, придерживавший Юлиана рукой, упал на землю. Узурпатор тут же громко воскликнул, что тот, кто поднял его на высоту, то есть Констанций, упадет от него, и его настроение заметно улучшилось356.
Что же представлял собой 30?летний претендент на трон, поднявший руку на собственного благодетеля? Современники отмечали бытовую скромность и умеренность молодого царя. Он очень мало спал, да и то использовал в качестве кровати войлок, а вместо одеяла – бараний тулуп, был чрезвычайно неприхотлив в еде, довольствуясь малой пищей. Юлиан был религиозен, но к этому времени совершенно охладел к христианству и сделался его тайным недоброжелателем. Ночами он молился Меркурию (если находился на войне) и другим языческим богам (в мирные часы), а днем много времени уделял своему образованию и в первую очередь философии. Он хотел казаться милостивым императором, нередко значительно смягчая уже вынесенные судом приговоры. Однажды потерпевшие остались недовольны тем, что Юлиан сменил казнь ссылкой. На что царь ответил: «Пусть право сделает мне упрек в мягкосердии, но законы милосердия императора должны стоять выше остальных»357.
Юлиану хотелось продемонстрировать на собственном примере блистательного государя и полководца, наполненного всяческими доблестями и дарами, милостивого и снисходительного, благородного и твердого, такого философа на троне по примеру героев Гомера и мудрецов Платона. Когда его учитель Оривасий сказал Юлиану: «Не должно, быв в гневе, обнаруживать его голосом и взглядом», тот ответил: «Ты прав – увидишь, придется ли тебе в другой раз обвинить меня в этом»358. Обремененный многими государственными делами, он не оставлял упражнений в словесности, очень заботясь о впечатлении, которое производил на окружающих359.
Юлиан хотел всем показать, что добродетели не являются исключительной чертой христианина, но, напротив, приверженец отеческих богов должен снискать еще большее одобрение людей своими поступками и делами. Нельзя сказать, что все это было исключительно показными демонстрациями, но, надо признать, в основе всего этого лежали гордыня и самолюбование. Это был искренний в своем роде и честолюбивый молодой человек, носящий в себе печаль ранних утрат и недоверия к окружающим, скрытный и не без хитрости, в отдельные моменты циничный и дерзкий лицемер, решительный, сметающий все преграды со своего пути. Ему очень хотелось остаться в памяти потомков великим философом и бесстрашным государем, «Апология» Платона бередила ему душу и налагала некий образ мыслей и поступков, которым Юлиан желал следовать. Безусловно, он обладал твердым характером и незаурядной выдержкой. Так, уже на смертном ложе он беседовал со своим любимцем Максимом о высоте души, как будто тень смерти не стояла у изголовья его ложа.
Его философские настроения хорошо передает следующий случай. Задолго до своей смерти он получил предсказание собственной смерти: «Когда, потрясая мечами, ты покоришь скипетру своему персидское племя до Селевкии, тогда, освободясь от смертных, подверженных страданию членов, ты вознесешься к Олимпу на лучезарной колеснице и, возвращаясь в вихрях бурных, достигнешь родной обители эфирного света, откуда, заблудившись, ты нисшел в человеческое тело». Восторгу Юлиана не было предела! Он радостно говорил, что с удовольствием оставит свое смертное бренное тело и воспарит в мир идей и духов – ясный и классический пример, позволяющий доказать, что «предсказатель» вполне владел философскими настроениями Юлиана (а, судя по отрывку, он полностью был погружен в философию Платона) и слабыми сторонами его души360.
Эвнапий Сардиец (346 – после 404 г.), приверженец язычества и глубокий почитатель Юлиана, говорил, что тот имел любовь к воинам не потому, чтобы льстить им, но потому, что знал, что это полезно. Милосердный к преступникам, полагал историк, он всячески демонстрировал свою доступность и открытость людям, к которым выходил после языческих богослужений; «многие тяжебные дела доходили до Юлиана, все вполне удовлетворялись правосудием судящим их»361.
Однако некий неизвестный христианский писатель того века более жестко и, главное, объективно описывает василевса: «Он избрал царскую власть не для того, чтобы исправить жизнь человеческую, – да он ничего и не исправил, – но по необузданному славолюбию он оказался неблагодарным к благодетелю (Констанцию), и, предаваясь пагубному поклонению водящих его демонов (богам языческим), он не узнал, что получит от них и конец, достойный лжи и его неистовства»362. Если уж Феодорит Кирский в своей «Церковной истории» называет благочестивым Галла («который и в то время соблюдал благочестие, и после, до конца жизни был благочестив»), то можно представить, каков был в действительности Юлиан363.
Своей краткой биографией новый царь дал немало примеров решительности и способности идти на риск, даже чрезвычайный. Но за этим фоном нередко скрывалась душа робкая и нерешительная. Это была гордыня, поставившая себя на невероятную высоту собственного тщеславия, не имевшая внутри себя никакого нравственного стержня и потому нередко срывавшаяся с вершин до уровня «твари дрожащей». Юлиан мечтал стать по славе выше Александра Македонского и Юлия Цезаря, считал себя избранником богов, нисколько не колеблясь, высмеивая всех предыдущих государей в своих памфлетах. Но, приняв решение, нередко впадал в некое подобие психологического ступора, из которого мог выйти только при помощи своих льстивых соратников и многочисленных жертвоприношений. В минуты мистерий он, в буквальном смысле этого слова, призывал к помощи демонов и только успокоенный ими, поддавшись внушениям, которые признавал за слова утешений богов, приходил в себя и вновь являл решимость и настойчивость в реализации самых дерзновенных планов.
Глава 2. Царствование и преследования христиан
Жизнь показала, насколько Юлиан был готов к выполнению начерченной им же себе задачи построения «просвещенного государства» и соответствовал высокой роли благодетеля Римской империи. Став императором, Юлиан все же первое время опасался заявить о возврате языческих культов. Наконец, прибыв в Константинополь 11 декабря 361 г., он открыто сказал о своей принадлежности к язычеству, после чего стал именоваться в народе Юлианом-Отступником. Далее, пишет Феофан Византиец, «сделавшись самодержцем, Юлиан без стыда начал жить по-эллински, святое крещение смыл с себя кровью жертв и делал все для служения демонам»364. Наивно полагать, будто Отступник, вкусивший прелести мистерий и получивший посвящения в самые тайные культы, мог без улыбки взирать на «допотопные» отеческие культы. Но, как человек «просвещенный», он отдавал себе отчет в том, что положенное «избранникам богов и судьбы» не может быть преподано рядовому гражданину.
Казалось бы, склонность Юлиана к политеизму не предполагала введения какого-то нового персонифицированного культа. Но, как ни странно, в сочинении Отступника «Против христиан», письмах и философских отрывках, дошедших до нашего времени, он признавал существование «верховного разума» и «вечного отца, царя всего мира и всех людей», из которого рядом эманаций проистекает все обновление мира365. Кажется удивительным, но при всей нелюбви Отступника к иудеям он искренне пытался включить иудаизм в свою философскую систему366. Но тонкость заключается в том, что к этому времени иудаизм уже сделал решительный отход от древнееврейских благочестивых обычаев и сформировал собственную интерпретацию Ветхого Завета, включая каббалистические учения, принадлежавшие кругу избранных. Несложно предположить, учитывая характер Юлиана и его страсть входить в тайные группы особо посвященных, что такого рода учения очень льстили его самолюбию, давая выход безудержному стремлению познать мистические тайны и встать в некий тесный круг, где простым смертным нет места.
В целом, зная предысторию его духовного развития и круг учителей, трудно отделаться от мысли, что к тому времени Юлиан предался сатанистским культам. У современников складывалось небезосновательное ощущение, что на языческий алтарь укладывались не только жертвенные животные. Проходя с войском мимо города Карры во время похода на Персию, он велел закрыть на замо?к языческий храм, оставаясь там наедине со своими ближними духовными учителями. После ухода горожане открыли храм и обнаружили повешенную женщину с распоротым животом – Юлиан гадал о результатах похода на ее печени. А в Антиохии после смерти Отступника были обнаружены многочисленные человеческие головы и мертвые тела – также результат мистических опытов Юлиана367.
Незадолго до войны он велел восстановить Иерусалимский храм, возведенный некогда царем Соломоном (965—928 гг. до Р.Х.) и разрушенный Римскими императорами Веспасианом (69—79) и Титом (79—81)368. Безусловно, это предприятие было задумано василевсом не для того, чтобы подчеркнуть свой политеизм, с ним связывались и религиозные пристрастия Юлиана. Иногда предполагают, учитывая невероятную скаредность нового царя, что выделить громадные деньги для восстановления Иерусалимского храма его заставила тщеславная надежда опровергнуть пророчество Христа, согласно которому святой город и храм будут разрушены и пребывать в запустении. Ему не терпелось показать христианам, что их Бог ничтожен перед его языческими богами 369.
Представляется, что здесь были соединены несколько планов – и практический («унизить» Христа), и духовный, связанный с религиозными симпатиями Отступника. Он искренне симпатизировал иудеям, верование которых полагал вполне уместным в своем государстве и с которыми его роднила ненависть к христианству370.
Иудеи, уже несколько столетий мечтавшие восстановить храм, рьяно взялись за дело, тем более что по приказу царя правитель области выделил им из казны необходимые средства для приобретения строительных материалов – камень, кирпич, брус, глина и известь371. Для того чтобы сделать храм побольше, евреи, стекшиеся в Иерусалим со всех концов земли, разрушили остатки былых храмовых стен, выкопав старые каменные глыбы. Казалось, их мечты вскоре сбудутся. Однако Иерусалимский патриарх св. Кирилл I (350—357; 358—360; 362—367; 378—386), ссылаясь на пророчество пророка Даниила, успокаивал христиан, говоря: «Они сами низвергнули последние камни своего храма; посмотрим, как удастся им постройка нового»372.
И, несмотря на все старания евреев, работы в Иерусалиме не увенчались успехом – бури разбрасывали вырытую землю, огненные языки выходили из земли и прогоняли рабочих, иных даже умерщвляя, а потом землетрясение поглотило все возведенные постройки. А в небе воссияло знамение в форме креста, отражающееся на всех окружающих предметах и одеждах работников. Как и следовало ожидать, стать выше Христа Юлиану не удалось373.
Первой заботой нового царя стало восстановление справедливости, в его собственном понимании, в государстве и упразднение тех традиций, которые укоренились в бытность Констанция. Твердый аскет, новый царь немедленно освободил свой двор от многочисленной прислуги, которая тысячами промышляла при Констанции, и ввел буквально спартанский образ жизни. Он также отменил некоторые, наиболее непосильные налоги и обратил самое пристальное внимание на судопроизводство. С полным беспристрастием пытался вникать царь в каждое дело, переданное на его рассмотрение, желая воздать каждому по закону и высшей справедливости. Особенную строгость он испытывал к клеветникам, поскольку, пребывая иногда ранее едва ли не в заточении, на себе испытал последствия их наветов. Юлиан проявлял ревностное стремление разобраться в существе каждого дела, порой нарушая для этого даже правила судопроизводства.
Впрочем, высший судья не всегда был справедлив и объективен; например, он нередко в ходе процесса интересовался у сторон об их конфессиональной принадлежности и, надо полагать, ответ на этот важнейший для Юлиана вопрос нередко предвосхищал судебный приговор. Даже писатель Марцеллин, чрезвычайно благоволивший к Юлиану, был вынужден отметить, что «кое в чем он руководствовался не законом, а своим произволом (выделено мной. – А. В.) и кое-какими погрешностями омрачил широкий и светлый ореол своей славы»374. Конечно, это было серьезным отступлением от платоновских принципов, где закон являлся высшим мерилом справедливости вне зависимости от личных настроений.
И это было только начало. Спустя короткое время Юлиан устроил настоящий террор в отношении всех тех, кто служил Констанцию, стараясь стереть из памяти современников все, что так или иначе относилось к его предшественнику. В первую очередь он прогнал свою жену Елену – сестру Констанция375. Затем к изгнанию были приговорены Палладий, бывший магистр оффиций, бывший префект претория Тавр, о невиновности которого говорит даже Марцеллин. Столь же несправедливо был сослан Флоренций, сын магистра оффиций, а его тезка, другой Флоренций, приговоренный вместе с женой к смертной казни, едва успел бежать и до самой кончины Юлиана опасался заявлять о себе. Казнь Урсула, комита государственного казначейства, по словам Марцеллина, «оплакивала сама Справедливость, обличая императора в неблагодарности»376. Царю даже пришлось распространить слух, что сам он не причастен к гибели Урсула, которого якобы самовольно казнили ненавидевшие его военные. Надо сказать, казни также не отличались особым милосердием: некоторые осужденные, хотя бы и справедливо, по закону, были сожжены живыми на костре.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: