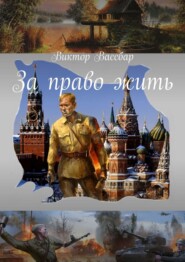скачать книгу бесплатно
За право жить
Виктор Вассбар
Рассказы о Великой Отечественной войне, о праве каждого человека жить и о его праве умереть за свою Родину – За Русскую Землю!
За право жить
Виктор Вассбар
Редактор Виктор Васильевич Свинаренко
Дизайнер обложки Елена Владиславовна Смолина
Корректор Светлана Михайловна Свинаренко
© Виктор Вассбар, 2023
© Елена Владиславовна Смолина, дизайн обложки, 2023
ISBN 978-5-0050-3799-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
За эту работу автор награждён дипломом православной литературной премии 2020 имени святителя Макария, митрополита Алтайского
В год 75-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
всем воинам огненных лет посвящаю!
От автора
Эта книга о юношах и девушках, взросление которых выпало на огненные годы Великой Отечественной войны. Не всем им судьба дала встретить победную весну сорок пятого года, увидеть салют и парад Победы, но все они знали, что победят коварного и сильного врага, знали, что будет Победа и проливали свою юношескую горячую кровь с верой в неё. Они в это верили, и в мыслях видели жизнь без войн, в радости и счастливую.
Повести и рассказы вымышлены, но то, что в них показано, могло быть, и частью было, так как в них кроме авторской фантазии представлены воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Фамилии героев книги вымышлены, возможное их совпадение с реальными людьми не должно приниматься за достоверность.
Часть 1. Повести
Огненные годы
Глава 1. Таёжная деревня
Филимон Берзин
Утренние летние лучи солнца, осветив небосвод, выбелили хмурые ночные облака и упали на крыши домов маленькой, в пятнадцать дворов деревеньки. Филимон Берзин – физически крепкий, плотно сбитый семнадцатилетний юноша второй день гостил дома после окончания технического училища в городе Бийске. Открыв глаза, юноша потянулся в постели, беззаботно улыбнулся, осознав себя дома после долгой разлуки с матерью и двумя сёстрами, выпростал из-под тонкого домотканого покрывала ноги и, бодро шлёпая босыми ногами по половицам пола, пошёл к рукомойнику, висевшему на гвозде у входной двери слева. Освежив лицо и пробудив глаза холодной колодезной водой, загодя принесённой матерью для любимого сына, Филимон отворил дверь в сени и, миновав их, вышел на широкое крытое крыльцо.
Суббота, месяц – июнь, день – двадцать первый, год – одна тысяча девятьсот сорок первый.
– Эх, красота, и денёк будет чудесный, вон, как солнышко-то разыгралось, – посмотрев на редкие белые кучевые облака, плывущие по сини неба, – проговорил юноша и улыбнулся матери, выходящей из коровника с полным ведром парного молока.
– Сыночек проснулся. Вот и славно, молочком сейчас напою тебя. Соскучился, небось, по парному молочку-то, – увидев сына, радостно блеснула глазами Феодосия Макаровна.
– Соскучился, маменька! В городе его не особо… не попьёшь, деньги нужны… немалые – улыбаясь, ответил Филимон. Подошёл к матери, взял из её рук ведро с молоком и поставил его на площадку крыльца.
– Вот, Зорька, летом-то как славно молоком нас одаривает, сынок. Сейчас тебе кринку налью, дочкам молочка, а остальное в ледник. Спасибо батьке твоему, мужу моему Васеньке, поставил до смерти своей дом славный и ледник добрый смастерил. Где ж ты теперь, родненький мой? Где ж косточки твои? Где ж сгинул ты, сердешный мой? – запричитала Феодосия и, резко оставив прошлое позади, вновь перешла к заботам дня. – За зиму-то с Марьей и Настёной, – сёстрами твоими лёд в него натаскаем и, слава богу, хватает до холодов-то. А иначе-то как? Там тебе и сметанка, и маслице, и молоко морозим. Да ты сам знаешь, – махнув рукой. – Что это я тебе о своём-то всё, да о своём! – А ты бы, сынок, на озерко-то сходил. Авось рыбка, какая-никакая, в сетёшки уже насбиралась. А я бы из неё к обеду уху сварила, а к вечеру сковородочку сжарила. А ежели, какой улов хороший, так можно и завялить, зимой-то она хороша… уха-то. Рыбку навялим, порошку из неё натрём, вот и уха славная… зимой-то, – и снова к прошлому. – Эх, Васечка, Васечка, ушёл ты в тайгу в запрошлом годе, и сгинул, родненький, невесть где. И нет могилки твоей, негде мне слезу уронить по тебе, сердешный мой. – Курей-то, сам знаешь, сынок, которые хорошо несутся, не бьём, вот и приходится у соседей выменивать масло, али творог, али ещё чего из молочного, дай бог тебе здоровья, Зорька наша ясная, на мяско-то. Дочки растут, им в теле себя держать надо, кто ж на них… худорбу-то посмотрит, а девке куковать одной несподручно, это как… ну, да ты знаешь, сынок. Народ-то он, какой… ему лишь бы язык почесать. Наговорят, чёрт те знает что, прости меня господи, потом докажи, что не убогие, сёстры-то твои – Марья с Настёной. Эхе-хе! Горемычная я, и не вдова и не баба мужняя. Одна ныне надёжа на тебя, сынок. Ты уж побереги себя… в городу-то. Народу-то там небось тьма тьмущая, кабы чего… Людей плохих сторонись, клонись к обстоятельным, к которым… Ну, да ты сам знаешь. Серафима-то, дочка Панкрата Семёновича Хоробрых заходит. Да… Часто заходит! – серьёзным тоном. – Заходит. Дай бог ей здоровья! Про тебя всё спрашивает. Как, да что пишешь? Ты бы, сынок, проведал её, девка-то она справная, видная, коса-то у ней загляденье, толстая, лучше всех в деревне-то… нашей. Ленточки б ей подарил, вот девке-то и радость бы была. Уж больно хороша она, невесткой справной была бы.
Разговаривая, Феодосия Макаровна налила в кринку молоко. Затем зашла в дом и принесла на тарелке ломоть ржаного хлеба.
– Откушай, сынок! И за рыбкой-то сходи.
– Схожу, мама, обязательно. Сети ещё с вечера поставил. Авось битком уже.
– Дай-то бог!
Выпив полную кринку молока, съев крупный ломоть ржаного хлеба, утерев губы кулаком, Филимон пошёл в сарай и вскоре вышел оттуда с лодочным кормовым веслом.
– Так я пойду, мама. Сёстрам накажи, пусть через час к реке с вёдрами придут. На уху рыбу-то возьмут, а сам-то я ещё сызнова сети поставлю, глядишь, до вечеру ещё рыбы наловлю. После ужина, значит, проверю их и на ночь, так, глядишь, и заготовим вам на зиму… рыбы-то. Сам-то я к вам зимой из города вряд ли доберусь, хотя… как бог даст, – проговорил Филимон и направился к калитке в воротах, подумав, – Серафима она, конечно, девушка справная, первая красавица на деревне. А ленты… ленты-то давно припасены уже. Вот и пойду, – полно утвердившись в намерении навестить любимую ещё с детских пор девушку, подумал Филимон, – а что не пойти-то… Чай, не прогонят, соседи небось. Батьки-то наши завсегда в добрых отношениях были. Скажу, что рыбу поймал, куда её… улов дюже добрый нынче. Оно, конечно, Панкрат Семёнович и сам добрый рыбак, а всё ж таки и моей рыбой-то авось не побрезгуют. Пойду! – утвердительно.
Озеро встретило покоем. Рыбы в сети набилось, как никогда ранее.
– Ты смотри-ка, прям стеной какой, да крупная вся! Чудеса, прям! Никогда такого не видывал. Тут тебе и таймешки и окушки, и хариусы, и караси добрые! Ах, как славно! Славно! Славно! – вынимая из последней третьей сети улов, восклицал Филимон. – Будет у мамы и сестёр добрая еда на зиму. Где-то и на мясо можно сменять. То, что словил, уже на зиму хватит, а дней-то ещё много… отпускных. Заготовлю, можно спокойно и в город. А что… Серафиме, – Филимон стал считать, загибая пальцы, – нынче в мае исполнилось пятнадцать, на следующий год, значит, уже шестнадцать, а ещё через два года аккурат восемнадцать… Это мне, значит, сколько уже будет-то? Нонче семнадцать, а потом… – задумался, подсчитывая, – потом как раз и двадцать. К тому году-то разряд получу высокий. Заработок добрый будет, можно будет и сватов засылать, – и резко вздрогнул. – А как бы оно того… Серёжка Трусов сказывал, что хороша больно, – Серафима-то. К чему бы это? Он-то здесь остаётся, а я в городе Бийске. Это что же получается? Я, значит, ленты ей, а она за Серёжку замуж пойдёт. Не бывать этому, – вынув последнюю рыбу из сети и в сердцах бросив её на дно лодки, возмущённо воскликнул Филимон. – Вот пойду щас и скажу маменьке, пущай сговаривать идёт. Так-то оно лучше будет! – снимая с лица грозное выражение лица, улыбнулся Филимон и с успокоившейся душой направил лодку к берегу.
На следующий день, – в воскресенье двадцать второго июня Филимон в праздничной рубашке и начищенных до блеска хромовых сапогах с матерью, наряженной в сарафан, даренный мужем Василием за год до своего ухода в тайгу и исчезновения в ней, вошёл в дом Панкрата Семёновича Хоробрых.
Поклонившись и поздоровавшись, нежданно-негаданные гости подняли со скамьи хозяина дома, мастерившего берёзовый туесок, переполошили его жену, – моложавую стройную женщину Клавдию Петровну, и залили пылающим румянцем красивое лицо с маленьким курносым носиком их единственной дочери Серафиме, что-то вышивавшей цветными нитями у открытого окна просторной горницы. Даже старый кот, постоянно спавший на тряпках в углу рядом с печью, открыл выбеленные временем глаза и заинтересованно, широко и беззвучно зевая, посмотрел на гостей, затем вновь опустил голову на лапы и замер, поняв, что ничего интересного лично для себя от гостей не ожидается.
– Ой, господи! Ой, господи! Гости дорогие, проходите к столу, – загомозила хозяйка и, как квочка крыльями, захлопала руками по своим покатым бёдрам, не зная за что ухватиться и куда лучше усадить дорогих гостей.
– Ты, Клавдия, не мельтеши, соседи верно по делу пришли, собери на стол, а ты, Серафима, – повернувшись лицом к дочери, – надеть что-нить праздничное. Вынь платье из сундука, что к году новому тебе дарил, нонешнему, зайди за полог и надень его, нечего ему зазря там пылиться.
– Да, какая ж там пыль-то папенька?! – рдея лицом, ответила Серафима. – Сундук-то новый, в позапрошлом годе сам смастерил.
– Так-то оно так, а всё ж таки нечего ему там зазря лежать. Вот!
– Я быстро, папенька, – ответила Серафима и, оставив пяльцы на подоконнике, стесняясь посмотреть в глаза Филимона, мелкими шашками пробежала мимо него в половину дома за шторой. Вскоре оттуда послышался шорох ткани.
С широкой скамьи, выглядывавшей одним концом из-за печи, высунулась лохматая старушечья голова, открыла беззубый рот с узкими сморщенными губами и хрипло прошамкала: «Хто там, Панкратушка? Чай, гости какие, али на вулке, кто громко бает?»
– Гости, маменька, гости, ты спи, до обеду ещё далеко.
– А что гостям-то надоть, Панкратушка?
– Не ведаю, маменька. Не тревожься, как скажут, да разузнаю всё, обскажу тебе. Не сумлевайся.
– Вот и ладно. Ты внучке-то скажи, сынок, пущай водички мне принесёт, пить ужасть, как сильно хочется.
– Я тебе, маменька, сейчас сам принесу, погоди чуток.
Усадив Феодосию Макаровну и её сына Филимона за стол – спиной к входной двери, Панкрат напоил мать и, возвратившись к гостям, сел на скамью у окна – напротив.
Вскоре к столу, быстро накрытому хозяйкой дома, вышла принаряженная Серафима. Платье, действительно праздничное, с красивыми русскими мотивами по ткани, слегка приталенное и свободное под грудью, придавало осанке девушки грацию, а лицу, освежая его своими лёгкими фоновыми красками, изящество и без того безупречное.
Летнее солнце, выглянув яркой короной из остроконечных пик кедров, осыпало маленькую таёжную деревеньку своими золотыми лучами и медленно двинулось ими в её затенённые уголки. Следом со стороны околицы донеслось жалобное тявканье собаки, правее что-то скрипнуло, левее протяжно взвизгнуло, солнце вздрогнуло, оторвалось от вершин деревьев и покатило яркой светлой полосой по улицам и домам.
Поиграв лучами на янтаре кедровой смолы, застывшей на карнизах, подоконниках и ставнях, солнце подобралось к стеклу окна и заглянуло сквозь него в дом, где за празднично накрытым столом шёл разговор между хозяевами и гостями.
Филимон нахмурился, поднёс кулак к носу и почесал его. Это действо гостя привлекло хозяев дома.
– Угощенье не нравится, – подумала Клавдия Петровна.
– Это, что же такое? На сговор пришёл, а нос воротит, – мысленно возмущался Панкрат Семёнович.
Неожиданно для всех Филимон громко чихнул и сконфузился.
– Солнце, понимаете ли… глаза щекочет, – опустив на колени взгляд, тихо проговорил гость и тотчас услышал смех хозяина и его весёлый голос.
– А я-то думаю, что это наш гость хмурной сидит. Дочь мою сговаривать за себя пришёл, а лицом хмур. А оно вот оказывается что. Ну, насмешил, Филимон Васильевич! Ну, учудил, так учудил!
– А, что, Панкрат, думали о нём, Филимоне-то, как о муже дочки нашей, вот Чихнила и подтвердила, – проговорила хозяйка.
– Мама, ну, чего ты прям, – ещё сильнее залившись румянцем, проговорила Серафима.
– А я, чего, доченька, я правду говорю. Думали мы о нём, Филимоне-то, как раз перед его приходом.
– Ну, мама! – вновь возмутилась девушка.
– Да, ты, дочка, не смущайся. Али не хочешь за Филимона? – проговорил Панкрат Семёнович.
– Ну, папенька, вы совсем, прям, уже! – стыдливо уткнув лицо в ладони, укорила дочь отца. – Люб мне Филимон, только о нём всё время и думаю.
– Вот и ладно, вот и сговорились, а сейчас, соседушки, поднимем бокалы и закрепим наш сговор вином сладким, чтобы, когда время придёт, любовь наших детей ещё крепче стала.
– Добрая из них семья получится, крепкая, гости дорогие! Я не супротив свадьбы их, как сказал муж мой Панкрат, как годы детей наших поспеют, конечно, – подтвердила сговор Клавдия Петровна.
А солнце, заглядывая в лица людей, щекотало их глаза, которые вскоре будут в слезах. По стране шла война, но о ней, в далёкой алтайской таёжной деревне пока ещё никто не знал.
Поблагодарив за стол, Феодосия Макаровна посмотрела на Серафиму, глубоко вздохнула, вероятно, вспомнила свою молодость и поклонилась хозяевам дома.
– Спасибо, Панкрат Семёнович! Спасибо и тебе, Клавдия Петровна, за стол добрый и слова хорошие. К осени сорок четвёртого свадьбу и справим. Сынок к тому году в городе Бийске хозяйством обзаведётся, будет, куда молодую хозяйку привести.
– Да и мы, чай, не бедные, есть, что за дочерью дать, – ответил Панкрат Семёнович.
Вот и славно! Дай бог здоровья вам и деткам нашим, соседи дорогие! – ещё раз поклонившись, проговорила Феодосия Макаровна и вышла с Филимоном из светлого, чистого душой дома Хоробрых.
– Вот ведь как оно бывает. Только проговорили и вот они. Славно, славно всё вышло! – подумала Клавдия Петровна.
А Серафима, не слыша ни мать, ни отца кружила по горнице, и лицо её светилось огромным, весь мир закрывающим счастьем. В руках её была алая лента, – подарок милого Филимона.
К вечерним посиделкам вокруг костра у озера Серафима пришла с лентой в косе. Девушки, увидев ленту вплетённой от самого основания косы, знак того, что у подруги появился жених, тотчас обступили её и стали наперебой спрашивать, за кого сговорена, хотя и без этих вопросов прекрасно знали, что за Филимона.
– Неспроста же хаживала в дом Берзиных и подолгу играла с Марьей и Настёной, и вела разговоры с Феодосией Макаровной о сыне её Филимоне, – подмигивая друг другу, мысленно говорили её подруги.
*****
О газетах и письмах изредка завозимых в таёжное село из района жителями деревни и дедом Пантелеймоном Кузьмичом Кузьминым, – моментально узнавала вся деревня.
Шестидесятивосьмилетний дед Пантелеймон Кузьмич Кузьмин в последнюю субботу каждого месяца наведывался в районный центр к дочери Натальи, жившей в добротном, по его меркам, доме мужа Савла Лазаревича Ивлева. Дом тот достался Савлу от отца, а тому от его отца, а отцу от отца неведомо когда от своего отца – прадеда Савла, почившего уже полвека назад или того более, – никто не считал годов тех.
Серафима, узнав, что от Филимона есть письмо, торопливо шла к его матери якобы за какой-либо нужной ей вещицей и между делом спрашивала: «Нет ли писем от Филимона, – хотя прекрасно знала, что есть. – Что пишет? Как там ему в городе? Поди девушку какую завёл? В городе Бийске их много… всяких и красивых! Когда наведается домой?» Интересовалась, как учится, спрашивала о нём, но стеснялась произнести всего несколько необычайно важных для неё слов: «Спрашивает ли Филимон в своих письмах обо мне?» Феодосия Макаровна, понимая, что ждёт от неё девушка, улыбалась и отвечала: «Пишет, голубушка, о тебе постоянно, спрашивает, как ты и что делаешь? И нет у него никакой там зазнобы. Одна ты у него на уме и в письмах его. О тебе больше справляется, нежели о сёстрах», – и это была правда. Говорила, но писем читать не давала, ревновала к девушке, как любая мать, болезненно относящаяся к выбору сына, хотя давно признала Серафиму за его будущую жену.
Утро понедельника, дня двадцать третьего, месяца июня выдалось хмурым. Ещё с вечера до этого дня по небу поплыли тёмные облака, а в полночь по тайге ударил сухой гром с ветвистой во всё небо молнией.
– Господи, не к беде ли?! Ишь, как разыгралась сухая гроза, – перекрестившись, проговорила Феодосия Макаровна. – Как и в ту ночь перед уходом Васеньки в тайгу. Сказывал на недельку и вот, подишь, как всё обернулось. Год как уже сгинул невесть где.
Сон пропал. Встала, зажгла керосиновую лампу, умылась, поставила на стол бадейку с подошедшим за ночь тестом, посыпала столешницу мукой и, оперевшись правой щекой на ладонь, задумалась.
Перед глазами пролетели детство, девичество, замужество, счастливые и тревожные дни, – всякое бывало, и с мужем ссорилась и с детьми, порой непослушными…
– А всё-таки счастливы были, и жизнь худо-бедно сложилась. Сына-помощника вырастила и дочерей на ноги поставила.
Раскатистый гром пронёсся по-над тайгой, ярко блеснула молния и тишина, даже собаки, предчувствуя что-то неладное, не издали ни звука.
На исходе ночи тёмное небо стало медленно рассыпаться на серые перья. На западе они были насыщены чугуном, на восток светлели, на горизонте приобретали серебристый оттенок с отливом розового цвета, – вставало солнце. Где-то раскатисто ухнуло, ночь последний раз излила на землю небесную боль, и вот уже ярким алым цветом вспыхнул горизонт на востоке. Утро нового дня разбудило таёжное село, запели петухи, в тайге проснулись дневные птицы, собаки устроили перекличку и тягуче замычали коровы, призывая себе своих хозяек. Пришёл новый летний день.
Кузьмич
Во второй половине дня – ближе к вечеру в деревню со скрипом въехала рассохшаяся за долгие годы эксплуатации кособокая телега с усохшим от долгой жизни дедом Пантелеймоном Кузьмичом Кузьминым на передке. Тянула телегу такая же древняя, как и дед, понурая лошадёнка, по виду которой можно было сказать, что думает она о том, что лучше сдохнуть, чем жить такой чёрной жизнью, в которой светлыми днями были лишь дни жеребячьей вольности.
Въехав в свой одинокий двор, бабка умерла лет десять назад, дед распряг лошадь, дал ей воды, бросил перед ней охапку сена и торопливо, насколько позволяли худые ноги, постоянно выкручиваемые в ненастные дни, направился к дому соседа Савелия Макаровича Самойлова.
– Сидишь, – сунув в открытое окно соседского дома голову с нахлобученным на неё треухом, прокричал Пантелеймон, – игрушечки всё стругаешь, и в ус не дуешь, а надо бы…
– Ты чего это, Кузьмич? – вздрогнув от неожиданного крика над головой, проговорил Самойлов, – что это тебе не по нраву сиденье моё в моём же дому?
– А того… вот! Сбирайся на площадь, щас народ сбиру и обскажу всё. Неколды мне с одним тобой тут талдычить, – деловито ответил Кузьмин и, вынув голову из окна, поспешил к соседу Савелия – Спиридону Аполлинарьевичу Судоплавскому.
– Что за напасть такая? – хмыкнул Самойлов, почесал затылок, раздумывая идти на площадь или махнуть рукой на дедовскую прихоть. – А, пойду, – решил, – с народом потолкую! Не заметишь как зима, надо решать что делать с мостком через реку, того и гляди совсем развалится… мосток-то. Одному-то мне не справиться. Брёвна надо кой-где заменить и настил опять-таки новый устлать. По весне Кондрат прям с телегой и лошадью с моста-то свалился, и ведь не пьяный был, а всё он… тфу на него, – Савелий Макарович сплюнул, выругавшись, – мост этот растреклятый. Сгнил совсем уже… и никому никакого дела… а ведь все по нему ходят и ездят. Благо Кондрат не ушибся насмерть, это просто чудеса, прям, какие-то, а лошадь-то его сразу издохла, хребет переломала.
Отложив в сторону березовое поленце, Савелий обернулся к жене: «Пойду, послушаю, какую такую новость привёз Кузьмич из районного центра. С народом насчёт мостка через реку потолкую», – сказал и пошёл неспешной походкой к деревенской площади, что вросла кривой плоскостью в сердце узкой улицы поросшей у заборов крапивой, вьюнком, паслёном, ромашкой, подорожником и ещё невесть какими травами серыми от пыли в сухую погоду и маслянистыми после дождя.
Получив выговор от жены Судоплавского: «Что народ баламутишь, али померещилось что?» – и плевок в свою сторону от вечно недовольной ворчливой бабки Акулины Зиминой, Пантелеймон Кузьмич Кузьмин, сам плюнул в её и все другие стороны её двора и пошёл в центр села – к столбу, на котором был укреплён обрезок швелера и толстый металлический пруток длиной сантиметров тридцать.
Тяжёлый звук встревоженного металла упал на деревеньку и каскадом понёсся по тайге, всполошив лесных птиц и зверей.
За двое суток до поднятой тревоги, – в субботу 21 июня Пантелеймон Кузьмич Кузьмин выехал из своего двора в сторону райцентра с первыми петухами.
– Гостинцев привезу, – рыбки вяленой, ягодок лесных, ореха кедрового, медку. Дочери и внукам радость и мне улыбка на моём лице и покой на душе… моей. Что они там видят-то в своих районах, хлеба-то поди в волю неедают! А мне, зачем оно всё… сладости всякие? А вот внукам в самый раз… им расти надо! – укутавшись в латанный перелатанный вековой полушубок, трясся в телеге дед и мысленно хвалил себя, за то, что сподобился, любимое его слово, в дорогу – к дочери и внукам, и к зятю, естественно, которого уважал за обходительность и уважительное отношение к себе. – Пантелеймон Кузьмич и только на Вы, только так обращается Савл Лазаревич Ивлев ко мне. Уважает! А почему меня не уважать? Я человек обходительный, злого умысла к людям у меня нет. Лето какое-то нынче промозглое, особливо по утрам. Без полушубка зябко было бы. Испокон веку оно так, с тайги и гор холодом тянет. А пошто? Поди разбери! Мы что, мы люди не учёные. Нам это знать не требуется, да и ни к чему это, баловство всё. Это когда ж мы так с бабкой-то, – загибая пальцы и беззвучно ворочая губами, дед подсчитывал, сколько лет прошло с той поры, когда последний раз вёз свою жену Наталью этой дорогой в гости к дочери и внукам. – Годов пять, поди уж, али семь? Нет восемь уже!
Отправляясь в дорогу к дочери, Пантелеймон Кузьмич выезжал со двора спозаранку, и входил в дом зятя уже к вечеру. От деревни райцентр находился верстах в семидесяти с гаком, вроде бы недалеко, но это если по прямой и по наезженной дороге, а если у подножья гор, поросших густым кустарником и через горные реки, то эти семьдесят вёрст превращались в добрых, а порой и не добрых триста вёрст. И это в летнюю ясную погоду, а в другое время, – когда снег и дожди, гак был равен самим верстам, ибо добраться до колхоза в такую пору можно было только по окружной дороге, которая была построена заключёнными и вела к Катунской ГЭС, запущенной в эксплуатацию в 1935 году.