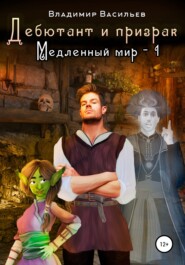скачать книгу бесплатно
– А на них тоже рыцари летают?
– Ага. Как же. Хотя раз один могут. В желудке.
Еще немного отдохнув, стали выдвигаться дальше. Деревню решили обойти стороной, и тут наметилась проблема. Когда призрак летел рядом с человеком, он отставал, так как скорость его была удручающе мала. На короткие дистанции он мог ускоряться до скорости лениво трусящего человека, но обычно плыл не быстрее трех километров в час. Сидеть в артефакте в кармане тоже не хотел, так как горел желанием видеть мир вокруг. Да и лишние глаза в походе не помешают. Тем более, что эти глаза видели много такого, что человеческим было недоступно.
Сунуть артефакт в карман куртки и высунуть кончик тоже не годилось, так как Андрею пришлось накинуть плащ с капюшоном, чтобы спрятать приметные волосы. По словам Мигуэнци, такой наряд был стандартным для странствующего жреца, и особого внимание привлекать не должен.
Призрак было двинул идею повязать ремешок вокруг головы поверх капюшона. Но, во-первых, человек прохладно отнесся к трусам на голове, хоть Мигуэнци и клялся, что они бывали одеты почти век назад и на очень симпатичную часть тела. Во-вторых, вид у жреца получился бы крайне молодцеватый и придурковатый. А самое главное, встреться какой маг, он мог просканировать со скуки такое «украшение», что грозило очень существенными неприятностями.
Наконец, удалось найти приемлемое решение. Андрей насквозь пропорол кинжалом рукава куртки и плаща, обвязал жилище товарища вокруг руки и просунул кончики наружу. Призрак мог смотреть попеременно вперед и назад, что он делал почти одновременно, ведь внутри артефакта привязки привидение было очень шустрым.
Андрей бодро шагал по лесу, обходя редкие кусты и живописные овраги. Пару раз видел фазанов и оленей, которые хоть в руки и не лезли, но и не спешили убраться подальше.
– Что это с животными? – решил спросить он напарника, разглядывая очередную иллюстрацию к произведению разнузданного эко-утописта. Зеленого с золотом фазана на низкой ветке в пяти шагах от себя. А еще в паре шагов дальше, на Дубова пялился влажными глазами небольшой олень с аккуратными рожками.
– А что с животными? – вопросом на вопрос ответил призрак.
– Не боятся.
– Так не охотятся на них здесь крестьяне. Только герцогу можно бить их. И подкармливают их.
– А, ну да… – припомнил земные аналогии Андрей. – А что? Совсем ни на кого не охотятся? И деревья, наверное, не рубят?
– Охотиться нельзя только на фазанов с оленями, да еще зубров всяких с кабанами. Зайцев, лис и всякую другую мелюзгу хватать можно, поймаешь если.
Чтобы не терять время, Андрей принялся учить язык. Начать решил не с местного, на котором говорило королевство Индрия, в котором путники находились, а с курни – языка давно развалившейся империи Курда, некогда захватившей, по словам Мигуэнци, чуть ли не половину цивилизованных, так сказать, земель. Сейчас на этом курни произносили первое детское «мама», последнее старческое «а пить-то и не хочется», а в промежутке между этими памятными событиями говорили и ругались только несколько небольших стран. Но главное, этот язык использовали для умных и заумных трактатов и симпозиумов все маги и ученые мира. А также, с более приземленными целями, хоть немного курни знали все купцы, лавочники, трактирщики, да и просто проходимцы в любом уголке мира. Вдобавок, курни был обозван призраком «просто примитивным».
Через час, когда Дубов вывалился из леса, он уже знал на курни числа до десяти и мог пообщаться с каким-нибудь торговцем. Мог как заинтересовать работника прилавка волшебным словом «сколько стоит», так и вежливо послать еще более волшебным «не надо». Солнце тоже времени не теряло и поднялось над лесом, весело озарив тракт, всего в километре правее выбегавший из той деревни, которую беглецы обходили. Буквально через пару километров дорога ныряла в следующую небольшую, но тщательно огороженную частоколом, деревню. Слева, совсем рядом, возвышался компактный, но высокий замок.
И деревни, и замок активно показывали, что они уже проснулись и полны жизни. Дымили, кукарекали, мычали, ржали и сквернословили. Но больше всего беспокоило, что около самого леса раскинулась плантация каких-то приземистых деревьев, с которых собирали большие шершавые плоды дородная селянка с четырьмя детьми разного возраста. Деревья, высотой чуть больше роста человека, были обвешаны коричневыми плодами так, что даже листвы почти не было видно. Дружная семья срывала плоды и скидывала в телегу системы «арба», то есть «коробка на двух колесах на ослиной тяге». Точнее, трудились селяне до выхода Андрея из леса. А теперь они стояли в рядок и слегка приоткрыв рты рассматривали путника.
– Подскажи, мой эфемерный друг, а это мы случайно так попали? Или здесь народ считай друг на друге сидит? – огорченно спросил Андрей, понимая что станет главной темой разговоров в деревне на ближайшую неделю.
Мигуэнци сначала попытался уточнить, что значит «эфемерный», а потом признался, что мало что понимает в демографии. Но все-таки резюмировал, что Индрия королевство населенное. Замков, городков и деревень здесь навалом. И, «куда не плюнь», народец везде ошивается.
Андрей быстро сообразил, что лучше уж идти по дороге, чем удивлять местных, пробираясь по лесу. После чего вышел на тракт и начал бодро месить ботинками мелкую бурую пыль. И вскоре вошел во вторую деревеньку. Домов в ней было всего пара дюжин. В основном довольно неплохие бревенчатые, но попадались и кирпичные. Маленькие, но даже с застекленными оконцами. Крыши крыты или досками, или черепицей. Во дворах за невысокими заборами суетилась всякая мелкая живность. Кроме кур, уток и кроликов, встречались и не знакомые иномирянину птицы и звери. Особенно поразила стайка мелких, чуть побольше курицы, двуногих динозавров, которые, окружив копёшку свежескошенной травы, жадно выдергивали из нее пучки.
Жители охотно отрывались от забот, чтобы тщательно осмотреть Андрея. Тот зыркал из-под капюшона, пытаясь понять причину такого внимания. На утренней дороге были и другие путники и пара телег, но их разве что еле удостаивали взглядом.
Выйдя из деревни, Дубов увидел совсем недалеко компактный городок. В очередной раз подивился тесноте на этих землях и вдруг прицепился взглядом к полям вдоль дороги. Поля удивляли. Пшеница, или какой-то похожий злак, вымахала чуть не до плеча. Колосья в палец толщиной. Все вместе – как с плаката из косматых времен, рекламирующего «стопудовый урожай». Андрей немного знал о сельском хозяйстве и еще чуть лучше был знаком с историей. И догадывался, что в средневековье не стоило ждать такого изобилия на полях.
Попробовал поспрашивать спутника, но призрак не смог ничего толком прояснить. По его словам, такое устройство мира «было всегда». Да и не дело мага, даже ученика, углубляться в крестьянские проблемы. Но два интересных факта все-таки прозвучало. Первый, что большая часть населения жила в городах. Из чего Дубов смог сделать вывод, что работа крестьян очень эффективна. А второй, что какие-то деревья были получены людьми за какие-то услуги от эльфов. Еще в древности. Это позволяло предположить, что магическая наука здорово продвинула сельское хозяйство.
Оставалось прояснить еще один занимательный вопрос:
– А «всегда» это сколько? От какого периода идет история? Ну и год сейчас какой?
– Двадцать восемь тысяч триста тридцать первый год сейчас, – выдал оторопевшему человеку призрак. – Но может приврали древние. Историки бывает спорят. Но старее двадцати тысяч лет назад записи не встречаются. И эльфы тоже такой год используют. А те это… как его… педантичны, – вспомнил редкое слово Мигуэнци.
– Эльфы типа бессмертные? Все помнят?
– Почему бессмертные? Долго живут. Но помирают все же…
– Сколько живут? Тысячи лет, наверное?
– Лет триста. Не тысячи. Тысячи это же о-бал-деть, – поразился призрак.
За беседой Андрей замечал, что его все также заинтересованно осматривают встречные пешеходы, а также всадники и тележники. Потом навстречу попалась двуколка, нагруженная очень толстым мужиком в добротной одежде и еще более толстой теткой в ярком платье. Разминувшись с Андреем тетка что-то быстро сказала язвительным голосом.
– Что она сказала?
– Ну… э-э-э… что ты такая же пьянь, как он… коня пропил… и теперь вот свои копыта натираешь…
– Ну вот и сошлась мозаика, – зло плюнул Андрей. – Ну ладно я, не знаю реалий. А ты-то куда смотришь? Кто в этом мире дебютант? Ты или все-таки я?
– Я смотрю. Все смотрю. Что еще смотреть?
– А то! Мне надо или на повозку какую лезть, или одежду попроще. Вот и пялится народ на меня. Давай рассказывай про сословия. И дресс-код не забудь.
Но знания по быту сословий, которыми владел давно умерший ученый, оказали прискорбно скудны. Да еще и устарели на век, судя по всему. Не считать же ценной информацией эмоциональный выброс типа: «А когда моя любимая, дочка мельника, скидывала с себя длинное платье и надевала стринги, то…»
Но кое-что все-таки проскользнуло. Бродячие жрецы. Эти потные и пыльные типы постоянно забредали в замок герцога. Некоторых радушно привечали и позволяли толкнуть речь, стоя перед столом обедающего сеньора. Других не пускали дальше конюшни, вынеся кусок хлеба и зачерпнув воды из лошадиной поилки. Но никого не прогоняли от ворот, оставив романтично ночевать под звездами.
Можно было сделать вывод, что бредущий по дороге небогатый жрец, это до одури обыденное явление, не задевающее тонких струн в душе местных жителей. Если заносчивый дворянин, надменный чиновник или толстопузый купец нет-нет да привлекут пару-тройку скучающих взглядов, то мелкий жрец, по сути монах, почти никому не интересен. Да и прикинуться давшим обет молчания можно. Это, вдобавок, решало проблему с незнанием языка.
Тем временем путник подошел к самым воротам города. Как ни странно, тракт не нырял в городок, а протекал себе мимо. К городским же воротам отходила отдельная дорога. Андрею требовалось переодеться, так что он решил посетить сей центр местной цивилизации.
Городок был небольшой и слабо защищенный. Стена метров пяти высотой могла остановить разве что разбушевавшегося алкоголика. Ни рва, ни мощных башен. В воротах стоял единственный стражник, который удивленно посмотрел на Андрея, но ничего не сказал, а только вежливо посторонился, пропуская в город. Внутри стен никто уже не обращал внимания на несоответствие его одежды с пешим ходом, ведь даже состоятельные люди могут ножками по мостовой прогуляться.
От ворот к центру уходила мощеная улица, метра в три шириной. С трудом двум телегам разъехаться. Вдоль городской стены разбегались еще два прохода, уже в одну телегу шириной. Чуть дальше, несколько таких же улочек уходили в стороны от главной. Дома были кирпичные, в три этажа высотой. Причем на первых этажах находились или лавки, или мастерские, или даже вульгарные скотные сараи. По крайней мере, из-за широких ворот слышалось то фырканье лошадей, то кудахтанье кур. Другая скотина, судя по всему, ушла на выпас. Лавки имели не только подвешенные над дверями жестяные «макеты», но и все были подписаны. Призрак перевел пару надписей: «Оружейник Миренко и сын», «Булочник Бюлюна» и так далее, и так далее. Откуда-то сбоку доносился бодрый перестук молотков, повизгивала пила. Над всем витал запах выпечки, кожи и, как основные нотки, непередаваемый аромат навоза всевозможных существ, начиная от людей и заканчивая курицами.
В целом же городок был аккуратен. Хотя деревьев или кустов перед узкими фасадами домов и не наблюдалось, но кирпич стен и камень мостовой были более-менее чисты.
Андрей хотел было сунуться в лавку булочника, манимый ароматом свежевыпеченного хлеба. Но догадался спросить Мигуэнци. Да, в лавку такого типа уместно было ходить только слугам. Так что, опасаясь оставить еще больше следов, пришлось пройти мимо, сглотнув слюну.
Дубов все таки хотел одеться попроще. Он спросил у призрака и заучил фразу «Где здесь лавка с ношеной одеждой?» и допросил, наконец, встречного мальчишку. Тот в ответ поклонился, важно приосанился и, быстро прочирикав несколько фраз, ткнул пальцем куда-то в бок.
Как ни странно, Андрей быстро нашел упомянутую лавку. Помог партнер. Он перевел то чириканье как: «Господину чуть вперед, потом направо, потом сразу направо, потом налево и там уже прямо». Повезло. По указаниям такого ненадежного навигатора лавку найти все-таки удалось, И не повезло, так как у кланяющегося с необычайным усердием лавочника нужного плаща, который мог бы замаскировать богатую одежду, не оказалось. Была только куча какого-то рваного и слегка вонючего тряпья.
«Ну а что я хотел? Конечно, в заштатном городишке можно запросто купить все, что требуется! Хоть оружие, хоть повозку. Или вот потертый плащ. В каком же городишке нет торгового центра со всем необходимым?», – поиронизировал над собой человек.
Разочарованный путник быстро выбрался на главную улицу. Да, выбрался. Да, быстро. Кто бы что ни говорил про узкие и запутанные улочки, но в городе, который можно пройти из конца в конец за пять минут, заблудиться может только полный кретин.
Андрей прошагал еще сотню метров и вышел на главную площадь, которая поразила его своей обширностью и великолепием. Как же! Десяток метров диаметром! Посередине площади раскинулась скульптурная группа. Качественно бронированный рыцарь, встав на одно колено, сжимал в могучей длани горло вполне себе внушительного дракона, обвившего чешуйчатым телом и хвостом всю композицию аж два раза. Из пасти несчастного дракона извергался фонтан воды. Но не вверх, а чуть в бок, где его ловили в объемистые ведра несколько упитанных барышень. Барышни не были частью композиции. Они были частью города. После появления путника, они прекратили галдеж о своем, о девичьем, и все разом уставились на Андрея.
В наступившей относительной тишине, Дубов услышал тихий шепот призрака:
– Правее ратуша, левее храм Лиины, прямо… девки…
– Тебе бы все о девках! Ну как тут затеряться?
Андрей быстро прошел площадь и вскоре достиг противоположных ворот города.
А вот за воротами ему улыбнулась удача в виде пьяного мужичка в сером балахоне, который сидел на бревнышке под стеной трактира. Трактир стоял сразу за городской стеной. Бревнышко лежало у двери питейного заведения. Мужичок вольготно восседал на бревнышке и приветствовал приближающегося Андрея до боли знакомой фразой:
– Братишка, угости странника! Дело богоугодное! – перевел шепотом Мигуэнци.
– Ну нет, человече, – картинно надул губы Андрей, повторяя перевод призрака, – угощать это зло. Давай я куплю твой плащ. И торбу. За пяток золотых.
Уже через пару минут, страждущий пропойца нырнул в трактир, а Андрей унес свою неожиданную мечту: слегка потертый серый плащ с капюшоном и огромной заплаткой на правой ягодице. И большой холщовый мешок в придачу.
А еще через четверть часа из ближайшей рощи в сторону главного тракта шагал высокий то ли монах, то ли жрец какого-то бога с посохом и закинутым за плечо набитым мешком.
День даже еще не подошел к полудню, когда путник добрался до очередного городка.
Плюсом было то, что теперь никто не обращал внимания на жреца, целеустремленно идущего куда-то по пыльной дороге. В минус можно было записать то, что Андрей банально выдохся. Ноги городского жителя ругались и отказывались продолжать путь даже с частым отдыхом.
К счастью, под стенами второго городка, прямо по сторонам тракта бурлила ярмарка. Было на что посмотреть! Кто-то что-то продавал, а кто-то это самое «что-то» покупал. А какой-то азартный мужик, пытаясь заключить выгодный контракт на продажу воза розовых тыквообразных плодов, раз за разом шлепал шапкой об землю. Потом поднимал и снова шлепал. Его оппонент только слегка выпятив губу, слегка покачивал головой.
Андрей почти рухнул около колеса первой же телеги и пробормотал призраку:
– Слушай кто куда едет. Точнее, надо узнать, кто куда возвращается, – в его голове, пытающейся спасти саму себя и другие части тела, вызревал хитрый план.
Вскоре Мигуэнци удалось найти идеального перевозчика. Сильно косматый и слегка глуховатый пожилой крестьянин распродал свой нехитрый товар и громко рассказывал какому-то куму, что пора запрягать, что ехать ему одному, что ехать надо поскорее, дабы успеть к ночи домой и что проедет он вечером около города Упал.
Андрей натянул капюшон плаща поглубже, догнал крестьянина при выезде с ярмарки и с помощью призрака договорился доехать до того самого Упала за четверть золотого.
Крестьянин, обрадованный неожиданному приработку, начал было расспрашивать пассажира, любопытствуя кто тот есть, да с какой целью ему надо в их городишко. Андрей попытался пробурчать что-то, но глуховатый возница, и не надеясь что-то расслышать, выдавал длинные монологи почти без передышки.
– Много треплется, – Мигуэнци переводил только смысл, роняя одно слово на двадцать, сказанных мужиком, – говорит, что ты человек божий, говорит что в храм ты, вероятно, направляешься. Говорит, что храм известный. На все графство известный. Что храм от мозговых болестей. Я вот думаю, что он зря туда почаще не ходит. Еще про виды на урожай рассказывает.
Дальше было выдано много информации про жизнь в деревне, про соседей, про родственников. Несмотря на никчемность сведений, Дубов слушал перевод с большим вниманием. Все-таки мир новый, неосвоенный. Ознакомиться с бытом простого народа полезно для выживания.
Также много нового дало наблюдение за тянущимися вдоль дороги садами, изредка сменяемыми какими-то полями. Андрея удивило явное преобладание деревьев над злаками и он, дождавшись когда возница выдохнется прокричал вопрос на тему: «А что у вас в деревне выращивают?» Воодушевленный таким животрепещущим вопросом мужик долго и обстоятельно рассказывал про все культуры, которые обрабатывались в этих краях. Затрагивал тонкости в посадке, переработке и хранении. Обстоятельно прошелся по ярмарочным и городским ценам в разрезе времен года. Затронул тему демографии и сравнил преимущества крестьянской жизни в городах, деревнях и даже хуторах.
Переваривая поток информации, Дубов составил для себя удивительную картину. Оказывается, в этом мире количество крестьян заметно уступало количеству горожан. Причем большая часть крестьян жила в тех же городах и городках. Стало понятно, почему количество встреченных по дороге городов заметно превышает количество деревень. Городков в королевстве просто больше.
Причиной преобладания городского населения над сельским была поразительная урожайность местных сельхозкультур. В основном крестьяне ухаживали за садами деревьев и кустарников, с которых собирали невиданные урожаи всевозможных плодов. Созревания разных культур приходились на разное время, от середины весны до начала зимы. Многие деревья вообще плодоносили чуть не круглый год.
Лишь изредка крестьяне выращивали злаки и корнеплоды на полях. Это уже для гурманов, готовых оплачивать экзотические и малоурожайные овес и морковку.
С причиной проживания большей части крестьян в городках помог разобраться Мигуэнци.
– Понимаешь, Андрей, жизнь в нашем королевстве в целом спокойная и богатая. Воюют владетели редко и при этом мирное население обычно сильно не обижают. Но раз в несколько лет случаются нашествия нежити. Разной. Так что сеньоры, которые попредусмотрительнее, те своих крестьян в городки селят. За стенами от нежити отсидеться всегда можно. Она не сильно опасная, но в лесу или поле от нее отбиться без оружия непросто. А если у какого барона нет городка, хотя бы в совместном управлении с соседом, тот уже в деревне селит. А при нашествии всех в замке прячет.
– А что за нежить? И откуда берется?
– Темные маги насылают. Могут мертвецов каких, могут магических тварей. Вот пока их постепенно вылавливают, лучше из-за стены не вылазить, если ты не воин.
– А маг? Маг может вылазить?
– Только с охранниками. Маг пока соорудит заклинание, его уже разорвут на парочку магов поменьше, – постарался пошутить призрак.
Время подошло к обеденному. Солнце немилосердно припекало. Возница угомонился и дремал на своей скамейке за хвостом лошадки. Андрей жестоко парился в теплом плаще с натянутым капюшоном. Снять его он опасался, так как и возница глазастый, когда не надо, и встречные попадались нередко. А у него под плащом совершенно неподходящая одежда. Ручьи пота стекали со всей поверхности человека, а давно не стиранный плащ на жаре начал выделять мощнейшие флюиды, как память о трапезах монаха за последние несколько месяцев. Трапезничал пропойца, похоже, исключительно пивом и кислым вином.
– Буду радоваться, что этот монах недоделанный хоть по нужде в этот плащ не ходил, – пробормотал путешественник и, попросив призрака не мешать болтовней, завалился спать.
Ехали еще долго. Только один раз останавливались у веселого ручейка, чтобы дать отдых лошади и пообедать. Ну как пообедать. Андрей не мог достать снедь мага, которая у него была, а крестьянина объедать было совестно. Так что пришлось сослаться на пост и под предлогом молитвы удалиться в лес, где он и сожрал колбасу в одно рыло, успокаивая совесть умной фразой: «Не скупости ради, а маскировки для».
Потом отдохнувший иномирянин занялся изучением курни, и даже поучился читать. Курни его поразил. Язык был максимально упрощен. Глаголы и прилагательные образовывались строго одним способом. Отсутствовало все, без чего можно было обойтись. И никаких исключений! Создавалось ощущение, что язык не возник естественно у какого-то народа, а был придуман кем-то очень умным.
Вдоль дороги или на небольшом удалении все также часто попадались небольшие городки, чуть пореже замки. Наконец, когда солнце уже почти коснулось вершин деревьев, возница остановился у отходящей вправо дорожки и устало, но торжественно объявил:
– Упал!
Андрей поблагодарил крестьянина и пошагал между двумя цветущими садами в сторону довольно большого города.
Посоветовавшись, и понадеявшись на размеры города, путники решили провернуть хитрый трюк. После ворот в переулок зашел странствующий монах, а с другой стороны вышел уже состоятельный господин, которому уместно вкусно поужинать и переночевать в хорошей таверне.
Таверна нашлась быстро и Андрей, выдав заученную фразу: «По делам у вас, ужин, хорошую комнату, помыться», даже сам разобрал, что за первых два пункта надо золотой. С третьим пунктом вышла накладка. Трактирщик сначала махнул рукой как бы показывая что надо выйти на улицу и идти направо. При этом четко сказал два слова «мыться» и «утро». После чего показал налево, осклабился, сделал руками жест изображающий форму гитары и произнес «мыться» и «сейчас». Андрей немного погрустнел и подумал: «Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Похоже, трактирщику и в голову не пришло, что кто-то будет мыться перед сном. Не принято-с».
Но, как говорится, если где-то убыло, то значит где-то прибыло. Если Андрей погрустнел, то подавальщица, молодая упитанная девица, услышав про «помыться» заулыбалась и проходя мимо, слегка толкнула его бедром.
Дубов в сопровождении трактирщика поднялся в комнату и жестами показал, что ужинать будет там. Комната была небольшая, но вполне приличная. Крашенные стены и потолок, застекленное окно. Большая кровать с тюфяком. Простыня и одеяло чистые. Еще в комнате были стол, два массивных стула и огромный шкаф в полстены. Над кроватью даже висела картина с морским пейзажем. Освещение обеспечивал слегка погнутый бронзовый канделябр, но не со свечами, а с плошками в которых рос мох. И не только рос, то и светился немного ярче свечи.
– Обычный светящийся мох, – пожал плечами товарищ, – питается маной. Только воду подливать надо. Гномы много понавыводили такого разного в своих пещерах. В богатых домах магические фонари используют, а простые жители мхом обходятся.
Ужин принесла та самая улыбающаяся подавальщица, а когда позже забирала посуду, уже в открытую стала прижиматься к Андрею. Попаданцу, после двух дней приключений, это было надо менее всего. Да и вообще… не особо вдохновляла такая общедоступная любовь. Так что он сделал отрицательный жест, на что девушка надула губы и обиженно удалилась.
За окном уже совсем стемнело. Зал внизу тоже опустел. Город почти затих. Казалось, что все приключения на этот день закончились. Перед сном Андрей вышел посетить общественное место во дворе, и даже не забыл запереть дверь ржавым ключом.
Но не успел он дойти до дощатой будки, как услышал пронзительный визг в трактире. Не сомневаясь, что вопят в его комнате, Андрей со всех ног бросился обратно. Не успел он толкнуть слегка приоткрытую дверь, как она резко распахнулась и на него, оглушительно вопя, налетел кто-то мелкий. Завопил еще громче и, сделав шаг назад, выхватил что-то из кармана. Не задумываясь, Дубов без замаха врезал гостю в челюсть, так что тот улетел вглубь комнаты. К двери уже подбежал трактирщик, заглядывал в комнату и что-то быстро бормотал. Андрей замер. Все это происшествие было очень не кстати. Хотя, когда это попытка обокрасть бывает кстати?
Тут он услышал шепот Мигуэнци у себя над ухом:
– Говорит, что вор залез. И говорит, что надо стражу звать.
– Нет, – резко сказал путешественник, и дальше тихим шепотом призраку при этом оттесняя ногой трактирщика от двери, – как сказать «не надо стражи»?
Получив и громко озвучив ответ, быстро зашел в комнату и закрыл дверь.
Вор возился под столом, пытаясь подняться. При этом полными ужаса глазами смотрел на мерцающего призрака, висевшего в метре от пола в углу за дверью.
Андрей поднял с пола небольшой изогнутый гвоздь, прекрасно объяснявший как вор проник в запертую комнату. Нежданный гость оказался щуплым и грязным мальчишкой лет четырнадцати. Быстрый обыск показал, что оружия у него нет. И вообще ничего нет, кроме замызганных штанов и рубахи.
Далее, полчаса ушло на то чтобы связать гостя, заставить его не скулить, а потом еще и беседовать через дверь с хозяином. Тот долго убивался, что случилось такое «чудовищно неприятное происшествие». И очень обрадовался, что постоялец не хочет звать стражу, а с вором разберется сам. Правда, хозяин что-то бормотал, что убивать нельзя, так как «закон не одобряет, надо сдавать властям, а не убивать». Но в целом, трактирщик так обрадовался, что даже сказал, что возьмет только половину платы с Андрея. Это было легко объяснимо. Если в трактире обкрадывают постояльцев, то репутация у заведения будет так себе.
Дубова только немного покоробило, что подразумевалась сама возможность убийства. А подумав и посоветовавшись с прозрачным приятелем, попаданец встал в тупик. Что же теперь с этим засранцем делать? Ведь завтра же растреплет своим дружкам, а значит и всему городу. А растрепать было что. Тут и призрак, и сумка с кучей богатств, и непростой кинжал.