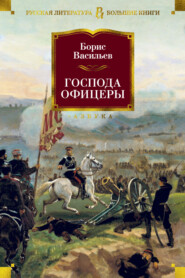скачать книгу бесплатно
– Тогда, знаешь… – Федор задохнулся словами. – Возьми меня с собой, а? Возьми, пожалуйста, возьми! Я работать хочу научиться, я пользу хочу приносить и понять все, я…
Гавриил громко засмеялся, но Федор уже не обращал на него внимания. Он был весь во власти идеи, он уже жил ею, он уже шел куда-то, уже пахал, ловил рыбу или рубил избу: привычно и восторженно кроил шубу из неубитого медведя.
– Да что ты, Феденька, – улыбнулся Захар. – Душа у тебя добрая, это конечно, только шкворень бы ей выковать…
– Вот вы где, – сказал Иван, заглядывая в беседку. – Идемте же к Варе, она по всему саду гонцов разослала.
– Идем с нами, Захар, – сказал Федор. – Мы как раз семейные дела решаем.
– Нечего там Захару делать, – прервал Гавриил, выходя. – Мы и сами-то толком не знаем, что решать да о чем говорить.
Однако Варя знала, чего хотела. Высокое было собственностью мамы только при жизни, после смерти оно отходило к отцу. Конечно, он никогда не оставил бы младших без средств, но по капризу или в порыве отчаяния мог, никого ни о чем не спрашивая, продать имение и предложить всем перебираться на Псковщину. Вот этого Варя и не хотела и боялась и поэтому заранее решила условиться, чтобы в случае необходимости прозвучало хотя бы всеобщее неудовольствие.
– Послушает он нас, держи карман шире! – сказал Владимир.
– Оставь юнкерские прибаутки для казарм, – нахмурилась Варя.
– Господи, о чем вы, о чем? – вздохнул Иван – с младшими его заменила Маша, не желавшая более видеть Гавриила. – Можно же и потом об этом, после всего.
Он не сказал «после похорон», не смог выговорить.
– После всего он уедет.
– И я уеду, – вдруг сказал Гавриил.
– Знаете, я, пожалуй, тоже… – начал было Федор, но замолчал, потому что все сейчас смотрели на Гавриила.
– Торопишься в полк? – спросил Владимир.
– Нет, я в длительном отпуску. – Гавриил говорил отрывисто, словно нехотя. – Я еду в Сербию.
– В Сербию? – недоверчиво переспросил Иван.
– Да. К генералу Черняеву.
– Это прекрасно! – восторженно воскликнул Федор. – Это замечательное, благородное решение, я… Я завидую и от всего сердца благословляю тебя.
– А как же «не убий»? – усмехнулся Гавриил. – Я ведь убивать собираюсь, Феденька.
– Счастливец! – заулыбался Владимир. – Если бы я мог…
– Как глупо! – резко сказала Варя. – Как оскорбительно глупо все, о чем вы говорите! Все ваши восторги, планы, шуточки над маминым гробом.
Все примолкли. Федор виновато развел руками и сел. Владимир перестал улыбаться.
– Ну, давайте скорбеть, – сказал Гавриил. – Хором или по очереди?
– Нет, это, право же, нехорошо как-то, – вздохнул Иван. – Мы забываемся, а это нехорошо.
– Нехорошо то, что фальшиво, – сказал Гавриил. – А если мы искренне улыбаемся, то ничего плохого в этом нет. И это никак не может оскорбить ни наши чувства, ни мамину память.
Варя не успела возразить: из залы вышел отец. Все встали, глядя на его осунувшееся, окаменевшее лицо с остановившимися, невидящими глазами. Он медленно подошел, остановился перед Варей, хотел что-то сказать, но губы запрыгали, и он прикрыл их рукой, разглаживая усы.
– Что с вами, батюшка? – тихо спросил Федор.
– Почему у нее, – старик дрожащими пальцами потыкал щеку, – пятнышки? Здесь пятнышки?
– Она полола, – сказала Варя. – Полола и упала в землю лицом.
– Последняя боль. – Старик покачивал головой. – Кто решил здесь хоронить? Кто сюда везти приказал, я спрашиваю?
– Мы, – растерянно сказал Владимир. – Я, Маша, Ваня, Захар…
– Захар! – Отец яростно отмахнулся. – Что он понимает, ваш Захар! Там ее земля, в Высоком, неужели не ясно? Там, где полола, во что лицом, лицом уткнулась в последний раз. Назад! Запрягать! Немедля!
Все молчали, переглядываясь в замешательстве.
– Батюшка, это не очень удобно, – отважился Гавриил. – Везти тело за тридцать верст в такую жару. И так уже… – Он замолчал.
– Пахнет, да? – выкрикнул старик. – Чего же недоговариваешь, чего мямлишь, офицер? – Он обвел всех суровым взглядом. – Здесь простимся. Сейчас, пока закладывают. Здесь простимся, а там, в Высоком – ее Высоком! – похороним. И меня тоже там. Рядом, гроб к гробу, слышите? Гроб к гробу!
И зашагал к дверям, откинув седую голову к прямой, как древко, спине.
Глава третья
1
Василий Иванович Олексин так и не получил Вариного письма, адресованного в далекий американский городишко. Письмо медленно ехало по Европе, медленно плыло по океану, подолгу залеживалось в почтовых мешках, а когда в конце концов достигло назначения, адресат уже пересекал Атлантику в обратном направлении, перебирая в памяти осколки разбитых вдребезги иллюзий.
Правда, мечты превратились в иллюзии недавно. А до этого еще со студенческих сходок они являлись смыслом жизни, самой возвышенной, самой святой идеей века. Даже тогда, в самом начале пути, при первых встречах с Марком Натансоном и его супругой Ольгой Александровной, когда идея только как бы парила в воздухе, уже родившись, но еще не одевшись в слова, даже тогда она не казалась иллюзорной. Она была истиной, и ее воспринимали как истину, как единственную, равную откровению формулу, уравнявшую счастье народа с подвигом во имя этого счастья. Осознание своего долга перед большинством, порабощенным государством, церковью и вековым невежеством, делало их бесстрашными, сильными и гордыми не перед людьми, а перед судьбой. Прежние представления о жертве во имя прогресса, о миссионерско-просветительской деятельности, о благородном порыве, сострадании, милости и прочем были отброшены: они изначально разводили народ и тех, кто хотел служить этому народу, на неравноправные, заведомо противопоставленные друг другу позиции благодетелей и просителей. Нарушалось не просто равенство, его не могло быть, – нарушалась взаимосвязь целого, называемого народом, нацией, родиной. Мозаика не складывалась, картины не возникало; темная, непонятная масса шла своим, особым путем, а те, кто хотел служить этой безликой массе, – своим, и пути эти никогда не пересекались, как рельсы Николаевской дороги.
– Парадокс в том, что мы, дети народа, его плоть и кровь, настолько оторвались от него, настолько обособились, что цветем на его теле чуждым, непонятным и пугающим его цветом, источая раздражающий аромат роскоши и тунеядства, – говорил Красовский, их трибун и идеолог, по имени которого и называли их кружок. – Нам необходимо вернуться в материнское лоно не для того, чтобы раствориться в нем, а для того, чтобы всеми силами, знаниями, талантом облегчить ему жизнь и страдания. Будущее России в единстве народа и интеллигенции. Служить народу – значит вернуть ему наш неоплатный долг, постараться возместить то, что господин Лавров так блестяще определил как цену прогресса.
Однако уплатить эту «цену прогресса» оказалось непросто: во-первых, сам кредитор не желал принимать долга, с привычной недоверчивостью встречая очередное господское начинание; во-вторых, правительство немедленно усмотрело в этом противозаконие, и наиболее активные пропагандисты и ходоки в народ вскоре очутились за решеткой. Петербург и Москва готовились к небывалым по количеству обвиняемых политическим процессам. Не понятое и не принятое снизу течение оказалось разгромленным сверху – сотни арестованных ожидали своей участи в камерах, остальные разбежались, затаились, ушли за границу.
Василий Иванович был арестован, но до суда отпущен на поруки с высылкой под надзор по месту жительства. В Высоком тогда, два года назад, вместе с мамой жили Варвара и Федор; никто ни о чем не расспрашивал, никто не упрекал, никто не жалел, и Василий Иванович вскоре оправился от потрясения, вызванного первым знакомством с голубыми мундирами. Поехал в Смоленск, привез две телеги книг, много читал, много думал. Когда Федор или Варвара приставали с вопросами, виновато улыбался, бормотал и старался уйти к себе. А мама укоризненно говорила:
– Васенька торбочку примеряет, а вы мешаете.
– Какую торбочку, маменька?
– Собственную. У каждого своя торбочка, и как наденешь ее, так и до смерти не скинешь. Поэтому ошибиться нельзя: надо по плечам брать, по силам мерить.
Вскоре Василий Иванович, отложив книги, стал частым гостем в деревне, с наслаждением принимая участие в общинных работах: косил, жал, возил с поля снопы. Говорил о чем-то с мужиками, особенно со старостой Лукьяном и Захаром. Федор преданно сопровождал его, но был еще молод, многого не понимал, зато запоминал все. Путался, страдал и наконец не выдержал:
– Что тебе в них, в мужиках, Вася? Экают, мекают, ничего толком объяснить не могут. Тупы, как верблюды загнанные, а ты время тратишь.
– Тупы? – Василий Иванович улыбнулся. – Очень уж себя мы любим, Федя. А это самое легкое: себя-то любить. Нет, ты вот такого полюби, потного да нечесаного, в лаптях да сермяге. Тогда прозреешь. И все разглядишь: и сердце доброе, и совесть, и справедливость, и ум, которому любой позавидовать может. Только в коросте пока все это. Триста лет коросте той, Федор Иванович, брат мой любезный. Пока мы французские глаголы да английские времена учили, кормилец наш пот со лба смахивать не поспевал. Высыхал тот пот на нем, слой за слоем в коросту превращался, и мы уж своего же брата узнавать перестали. А ведь мы должны ему.
– Должны? – Федор недоверчиво усмехнулся. – Это он нам должен.
– Он нам рубли должен, а мы ему – миллиарды. Мы в кабальном долгу перед ним, Федор, запомни это, пожалуйста. На всю жизнь запомни.
Федор запомнил, память была блестящая. И о долге запомнил, и о тех трех мешках, о которых Василий Иванович толковал с Варей. Федор и тогда мало что понял, по правде говоря, но запомнил.
– Деревня живет по закону трех мешков, Варенька. Глупо? Чрезвычайно глупо, а попробуй переубеди их, попробуй уговори.
– Каких трех мешков?
– Роковых, на этих мешках русская деревня стоит, как земля на трех китах. Вот считай: одна треть мужицкого урожая – долг, недоимки, общинная доля и прочая и прочая; вторая треть – хлеб насущный на круглый год до новой страды; а третья – семена, то, что весной в оборот уйдет, чтобы снова те же три мешка породить. Скажешь, простое, мол, воспроизводство? И ошибешься. Нет никакого воспроизводства. Есть рабская традиция, привычный страх, что излишек все равно отберут, как отбирали доселе. Есть поразительная готовность к худшему. Не к лучшему, заметь, а к плохому, к невыносимому, к чему-то настолько тяжкому, что и говорить-то об этом не хочется. А раз так, раз все равно плохое впереди, так зачем же четвертый мешок? Знаменитый четвертый мешок, который лежит в основе всех богатств, оказывается ненужным русскому мужику – вот в чем парадокс, Варя.
Варя слушала затаив дыхание. Она не просто любила старшего брата – она восторженно поклонялась ему и слушала так, как слушают влюбленные женщины, не столько вникая в смысл, сколько чувствуя интонацию, стук сердца, волнение и страсть. Ее пансионное образование было далеким от жизни, и сейчас она жадно, до самозабвения училась, слушала, читала, стремясь как можно скорее постичь тот мир, который так горячо принимал к сердцу ее идол. Она читала по ночам привезенные им книги, старательно выписывая целые страницы и выучивая наизусть то, в чем не могла разобраться.
Потом в Высокое приехал сам Красовский и с ним восторженная, непородисто громкая и вызывающе аппетитная курсистка Градова. Таких девиц всегда хочется тискать, и Варя сразу же люто невзлюбила ее именно за это качество.
– Маменька, она неприлично кокетничает с Васей. По-моему, решается его судьба…
Пугая маму, Варя и не подозревала, как близка была к истине: судьба Василия Ивановича действительно решалась в эти дни.
– Вы абсолютно правы, Василий Иванович, – как всегда тихо, сказал Красовский. – Ломать традиции можно только примером, даже если дело касается трех мешков. Всякая иная ломка чревата подрывом нравственного фундамента народа. А пример вполне реален: наш друг Градова согласна пожертвовать своим наследством.
– Эти миллионы жгут мне руки! – с пафосом воскликнула курсистка.
– Значит, земледельческая коммуна? – с замиранием сердца спросил Василий Иванович. – Боюсь верить в это, господа: такое счастье бывает только в сказках.
– В Новый Свет! – Градова стремилась к возвышенным чувствам, яростно отрицая этот погрязший в сытости мир. – Мы привезем туда новую религию!
– Это прекрасно, – улыбнулся Красовский. – Но наша основная задача – создать образец самоокупаемой, мало того, рентабельной ячейки общества, основанной на принципах равенства. Создать не для себя, не для внутреннего потребления, а в качестве примера для всех свободных тружеников. Мы должны агитировать не столько словом, не столько нравственной чистотой своего бытия, сколько результатами своего труда. Мы должны добиться права гордо сказать всему миру: смотрите, на что способен истинно свободный, гордый и прекрасный человек. Смотрите не для того, чтобы удивляться, а для того, чтобы самим стать лучше. Я свято убежден, что пример свободного труда способен сотворить чудо и сотворит его!
Он сказал это тихо, без всякой аффектации, а словно прислушиваясь к своим мыслям и в то же время критически проверяя их. Это был верный способ привлечь внимание в самых громких спорах. Красовский недаром слыл признанным вожаком их кружка.
Их было десять, рискнувших создать модель нового общества: семеро мужчин и три женщины, и среди них Екатерина Малахова, единственная мать. Одиннадцатый член будущей коммуны отправился за океан еще два месяца тому назад.
Этим одиннадцатым был Вильям Крейн – в прошлом офицер Генерального штаба, человек выдающихся способностей, увлекающийся и нетерпеливый. Крейн ожидал их в Нью-Йорке, уже имея в кармане документы на право владения фермой в далеком западном штате.
Они с энтузиазмом взялись за дело, но первый урожай сгорел на корню: год выдался засушливым. Пришлось начать все сначала, но энтузиазма хватило и на это: они были молоды, отважны и верили в свою великую цель. Однако то ли сеяли они слишком поздно для этих широт, то ли купленные второпях семена были никуда не годными, а только и второй урожай не внушал особых надежд: колос был полупустым, стебель чахлым и тощим, посевы редкими, с многочисленными огрехами. Василий Иванович целыми днями бродил по полям, высчитывая зерна в колосках, и лишь одно поле – то ли потому, что он сам его обрабатывал, то ли по счастливой случайности – обещало хоть что-то весомое.
– Озабочены, Василий Иванович? – спросила Малахова, встретив его за этим занятием: она гуляла с сыном.
– Озабочен, Екатерина Павловна, – вздохнул Олексин. – И признаться, не понимаю, почему здесь недород, а на том клину полный колос. Может быть, близко грунтовые воды?
– Какие там воды, – усмехнулась она. – Руки у вас золотые, вот и вся причина. А мы тяп да ляп.
– Ну что вы, столько труда… – Он замолчал, потому что лгать не умел да и не хотел: труда было много, но бестолкового. – А Коля ваш молодцом стал. И окреп, и вырос.
– Скучно здесь, – невпопад сказала Малахова. – И небо то же, и хлеба, а – не Россия. И поговорить не с кем: ни людей вокруг, ни соседей. Если бы не вы, взяла бы я Коленьку и – куда глаза глядят. Ей-богу, куда глаза глядят…
Смахнула слезинку, взяла сына за руку и пошла к их большому и неуютному дому, где было много жильцов, но ни одной подружки, где был муж, но не было друга. А хотелось тихих вечеров с самоваром и вареньями, уютных разговоров ни о чем, спокойной уверенности в завтрашнем дне. Но вместо этого каждый вечер ее ожидали бесконечные жалобы мужа, раздражающая неряшливость Градовой и тоскливый, как в казарме, стол на двенадцать персон.
«Если бы не вы…» Голос ее словно остался тут, с ним. До сих пор он боролся со своей влюбчивостью, всячески сторонился женщин, соблюдал строгий режим и обливался по утрам звонкой колодезной водой. Но с каждым днем он все отчетливее слышал шелест юбок, а по ночам просыпался от одних и тех же снов и в одной рубашке выходил остывать во двор.
Он думал, что теперь ему обязательно приснится Малахова, и даже хотел этого. Но приснилась не она, грустная и тихая, а разбитная петербургская девица без имени, этакое пышущее бесстыдством создание в одних черных чулках. Создание наваливалось горячим телом, душило и требовало, и Василий Иванович счастлив был проснуться на узком топчане в собственной темной каморке. Встал, отер взмокший лоб и вышел во двор. По привычке он направился к конюшне: он всегда навещал лошадей во время своих остываний. Створки оказались полуотворенными, но он не обратил на это внимания и вошел. И замер в дверях: против входа лежал кто-то на охапке сена. Он не понял, кто это: в конюшне стоял предрассветный полумрак. Шагнул: на сене, вольно раскинувшись, сладко спала Градова. А рядом похрапывал еще кто-то, и рука этого неизвестного небрежно покоилась на круглом женском колене. Олексин тихо попятился, но уйти не успел.
– Кто тут? – сонно спросил мужчина.
Василий Иванович выбежал, неуклюже ударившись о створку приоткрытых ворот. Хотел тут же скрыться в доме, но передумал, боясь, что заподозрят в подглядывании. Пошел не спеша, но сзади окликнули.
– Олексин, вы? – Делано позевывая, подходил Крейн. – Не спится? Да, душны тут ночи. А вы все насчет урожая беспокоитесь?
Василий Иванович покивал. Ему было неудобно и неуютно разговаривать с этим человеком после того, что он увидел, но извиниться и уйти он почему-то не мог, хотя Крейн явно ждал этого.
– Интересно, а что творится у соседей? Может быть, съездим завтра с вами, Олексин? С познавательной целью, а?
– Можно, – с трудом выдавил Василий Иванович.
– Так и порешим. А пока воздержимся от суждений, правда? Наши склонны к преувеличениям.
И торопливо пошел к конюшне, где на душистом сене сладко спала женщина.
На следующий день они предприняли объезд соседей, и вечером Крейн лично доложил результаты рекогносцировки:
– Мы скверно работаем, друзья. Мы причесываем, а не бороним. Мы непозволительно запаздываем со сроками и сеем кое-как, лишь бы избавиться от зерна.
– Какой же выход? Что скажет заведующий хозяйством?
– Выхода я вижу два, – сказал Василий Иванович. – Первый – нанять рабочую силу, пока мы не встанем на ноги.
– Но это же абсурд: коммуна, пользующаяся наемными рабочими! Мы рубим сук, на котором сидим!
– Второй выход: переход от зернового хозяйства к смешанному. Купить скот, откормить его, продать и тем покрыть дефицит.
После долгих споров предложение было принято, и Василий Иванович собрался за бычками в ближайший городишко: он лучше остальных говорил по-английски. Крейн вызвался проводить.
– Старайтесь не пользоваться наличностью, – говорил он, придерживая лошадь, чтобы ехать рядом. – Чеки и только чеки: Америка – особая страна.
– Да, да, я вас понимаю.
– Настаивайте, чтобы продавец сам обеспечил доставку гурта. Скажите, что окончательный расчет будет на месте.
– Конечно, конечно. Я один просто не справлюсь.
– И вот вам на всякий случай. – Крейн протянул кольт. – С ним, знаете, спокойнее, но не проговоритесь нашим дамам.
– Благодарю вас, Крейн, только мне как-то спокойнее без оружия. Я человек мирный.
– В Америке нет европейского деления на мирных и военных. Здесь люди делятся на вооруженных и безоружных.
– И все же…