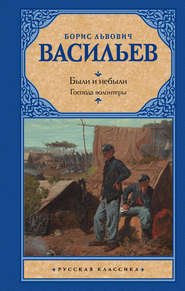скачать книгу бесплатно
– Не знаю, только давно ждут. Они там, в гостиной, чай пьют.
В гостиной у самовара сидел Захар. Увидел Гавриила, торопливо поставил чашку, вскочил и вытянулся во фронт, хотя в армии никогда не служил и фронту не обучался.
– Здравия желаю, Гаврила Иванович!
– Здравствуй, Захар. Случилось что-нибудь?
– Никак нет.
– Ты из Смоленска или из Высокого?
– Ах, про дом вы. – Захар усмехнулся. – Так ведь ушел я, Гаврила Иванович. Как говорил вам тогда, так и ушел. И сороковин не дождался. Господи, спаси и помилуй!
– Да ты садись. – Гавриил сел напротив, и обрадованная хозяйка тут же поставила перед ним чашку. – И где же ты теперь? Помнится, в Малороссию собирался или даже в Сибирь.
– До Сибири далеко, а в Малороссии пыльно, – улыбнулся Захар. – Решил было в Москве счастья попытать, извозом заняться. Дело знакомое, и в лошадях понимаю. Да только… – он усмехнулся, покрутив кудлатой головой. – Народ московский – не приведи бог ночевать по соседству. Тому дай, этого приласкай, того обмани, а иного и во двор не пускай – вот какая тут карусель. Не умею я так-то, да и не по мне все это, Гаврила Иванович.
– Привыкнешь. Мужик ты оборотистый и грамотный.
– Да, газетки читаем, – не без самодовольства подтвердил Захар. – Как турка-то злобствует, Гаврила Иванович!
– Делом, делом надо заниматься, Захар! – резко сказал Олексин: ему не хотелось поддерживать эту тему.
– Так ведь о том-то и речь, для того-то и жду, – понизив голос, сказал Захар. – Не может терпеть душа православная, Гаврила Иванович, не может и не должна. С тем и побеспокоил вас и, если бы разговор мне уделили, премного бы вам благодарен был.
– Пойдем ко мне, – Гавриил встал. – Спасибо за чай.
Они прошли в комнату, сели и закурили. Гавриил ждал, но Захар, как видно, еще собирался если не с мыслями, то с духом. Похмурил брови, колупнул в пышной, под купца, бороде, откашлялся:
– Был я, значит, в Комитете, когда вас искал. Расспросил все, порядок узнал и написал прошение, поскольку бумаги при мне.
– Какое прошение?
– Касательно Сербии, – важно пояснил Захар. – Послужить хочу святому православному делу.
– Воевать, что ли, собрался?
– Воевать – это как придется. Трудов не боюсь, сами знаете. Стрелять умею – вас же учил. Вилами ворочал, думаю, и штыком управлюсь. Одобряете?
– Нет, – решительно сказал Гавриил.
– Правильно, – неожиданно улыбнулся Захар. – Затем и пришел.
– Сербии нужны офицеры. Солдат у нее хватает.
– Ну, офицер без денщика тоже немного навоюет, – несокрушимо улыбнулся Захар. – Вы-то едете? Или передумали?
– Еду. И, вероятно, скоро.
– Значит, денщик понадобится? – Захар вдруг встал и старательно вытянулся. – Рад стараться, ваше благородие! Бери ты меня, Гаврила Иванович, бери, право. А то ведь один уеду – себе на неудобство, да и тебе без пользы. Ну, по рукам, что ли, ваше благородие?
3
Варя жила теперь в Высоком. По ее распоряжению мамину спальню закрыли на замок, ключ она взяла себе и заботливо следила, чтобы все, вся жизнь дома была как прежде. Бродила по дому, отыскивала любимые мамины вещи и, как сорока в гнездо, сносила их в мамину комнату. И даже завела дневник: «Десять дней без мамы. Уехал Гавриил. Двенадцать дней без мамы. У Наденьки жар, болит животик. Наверно, объелась пенок: весь день варили варенье…»
Она боялась возвращения в Смоленск не потому, что мамы больше не было, – она привыкла жить одна и ценила свою независимость. В Смоленске она позволила себе забыться. Она с ужасом, до жара, ощущала тот вечер: жесткие усики, что касались ее щеки, руки, скользившие по ее платью, порывистое мужское дыхание на своей шее, которую она – она сама! – потеряв голову, оголила и подставила ему! Варя до сих пор слышала треск кнопок, что медленно, одну за другой, расстегивала тогда, вспоминала свое постыдное тайное желание, чтобы он коснулся ее груди, представляла, как изворачивалась в его объятиях, чтобы случилось это, и задыхалась от мучительного стыда. Но самым горьким, самым ужасным было сознание, что именно в то время, когда она, забыв о девичьей скромности, таяла в руках мужчины, мама уже лежала безгласная и недвижимая. Этого Варя не могла себе простить, этого нельзя было прощать. Это не было ни грехом, ни проступком: это ощущалось как преступление и как преступление ожидало не покаяния, а возмездия.
Отец жил здесь же, но, как всегда, на своей половине, и Варя его почти не видела. В сумерки он гулял по саду, чай пил с детьми, но завтракал и обедал один. Каждое утро ему седлали лошадь: старик выезжал на прогулку в полном одиночестве, окончательно став нелюдимом.
После завтрака Варя с младшими ходила в церковь: семья не была религиозной, но церковь посещала. Теперь к этому прибавилось кладбище: после службы они шли к могилке, клали свежие цветы, поливали дерн. Памятник – отец приказал, чтобы был простой мраморный крест, – еще не привезли, могилка выглядела совсем деревенской: цветы да зелень. Ограду не ставили, только Иван врыл скамьи по обе стороны холмика.
Хлопот у Вари хватало: Захар ушел – и все свалилось на ее плечи. Еще при маме начали перестраивать флигель, завезли железо, и теперь вновь началась работа, и громкий перестук молотков будил их по утрам. Неожиданно привезли дрова – еще Захарово распоряжение, – Варя осталась присмотреть и в церковь опоздала. Пошла не в церковь, так как служба кончилась, а к маме. Дети уже возвращались – Варя встретила их на мостике через речку, – и на холм к сельскому кладбищу ей пришлось подниматься одной. Шла она не дорогой – вокруг, – а напрямик, через кусты, минуя старую ограду, петляя среди бедных, на отшибе, могил. Поднялась наверх, вышла из-за кустов и остановилась: у могилы сидел отец.
Он сидел согнувшись, уперев локти в колени и закрыв лицо руками. Варя хотела тихо уйти и уже начала отступать к кустам, но плечи старика жалко, потерянно задрожали, и Варя, поняв, что он одиноко и покинуто плачет, ощутила вдруг такую взрослую жалость, что бросилась к нему, обняла и прижалась.
– Кто? – Отец торопливо отер слезы, и в этой торопливости тоже была какая-то жалкая и беспомощная старческая суета. – Ты? Зачем тут? Зачем?
– Батюшка, милый мой батюшка! – всхлипнув, зашептала Варя. – Поговорите со мной, откройтесь, поплачьте – вам же легче будет, проще будет, батюшка!
– Это дурно, сударыня, дурно! Подглядывать, шпионить! – Старик сделал попытку подняться, но Варя его удержала. – Каждый имеет право на печаль, каждый. Но не смейте ее навязывать, слышите, не смейте! Это кощунство, да-с!
– Батюшка, я не нарочно. Я шла от речки…
– Вы дворянка, сударыня! – Отец встал, выпрямившись и привычно откинув голову. – Кликушество нам не к лицу. Извольте носить свое горе втайне. Извольте!
На следующий день он уехал в Москву, скупо – сдержаннее обычного – распрощавшись с детьми. И Варе добавился новый грех, а если и не грех, то сладостный повод для искупления. «Что же еще впереди? – горестно вопрошала она саму себя. – Чем ты еще покараешь меня, Господи?» Странное чувство неминуемого возмездия росло и от ощущения некоторой избранности, которую не без гордости чувствовала она. Ее горе было непереносимым, а вот горе остальных довольно быстро отступило на второй план. Младшие тут в расчет не шли, но и старшие уже оправились, вернулись к привычным занятиям и даже позволяли себе смеяться, правда, не при ней. Любимейшая Маша, верный и преданный друг, начала музицировать, а порой и петь; Владимир целыми днями бродил с ружьем; Иван с увлечением занимался химией, переселился в садовую сторожку, ставил опыты и являлся к столу с какими-то пятнами на руках; Федор зачастил в деревню, где часами что-то читал терпеливым мужикам, разъяснял прочитанное и в конце концов сам запутался окончательно. Гавриил уехал, а Василий был далеко, в Америке, и она очень жалела, что не может с ним поговорить. Уж он-то, чуткий, как мама, наверное, понял бы ее, уговорил, утешил, убедил, что она ни в чем ни перед кем не виновата, что нет никакого предначертанного свыше возмездия, а есть лишь закономерное стечение обстоятельств. Но поговорить Варе было не с кем, и она молчаливо громоздила в своей душе обвинения против самой себя.
Вечерами они пили чай на террасе за огромным круглым столом. Так было заведено мамой, но сейчас от прежнего веселого чаепития осталась одна форма. Шутить было еще неприлично, шалить младшие не решались, а разговоры плелись плохо, и все скорее отбывали некий ритуал, чем наслаждались семейным общением. Да и неулыбчивая Варя у самовара, сама того не желая, гасила слабые отблески былой непринужденности.
– В город никто не собирается? Мне нужно азотнокислое серебро.
– Зачем тебе серебро? – спросила Маша.
– Хочу вырастить кристалл. Если получится, подарю тебе.
– Лучше бы ты порох выдумал, – съязвил Владимир.
– Это верно: судя по трофеям, тебе нужен собственный пороховой завод.
– Что ты понимаешь в охоте, алхимик!
– Что за тон, Владимир, – нахмурилась Варя. – Иван просто пошутил.
– Мне надоели его ежевечерние шутки.
– Попробуй за озером, – примирительно сказал Федор. – Прошлым летом мы охотились там с Гавриилом.
– А Федя бороду накормил! – радостно засмеялась Наденька.
– Вытри рот, Федор, – строго сказала Варя. – А смеяться над старшими грешно.
– Знаете, а ведь мужики осуждают Захара, – сказал Федор, стряхнув застрявшие в жиденькой бороденке крошки печенья. – И вовсе не потому, что он бросил хозяйство. Нет! Они его за то укоряют, что он мир оставил, общину сельскую, вот что любопытно. Добро бы, говорят, шустряк какой в город бежал или бобыль бобылем, ан нет, основательные уходят, крепкие. Скудеет мир, говорит Лукьян, скудеет. Очень любопытная мысль, очень! Ладно, наш Захар не пример, он человек вольный, но, если действительно лучшие элементы сельской общины потянутся в город, деревня пропала. Естественный отбор, господа, что же вы хотите?
Федор витийствовал с наслаждением, но его никто не слушал. Иван давно уже играл с младшими. Маша отсутствующе уставилась в сад. Владимир сердито думал, что завтра же непременно докажет, какой он охотник, а Варя привычно ушла в себя. Семья еще не разлетелась, но единство ее уже треснуло, и таинственные центробежные силы уже подспудно скапливались в каждом ее члене. А Варя, предчувствовавшая и так боявшаяся этого разлета, сейчас позабыла о нем, занимаясь только своей изнурительной внутренней борьбой.
Наутро Владимир ушел задолго до завтрака. Свою собаку, глупую и ленивую, он оставил дома, а взял злую отцовскую Шельму. Он был очень самолюбив и по-юношески обидчив и твердо решил умереть, но без трофеев не появляться. До озера было неблизко, а охотничье раздолье лежало и того дальше: за самим озером, среди бесчисленных проток, заливчиков, озер и стариц. Поэтому по дороге Владимир не отвлекался, а шел прямиком, и собака с недовольным видом трусила сзади.
Еще на подходе он спугнул с озера стайку уток: взлетев, они сели на глубокую воду. Рассчитывая, что утки вернутся в тихую, заросшую белыми кувшинками заводь, Владимир осторожно залез в кусты и притаился, уложив собаку и изготовив ружье. Добыча была рядом, улетать не собиралась и, значит, должна была перебраться на привычное кормное место.
Топот послышался раньше, чем глупые птицы подплыли на выстрел. Владимир выглянул: по заросшей прибрежной дороге неспешно рысила легкая рессорная коляска, за кучером виднелись раскрытые зонтики.
– Тетушка, это здесь! Я узнала место!
Кучер придержал, женщина соскочила с коляски и, подобрав платье, легко побежала к берегу. Собака тихо заворчала, но Владимир положил руку ей на голову и пригнулся сам, уходя за куст.
Молодая женщина в соломенной шляпке с откинутой на тулью вуалеткой стояла у воды, кокетливо подобрав подол; кувшинки были совсем рядом, она, изгибаясь, тянулась к ним, но не доставала. «Видит око, да зуб неймет», – улыбаясь, подумал юнкер. Женщина вдруг быстро сбросила туфли и, подхватив подол, решительно шагнула в воду. Она шла осторожно, гибко балансируя телом, и очень боялась замочить платье, поднимая его все выше и выше. Владимир судорожно глотнул, во все глаза глядя на белые ноги…
– Лизонька! – раздельно, почти по слогам прокричала дама из коляски. – Где ты, душенька?
Лизонька не отвечала. Она тянулась к кувшинке, поддерживая платье одной рукой, но широкий подол свисал, касался воды, и она поспешно подхватывала его обеими руками. И снова тянулась, и снова отдергивала руку, подхватывая непокорное платье.
– Лизонька!
– О господи, – сердитым шепотом сказала Лизонька. – И непременно ведь под руку.
С шумом раздвинув кусты, Владимир бросился в воду. Лизонька ахнула, но платье не уронила. Владимир шел к ней напрямик, срывая по пути кувшинки. Вода доходила ему до груди, но он не обращал на это внимания и стеснялся смотреть на женщину; так и подошел, свернув голову на сторону. И протянул цветы.
– Благодарю, – медленно сказала Лизонька, по-прежнему держа подол в обеих руках. – Вам придется донести ваш подарок до экипажа. Идите вперед.
В голосе ее было что-то такое, чему Владимир подчинился с восторженной готовностью, и шел к коляске, не замечая ни мокрого шелеста собственной одежды, ни удивленно вытянувшегося лица пожилой дамы. Впрочем, Лизонька предупредила расспросы:
– Тетушка, это мой юный спаситель! Представьте, я тонула, меня тащила трясина, и если бы не этот доблестный рыцарь…
Она замолчала, выжидательно глядя на мокрого Олексина; в шоколадных глазах метались два бесенка, и Владимир окончательно потерял голову. Неуклюже щелкнув всхлипнувшими сапогами, представился.
– Как же, как же, мы наслышаны, очень приятно познакомиться, – закудахтала тетушка. – Но боже, мальчик мой, вы же совсем мокрый! Вылейте из сапог воду, и немедленно едем переодеваться.
Владимир покорно вылил воду, сбегал за ружьем, свистнул Шельму и уселся рядом с кучером.
Так случилось познакомиться с Елизаветой Антоновной и ее тетушкой Полиной Никитичной Дурасовой, а позднее, в доме, и с дядюшкой Сергеем Петровичем, таким же полным, медлительным и восторженным. Дурасовы жили в маленьком поместье одни и чрезвычайно, до хлопотливого восторга обрадовались ему: тут же отправили переодеваться в необъятные дядюшкины одежды, отдали его вещи сушить и гладить, накормили собаку и приказали ставить самовар. И весь дом бегал, хлопал дверями, о чем-то спрашивал и радушно суетился.
Кое-как подвязав, подколов и подвернув дядюшкины панталоны, Владимир завернулся в широчайший халат и прошел в гостиную. Лизонька всплеснула руками и звонко расхохоталась:
– Вы прелесть, Володя! Можно мне называть вас так? Ведь вы спасли мне жизнь и, стало быть, отныне почти мой брат.
В шоколадных глазах опять заискрились бесенята. Владимир нахмурился:
– Мне очень приятно, только зачем вы сказали, будто я спасал вас?
– А если это моя мечта?
– Какая мечта?
– Мечта о том, чтобы меня кто-нибудь спас. Взял бы на руки и вытащил из трясины.
– Елизавета Антоновна. – У Владимира опять пересохло в горле, как тогда, когда смотрел из-за кустов на белые ноги. – Поверьте, я бы за вас жизнь отдал…
– Уже? – рассмеялась Лизонька. – Володя, вы прелесть!
Вошел дядюшка. Осмотрел Владимира, остался доволен, похлопал по спине.
– Значит, в юнкерах изволите?
– Да.
– По какой же части?
– Буду командовать стрелками. – Владимир искоса глянул на Лизоньку.
– Замечательно, замечательно! – сказал дядюшка. – Ну-с, к самоварчику, к самоварчику!
За уютным домашним завтраком Полина Никитична прочно взяла разговор в свои пухлые ручки. Мягко расспрашивала Владимира о доме и семье, и Владимир слово за слово рассказал все: о Василии, уехавшем в далекую Америку, и о Варе, ставшей вдруг суровой; об Иване, который – конечно же! – пороха не выдумает, и о Федоре, бесспорно, самом умном, но пока непонятом; об отце, что сам себе выдумал одиночество, и о маме. О том, как неожиданно и несправедливо она умерла и как мучительно долго длились ее похороны.
– Бедный, бедный мальчик! – всплакнула чувствительная Полина Никитична. – Нет, нет, мы никуда вас не отпустим. Мы пошлем человека предупредить, что вы у нас гостите.
А Лизонька улыбалась при этом, да так улыбалась, что Владимир уже ничего не слышал и почти ничего не соображал.
4
Второй раз при ежевечерних беседах Федора с мужиками присутствовал посторонний. Беседы эти происходили в сумеречные часы, когда дневная работа заканчивалась, а до сна еще оставался час-полтора. Тогда мужики собирались на одном краю села, бабы на другом, а молодежь на третьем: так повелось с тех времен, когда на эти посиделки захаживала Анна Тимофеевна. Барыню любили и уважали: она была своя, родни не чуралась, работы тоже; эти отношения сельский мир перенес и на детей, о родстве, правда, уже не упоминая. Маша и Иван любили ходить к молодежи. Варя иногда навещала баб, а Федор регулярно появлялся у мужиков, но в отличие от матери слушать не умел, а говорил сам, немилосердно путаясь и запутывая слушателей. Однако мир к нему относился снисходительно и любовно: считали, что барчук малость с придурью.
Посторонний был не из деревни и одет в полугородскую-полугосподскую одежду, носил аккуратную бородку, садился в сторонке, строгал палочки и молчал. Напуганный петербургскими филерами, Федор приметил его сразу, но из конспирации справок наводить не решился. Беседы свои он считал вполне дозволенными, но все же старался думать, что говорит. Да и тему избрал нейтральную – о совести.
– Когда Адам пахал, а Ева пряла, совести не было, – втолковывал он. – Когда двое во всем мире кормятся от трудов своих, им нет нужды лгать, красть или обманывать. Этих грехов нет, а раз их нет, то нет нужды и в совести как понятии. Совесть возникает тогда, когда появляется грех. Конечно, я не имею в виду грех первородный, но парадокс первородного греха как раз и заключается в том, что обманутой была божественная сила, а не человек, вот почему грехопадение и не могло разбудить совести ни в Адаме, ни в Еве. Но вот народились люди, отделились друг от друга, сказали – это мое, а это твое, и человечество сразу же было поставлено перед необходимостью создания внутреннего запрета в душе своей. Поступать по совести стало означать соблюдение законов общежития, придуманных специально для того, чтобы четко обозначить границы дозволенного.
Мужики слушали, ухмылялись, но вопросов не задавали. Но Федора это не огорчало: он получал удовольствие от самого процесса говорения, не думая, зачем, почему и для кого витийствует.
– Какие же это законы, соблюдение которых негласно должна регулировать наша совесть? Если мы рассмотрим их, то увидим, что все они направлены на защиту интересов семьи и основываются на охране частной собственности…
– Завечерело, – перебил староста Лукьян. – Ты уж прости нас, Федор Иванович, а только до дому пора. Завтра до свету в поле.
– Пожалуйста, пожалуйста, – поспешно согласился Федор. – Конечно, конечно.
Мужики расходились, степенно кланяясь. Федор тоже кланялся: ритуал нарушить было неудобно, и он всегда уходил последним. Вчера неизвестный ушел раньше, но сегодня продолжал сидеть, невозмутимо строгая палочку, и это несколько настораживало Олексина.
– Вы очень хорошо говорите, – сказал неизвестный, подходя. – Горячо, увлеченно.
– Не смейтесь надо мной, – вздохнул Федор. – Я жалкий недоучка.