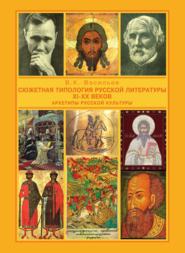скачать книгу бесплатно
Сюжетная типология русской литературы XI-XX веков (Архетипы русской культуры). От Средневековья к Новому времени
Владимир Кириллович Васильев
В монографии представлен синтез теоретического и практического подходов к произведениям русской литературы в рамках структурной типологии. Рассматриваются жанры «преподобнического» и «мученического» житий, «воинской повести», сочинения А. Курбского, протопопа Аввакума, тексты о «злых» и «добрых женах», произведения И. С. Тургенева, В. М. Шукшина. Показано, что все они восходят к архетипическому сюжету о Христе и Антихристе и образуют смежные ряды в границах общего типологического направления. Выстроенная типология позволяет обнаружить «повторяемость в больших масштабах» (В. Я. Пропп) в более чем тысячелетнем национальном историко-литературном процессе, выявить глубинную преемственность между средневековой и новой русской литературой. Предложенный теоретико-методологический подход выводит на решение задачи построения истории русской литературы, основанной на структурно-типологических принципах. Работа предназначена для филологов, гуманитариев, а также для всех, кто интересуется русской словесностью, историей, ментальностью и культурой.
В. К. Васильев
Сюжетная типология русской литературы XI–XX веков (Архетипы русской культуры). От Средневековья к Новому времени монография
Посвящается моей бабушке Яновой Кристине (Хрестинии) Семеновне
Введение
Отправной точкой для построения сюжетной типологии в данной работе послужили сюжеты русской агиографии. И это далеко не случайно. Неизменно на протяжении веков в центре внимания авторов разного типа житий находился «внутренний человек», его судьба от рождения и до смерти, душа в высших ее проявлениях (святости), равно как и в самой бездне падения. В этом отношении жития уникальны, опыт постижения человека, содержащийся в них, бесценен. К тому же выясняется, что «агиографическое», «житийное» пространство древнерусской литературы гораздо шире, чем могло представляться до сих пор, равно как объем и глубина наследования житийных образов и сюжетов новой литературой имеет неожиданные масштабы. Они таковы, что их довольно сложно ограничить, вероятен вывод об их абсолютности. То есть агиографическое жизнеописание в буквальном смысле – основа сориентированных на христианскую традицию бесчисленных сюжетов-жизнеописаний (биографий) в новой литературе. (С учетом всех влияний, прежде всего западных литератур, кстати, возросших на той же христианской почве.) О. Э. Мандельштам писал: «Мера романа – человеческая биография или система биографий»[1 - Мандельштам О. Э. Конец романа // Мандельштам О. Э. Слово и культура : статьи. М., 1987. С. 73–74.]; «Отличие романа от повести, хроники, мемуаров или другой прозаической формы заключается в том, что роман – композиционное, замкнутое, протяженное и законченное в себе повествование о судьбе одного лица или целой группы лиц. Жития святых, при всей разработанности фабулы, не были романами, потому что в них отсутствовал светский интерес к судьбе персонажей, а иллюстрировалась общая идея»[2 - Там же. С. 72.]. Выясняется, что и роман, и повесть, и рассказ, и драма, – и стихи и проза в «повествовании о судьбе одного лица или целой группы лиц» в «системе биографий» наследуют «общую идею» жития. Установление этой наследственности вполне обнаружимо.
Житийная литература представляется нам недооцененной во многих отношениях, в том числе и как важнейший исторический источник по исследованию ментальной, духовной истории нации.
Попыткой практического разрешения означенных вопросов и является настоящая работа. И если ее название может показаться неожиданным, то объяснимся: оно вытекает из проблем, представляющимися весьма актуальными и существенными для современной гуманитарной науки.
Отсчет научной традиции изучения жанра жития принято вести со времени выхода в свет работ И. С. Некрасова, В. О. Ключевского, И. А. Яхонтова, а это вторая половина 60-х – начало 80-х годов ХIХ века.
И. С. Некрасов в статье «Древнерусский литератор» поставил задачу реконструировать образ «писателя»-агиографа, видя в нем «в полном смысле реалиста», положившего «начало натуральной школе»[3 - Некрасов И. Древнерусский литератор // Беседы в Обществе любителей российской словесности при Императорском Московском университете. Вып. 1. М., 1867. С. 48.]. Следующий свой труд он посвятил разрешению задачи выявления и описания «народных редакций» (составленных авторами, «неопытными самоучками») северорусских житий ХV–ХVII веков, полагая найти в них отражение действительности в незатемненном и непреукрашенном виде[4 - См.: Некрасов И. С. Зарождение национальной литературы в Северной Руси. Ч. 1. Одесса, 1870. С. 4.]. Работы И. С. Некрасова и сегодня оказываются в определенной степени информативными, однако для темы данного исследования их содержание имеет самое косвенное значение[5 - «И. С. Некрасов под термином “реалист” имеет в виду натурализм изображения в целом ряде житий разнообразных черт реальной жизни эпохи. И в этом смысле характеристика И. С. Некрасовым особенностей древнерусской агиографии во многом справедлива, хотя, конечно, мы не можем считать древнерусского агиографа основоположником литературного течения ХIХ в.», – отмечает Л. А. Дмитриев (Дмитриев Л. А. Житийные повести русского Севера как памятники литературы ХIII–ХVII вв. Л., 1973. С. 9). Несостоятельность посылки, положенной в основу второй работы И. С. Некрасова, была очевидна уже В. О. Ключевскому; позже об этом писал И. У. Будовниц (см.: Будовниц И. У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в ХIV–ХVI веках (по «житиям святых»). М., 1966. С. 30). Итогом обсуждения вопроса, в котором представлены положительные и отрицательные стороны трудов И. С. Некрасова, можно считать процитированное исследование Л. А. Дмитрие-ва. (См.: Дмитриев Л. А. Житийные повести русского Севера… С. 9–11.)].
Большое влияние на последующее изучение агиографии оказал труд В. О. Ключевского «Древнерусские жития святых как исторический источник» (М., 1871). Молодого ученого подвигло взяться за исследование широко распространенное в научной среде мнение, что жития, находящиеся в сфере внимания церковных авторов, должны быть введены и в научный оборот как новый и ценный источник достоверных исторических сведений[6 - «Поиски новых, нетрадиционных источников давно уже стали предметом особых забот историков, и уже к середине ХIХ в. значительные надежды были возложены на житийную литературу с ее как бы бьющим в глаза бытовизмом», – пишут авторы «Послесловия» к репринтному изданию труда В. О. Ключевского (Плигузов А. И., Янин В. Л. Послесловие // Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1988. С. 2). Здесь же приведены высказывания А. А. Куника, Ф. И. Буслаева, П. М. Строева на данную тему. Последний, в частности, писал: «Кто соберет все жития святых русских, сказания об иконах, отдельные описания чудес и тому подобное и прочтет все это со вниманием и критикою, тот удивится богатству этих исторических источников».]. Результаты, к которым привела попытка В. О. Ключевского подтвердить особое значение житийной северорусской традиции ХII–ХVII веков для исторического источниковедения, оказались неутешительными. «По существу противоречие между названием и содержанием книги парадоксально. Жития святых, выступающие в названии книги как исторический источник, развенчиваются автором как источник в высшей степени недостоверный. Этот парадокс максимально усилен Ключевским…»[7 - Плигузов А. И., Янин В. Л. Послесловие. С. 6.]. «…Книга Ключевского может быть воспринята как пример поучительной неудачи, неизбежной при неверной научной постановке вопроса»[8 - Там же. С. 7.]. Впрочем, авторы цитируемого «Послесловия» говорят и о возможности поворота исследования в другом направлении. «Есть основания полагать, что “Жития” должны были стать книгой об истории “умственного развития”, но выстрел Каракозова (1866 г.) и общее изменение тона журнальных статей представили многие вещи в ином свете и, видимо, побудили ученого оставить свое намерение»[9 - Там же. С. 7–8.].
Перу Г. П. Федотова принадлежит очерк «Россия Ключевского», в котором содержится много тонких и точных психологических наблюдений над портретом автора «Древнерусских житий…» и классического труда по русской истории. В В. О. Ключевском автор видит сына бедного сельского священника, вышедшего из семинарии до окончания курса, человека, жизненные впечатления и социальные идеи которого были почерпнуты в основном из 1860-х годов. Оттуда же и понимание им «реализма». «Ключев-ский реалист: он враг в истории “созерцательного богословского ведения” и “философских откровений”. <…> Ключевский, с его развенчиванием героев, с его едкой усмешкой, многим приводил на память нигилиста. Правда, делали это сближение лишь для того, чтобы сейчас же его отбросить. Ключевский не нигилист: он слишком широк для этого, слишком верит в “нравственный капитал”. Но метка нигилизма на нем недаром. Через нигилизм он прошел. Вчерашний семинарист, молодой московский студент (1862–1865) с жадностью набрасывается на передовые журналы, увлекается Добролюбовым, Чернышевским, гордится ими как “нашими”, поповичами. <…> Ключевский скоро переболел эту детскую болезнь, но следы ее остались»[10 - Федотов Г. П. Россия Ключевского // Федотов Г. П. Судьба и грехи России / Избранные ст. по философии русской истории и культуры : в 2 т. СПб., 1991. Т. 1. С. 331–332.]. «Он дал в своем курсе целостное построение русского исторического процесса и во вступительных лекциях к нему – основы своей исторической философии. В этом курсе самое поразительное – исключение всей духовной культуры, при стремлении к законченному объяснению “процесса”»[11 - Федотов Г. П. Россия Ключевского. С. 339.]. «…Он не знает сам, что делать с личностью и особенно творимой ею духовной культурой»[12 - Там же. С. 341.]. «Марксизм был политическим и радикальным выражением той тенденции интеллигентской мысли, которая в границах научного историзма удовлетворялась школой Ключевского»[13 - Там же. С. 346.]. «Образованный читатель <…> в школе Ключевского <…> не узнает, чем была жива Россия и для чего она жила»[14 - Там же. С. 341. (Основная работа Г. П. Федотова, посвященная русским житиям, книга «Святые Древней Руси», была издана в 1931 году в Париже. Впервые в Советском Союзе в Москве (1990 год). Г. П. Федотов столь тонко понимал В. О. Ключевского не только в силу своего психологического дара, но и потому, что сам прошел сходный с ним путь умственных и духовных исканий. (См., например: Мень А. В. Возвращение к истокам // Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 8–9 и др.).].
Показательно название статьи Даниэля Бона, сопоставляющего подход к житиям В. О. Ключевского и Г. П. Федотова: «Житийная литература как исторический источник (Две точки зрения: В. О. Ключевского и Г. П. Федотова)». Итог размышлений автора статьи выражен в следующем заключении: «…труды Ключевского, посвященные русским житиям, явились первым этапом в их изучении – и надо его благодарить за это. Но он остался слепым к внутренней их ценности, определяемой их духовным содержанием. Федотов пошел дальше, открыв ценность житий как источника для изучения русской религиозности. Этим он вписал русскую агиографию в большую историю религиозного менталитета»[15 - Бон Д. Житийная литература как исторический источник (Две точки зрения: В. О. Ключевского и Г. П. Федотова) // Литература и история. (Исторический процесс в творческом сознании писателей и мыслителей ХVIII–ХХ вв.). Вып. 3. СПб., 2001. С. 293.].
Негативное отношение к житиям со стороны историков после выхода работы В. О. Ключевского сохранялось очень долго. Спустя почти столетие И. У. Будовниц писал, что «пришла пора реабилитировать “жития святых” в качестве исторического источника и пересмотреть установившийся в историографической практике взгляд В. О. Ключевского на “жития” как на литературные произведения, бедные по содержанию»[16 - Будовниц И. У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян… С. 45.]. Свидетельством реабилитации темы в науке явились многочисленные публикации, в которых жития рассматриваются как источник исторических сведений.
При обращении к труду В. О. Ключевского обнаруживаются и другие аспекты. И. У. Будовниц внес вполне верное уточнение в его характеристику. «В ходе работы над “житиями” В. О. Ключевский должен был изменить план своего исследования, написав вместо работы по колонизации Северо-Восточной Руси источниковедческий, точнее литературоведческий труд, главным содержанием которого является литературная история каждого “жития”»[17 - Будовниц И. У. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян… С. 33.]. О. В. Творогов справедливо видит заслугу В. О. Ключевского, проанализировавшего 160 русских житий, в попытке «заложить основы подлинно текстологического исследования древнерусской агиографии»[18 - Творогов О. В. О «Своде древнерусских житий» // Русская агиография : Исследования. Публикации. Полемика. СПб., 2005. С. 4.]. «И хотя труд Ключевского не потерял своей значимости и до наших дней, приходится признать, что ученый, естественно, не смог один и по существу впервые представить цельную картину жанра, реализованного в сотнях памятников и в тысячах списков. <…> вне поля его зрения остались ценнейшие и богатейшие рукописные собрания»[19 - Там же.]. «…Если сравнить выводы такого авторитетного исследователя агиографии, каким был В. О. Ключевский, и наши современные представления об упомянутых в его книге житиях, то нетрудно заметить, что не столько совершенство методов современной текстологии, сколько расширение археографической базы разысканий привело к тому, что большинство текстологических представлений ученого полуторастолетней давности в настоящее время либо отвергнуто, либо существенно скорректировано»[20 - Там же. С. 56.].
Книга И. Яхонтова «Жития св. севернорусских подвижников Поморского края как исторический источник» появилась десятилетие спустя после выхода труда В. О. Ключевского и по замыслу стала его продолжением. Автор обратился к детальному разбору агиографических текстов, которые в работе предшественника были удостоены беглого обзора[21 - См.: Яхонтов И. Жития св. севернорусских подвижников Поморского края как исторический источник. Казань, 1881. С. 4, 7, 10.].
Для нас работы названных авторов ценны некоторыми конкретными наблюдениями и выводами. В. О. Ключевский писал, что «древнерусский биограф своим историческим взглядом смелее и шире летописца обнимал русскую жизнь», «для жития дорога не живая цельность характера с его индивидуальными особенностями <…>, а лишь та сторона, которая подходит под известную норму, отражает на себе известный идеал», «изображения дают лишь “образы без лиц”. И в древнейших и в позднейших житиях неизменно повторяется один и тот же строго определенный агиобиографический тип»[22 - Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. C. 434, 436.]. Ученый рассматривает и составляющие элементы жизнеописания святого[23 - См.: Там же. С. 429–431.]. И. Яхонтов отмечал, что «севернорусские поморские жития написаны по прежним образцам, создавая ряд повторяющихся сюжетов», и дают материал «только разве для изучения идеальных взглядов на подвижничество». Таким образом, оба автора, говоря современным научным языком, подчеркивали «этикетную», каноническую, инвариантную основу жития – единство типа и сюжета, обнаруживая при этом их повторяемость.
В 1902 году появляется труд А. Кадлубовского «Очерки по истории древнерусской литературы житий святых» (Варшава, 1902). Предметом исследования автор избрал преподобнические и святительские жития Московской Руси ХV–ХVI веков. Он поставил задачу – рассмотрение «житийных легендарных мотивов» и «религиозно-нравственного мировоззрения», которое они выражают[24 - Кадлубовский А. Очерки по истории древнерусской литературы житий святых. Варшава, 1902. С. VII.]. В качестве важной проблемы А. Кадлубовский называет изучение сходства и различия текстов, генетических основ легендарных фрагментов житийного повествования. К рассмотрению еще одной жанровой разновидности позже обратился Н. И. Серебрянский в книге «Древнерусские княжеские жития» (М., 1915).
Названными трудами в основном исчерпывается дореволюционная научная традиция изучения оригинальной житийной литературы.
В советский период главным препятствием для исследования агиографических текстов явились общественные идеологические установки. Первая литературоведческая монография, посвященная житиям, вышла только в 1970-е годы – это книга Л. А. Дмитриева «Житийные повести русского Севера как памятники литературы ХIII–ХVII вв. Эволюция жанра легендарно-биографических сказаний» (Л., 1973). Автор обращается к «наиболее интересным в литературном отношении новгородским и севернорусским житиям». «Задача книги – исследование житий как памятников литературных. Поэтому особенно много внимания уделяется выявлению сюжетных сторон всех эпизодов жития, определению фольклорных мотивов, отразившихся в житии, установлению устной легендарной основы житийных эпизодов»[25 - Дмитриев Л. А. Житийные повести русского Севера… С. 11.]. Для наших разысканий эта и другие работы[26 - См. ст.: Дмитриев Л. А. Жанр севернорусских житий // ТОДРЛ. Л., 1972. Т. 27. С. 181–202; Дмитриев Л. А. Литературные судьбы жанра древнерусских житий: (Церковно-служебный канон и сюжетное повествование) // Славянские литературы (VII Международный съезд славистов. Варшава, август 1973 г.) М., 1973. С. 400–418.] Л. А. Дмитриева интересны именно обращением к изучению житийного сюжета и его составляющих. С данной позиции в стороне от темы нашего исследования стоят работы: В. А. Грихин «Проблемы стиля древнерусской агиографии ХIV–ХV вв.» (М., 1974); А. М. Панченко «Смех как зрелище»[27 - См.: Лихачев Д. С., Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984. С. 72–153.]; Б. И. Берман «Читатель жития (Агиографический канон русского средневековья и традиция его восприятия)»[28 - См.: Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 159–183.].
В советский период была проделана огромная работа по изучению отдельных агиографических произведений. Были опубликованы и с разной степенью полноты изучены практически все известные и малоизвестные произведения русской житийной традиции, что заложило основу для типологического изучения агиографических текстов.
С устранением прежних препятствий интерес к изучению агиографии весьма заметно вырос. Сегодня количество публикаций, посвященных опять же в первую очередь отдельным житиям, просто необозримо. Тем не менее в целом текстологическое изучение агиографических памятников далеко от состояния, соответствующего сегодняшним уровню, требованиям и возможностям науки. «Обратившись к древнерусской агиографии, мы сталкиваемся с парадоксальным явлением: этот жанр, имевший огромное значение для формирования христианского мировоззрения, жанр, один из самых чтимых и самых распространенных в древнерусской книжности, жанр, представленный в литературе нового времени десятками публикаций и сотнями исследовательских статей, в то же время оказывается наименее, сравнительно, допустим, с повестями или летописями, изученным текстологически»[29 - Творогов О. В. О «Своде древнерусских житий». С. 3.], – пишет О. В. Творогов. В перспективе – необходимость «составления “Свода древнерусских житий” – публикации их текстов по современным текстологическим правилам и с сопровождающими их текстологическими и историко-литературными исследованиями». На начальном этапе следует проделать работу по созданию «“нового Барсукова”[30 - См.: Барсуков Н. П. Источники русской агиографии. СПб., 1882. (Колоссальный, но, как отмечает О. В. Творогов, «в ряде случаев <…> бесполезный для современного исследователя», труд Н. П. Барсукова был в свое время создан как перечень житий с указанием известных списков. (См.: Творогов О. В. О «Своде древнерусских житий». С. 4, 5.))] – каталога списков житий и других памятников, входивших в агиографические циклы»[31 - Творогов О. В. О «Своде древнерусских житий». С. 5.]. «Непременными требованиями к Своду должны стать предшествующее выявление и изучение максимально доступного числа списков (с четким указанием, из каких собраний и фондов произведена выборка), текстологическое и историко-литературное исследование и критическое издание всех основных редакций жития, а также других памятников, входящих в агиографический цикл: похвальных слов, сказаний о чудесах и т. д. В Своде должен быть в конечном счете представлен возможно полный корпус житий русских святых XI–XVII вв.»[32 - Там же. С. 7.]. Новый каталог «окажется достаточно репрезентативным, так как охватит, вероятно, около 90–95 % всего рукописного наследия России»[33 - Там же. С. 56.].
Совершенно иная ситуация наблюдается в области типологического изучения агиографических текстов. Типологически жанр жития не изучался очень долго. В 1980 году В. В. Кусков писал, что литературоведами «не проанализированы жанровые разновидности древнерусской агиографии и их эволюция»[34 - Кусков В. В. Жанры и стили древнерусской литературы ХI – первой половины ХIII в. : авто-реф. дис. … д-ра филол. наук. М., 1980. С. 3.]. Эти слова оставались актуальными и два десятилетия спустя. Ситуация начала меняться лишь в последние годы. И в этом отношении для нас интересны работы Т. Р. Руди и О. В. Панченко. Из них мы, прежде всего, выделили бы статьи Т. Р. Руди «Топика русских житий (вопросы типологии)»[35 - См.: Руди Т. Р. Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиография: исследования, публикации, полемика. С. 59–101.] и «О композиции и топике житий преподобных»[36 - См.: Руди Т. Р. О композиции и топике житий преподобных // ТОДРЛ. СПб., 2006. Т. 57. С. 431–500.] (в них обобщены и предшествующие поиски исследовательницы)[37 - См.: Руди Т. Р. Праведные жены Древней Руси (к вопросу о типологии святости) // Рус. лит. 2001. № 3. С. 84–92; Руди Т. Р. Средневековая агиографическая топика (принцип imitatio и проблемы типологии) // Литература, культура и фольклор славянских народов. ХIII Международный съезд славистов (Любляна, август 2003 г.) : доклады русской делегации. М., 2002. С. 40–55; Руди Т. Р. «Imitatio angeli» (проблемы типологии агиографической топики) // Рус. лит. 2003. № 2. С. 48–59; Руди Т. Р. «Яко столп непоколебим» (об одном агиографическом топосе) // ТОДРЛ. СПб., 2004. Т. 55. С. 211–227; Руди Т. Р. Об одном мотиве житий преподобных («вселение в пустыню») // От Средневековья к Новому времени : сб. ст. в честь О. А. Белобровой. М., 2005. С. 15–36. См. также: Руди Т. Р. О топике житий юродивых // ТОДРЛ. СПб., 2007. Т. 58. С. 443–484.] и О. В. Панченко «Поэтика уподоблений (к вопросу о “типологическом” методе в древнерусской агиографии, эпидейктике и гимнографии)»[38 - См.: Панченко О. В. Поэтика уподоблений (к вопросу о «типологическом» методе в древнерусской агиографии, эпидейктике и гимнографии) // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 54. С. 491–534.].
Одним из основных понятий, с которым работает Т. Р. Руди, является «топика» («топос»). «Топосом может быть повторяющийся элемент текста, закрепленный за определенным местом сюжетной схемы, – будь то устойчивая литературная формула, цитата, образ, мотив, сюжет или идея. Таким образом, я понимаю термин “топос” как обобщающее, родовое понятие, включающее в себя все те терминологические варианты, которые использовались в науке для обозначения родственных явлений до него: “типические черты”, “общие места”, клише, повторяющиеся мотивы, устойчивые (трафаретные) литературные формулы и т. д.»[39 - Руди Т. Р. О композиции и топике житий преподобных. С. 432.]. Ср.: «Топос является одним из важнейших способов воспроизведения (и узнавания при восприятии) текста-образца. Одновременно он выступает как элемент содержательного и формального каркаса текста, проявление dispositio. Топос также представляет собой микротекст, образованный рядом словесных формул, в пределах которых было возможно варьирование. <…> Топос агиографический (рождение святого, быстрое обучение грамоте, отчуждение от сверстников, раннее решение оставить мир, пострижение, преодоление искушений и др.) представлял в сжатом виде уже отмеченные особенности жанра при сохранении своей стабилизирующей функции…»[40 - Рогожникова Т. П. Жития «Макарьевского цикла»: Жанр – стиль – язык. СПб., 2003. С. 72.]. На наш взгляд, такое понимание топики очень продуктивно и в первую очередь потому, что оно задает четкий типологический подход к предмету. При этом сущность того, что такое «повторяющийся мотив/образ», «типическая черта», «клише», «литературная формула», «общее место» и т.п., возможно определить, только обратившись к текстам. И в идеале новые тексты должны вовлекаться в исследование до той поры, пока каждый топос не будет описан исчерпывающе, то есть вновь привлеченные тексты уже не будут давать новой информации. Можно вспомнить слова автора первого классического отечественного труда по структурно-типологическому анализу текста В. Я. Проппа. Анализируя сюжетную композицию «волшебной сказки», он писал: «На первый взгляд кажется, что необходимо привлечь весь существующий материал. На самом деле в этом нет необходимости. Так как мы изучаем сказки по функциям действующих лиц, то привлечение материала может быть приостановлено в тот момент, когда обнаружится, что новые сказки не дают никаких новых функций»[41 - Пропп В. Я. Морфология сказки. М., 1969. С. 27.]. «Функция» у В. Я. Проппа – сущностный элемент «сюжета», элементарный топос топоса более сложного. Правило, сформулированное ученым, представляется универсальным. Только вот пространство агиографической литературы несопоставимо по масштабу с пространством «волшебной сказки», и это существенная проблема.
Топос как некое пространство текста – пространство, меняющееся, расширяющееся в своих границах. Начав с мотива или микротекста, мы неизбежно перейдем к структурному изучению пространства эпизода, сцены, далее – сюжета. Каждый топос при таком описании (рано или поздно) необходимо будет объяснить генетически, равно как и проследить его функционирование в историко-культурном процессе, в межсистемных связях. Идея не нова (она неоднократно описана в данных и в других терминах), в применении же к агиографическим текстам все это намечено, а кое-что отчасти и реализовано в трудах многих исследователей. Хотя работа, конечно, необозрима. В конце концов, само пространство культуры, весь ее безграничный контекст есть не что иное, как «топика». То есть предмет остается прежним, меняется подход: он требует строгого научного методаи при этом в буквальном смысле изучения текста по миллиметру, «под микроскопом»!
В. И. Вернадский, определяя суть научного творчества Гёте, писал, что «морфология является новой наукой не по предмету, который был известен и ранее, а по методу»[42 - Цит. по кн.: Иванов В. В., Топоров В. Н. Инвариант и трансформации в мифологических и фольклорных текстах // Типологические исследования по фольклору : сб. статей памяти Владимира Яковлевича Проппа (1895–1970). М., 1975. С. 46.]. В. Я. Пропп следовал идеям Гёте. Структурно-типологический метод, продемонстрированный в его работе[43 - «Метод Проппа» часто называют «морфологическим», однако напомним, что ученый отказался от данного термина. Причина в том, что термин «морфология» («учение о формах») оказался не верен по существу. В. Я. Проппом описана не форма волшебной сказки, а ее строение, т. е. структура. Именно задачу изучения строения волшебной сказки ставит ученый в монографии. Он использует в работе и термин «структура». Заканчивая свой труд, автор констатирует: «До сих пор мы рассматривали сказку исключительно с точки зрения ее структуры» (в цитатах курсивом выделено нами. – В.В.) (Морфология сказки. С. 103). В статье 1966 года В. Я. Пропп писал: «…Термин “морфология”, которым я когда-то так дорожил и который я заимствовал у Гёте, вкладывая в него не только научный, но и какой-то философский и даже поэтический смысл, выбран был не совсем удачно. Если быть совершенно точным, то надо было говорить не “морфология”, а взять понятие гораздо более узкое и сказать “композиция”, и так и назвать: “Композиция фольклорной волшебной сказки”» (Пропп В. Я. Структурное и историческое изучение волшебной сказки // Пропп В. Поэтика фольклора : собр. трудов. М., 1998. С. 217). Далее исследователь очень наглядно, на практическом примере объясняет, что он имеет в виду под термином «композиция». Обратившись к работе, легко убедиться, что его значение вполне органично соответствует значениям определений «структурно-композиционное строение», «структура». Об этом же говорит и название статьи. Проблема расхождения «термина» и «смысла», плана «выражения» и плана «содержания», которая обнаруживается в данном примере, представляется не частной, а едва ли не глобальной. Сплошь и рядом наше восприятие, понимание окружающего оказывается в плену «называний», «означающих», за которыми стоит не то, что эти «называния» и «означающие» нам предлагают. В науке данная ситуация ведет к необходимости 1) объяснять понимание термина в начале научной работы или диалога, 2) к постоянному уточнению понятий, системы значений метаязыка научным сообществом в целом.], открыл новые, уникальные перспективы перед гуманитарной наукой. Появление «Морфологии сказки» ознаменовало не просто этап, но поворотный пункт в ее развитии. «Метод Проппа», то есть метод структурно-типологический, обладает колоссальным потенциалом, который, к сожалению, не осознается и недооценивается научным сообществом.
Ситуация с методом в современном литературоведении (да и в гуманитарных науках в целом) довольно сложна в силу ряда причин. Непростой представляется не только проблема освоения теоретических основ метода и самого операционализма, но и проблема отношения к методу.
Самый популярный метод ХХ века – структурализм – в последние годы в определенной степени дискредитирован и «заменен» постструктурализмом и деконструктивизмом[44 - Последний можно определить в том числе как «ноль метода» или «антиметод».]. Однако в дискуссиях о «структурализме – постструктурализме» как-то забывают, что есть еще и проблемы типологии и типологического метода. Это достаточно занимательно, поскольку типология – тот же самый структурализм, только под другим именем! Задача типологии – исследование структуры объектов и явлений, сведение их к единым типам или моделям на основании общности структур. При этом почему-то никому из аналитиков, пользующихся типологическим методом, не приходит в голову объявить эру наступления посттипологии.
Нередко доводится сталкиваться с пониманием проблем типологии как частных, специальных и даже периферийных для науки. Это не так, типологический метод решает фундаментальные задачи выявления и познания законов устройства и функционирования изучаемых объектов. Основания типологии кроются в самой природе человеческого мышления, более того, – в природе мироздания, которое существует и развивается по определенным законам. Мировое искусство, литература как одно из его проявлений – яркое тому подтверждение. Структурно-типологический метод в науке оформляется на основе того, что сам предмет типологичен. Предмет и метод изоморфны, находятся в адекватном отношении друг к другу. В этом ценность метода. Типологический метод общенаучен. «Проблемы типологии возникают во всех науках, которые имеют дело с крайне разнородными по составу множествами объектов <…> и решают задачу упорядоченного описания и объяснения этих множеств»[45 - Огурцов А. П. Типология // Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 685.].
Наличие метода в литературоведении иногда вообще ставится под сомнение. «Если литературоведение – наука, то имеет ли литературоведение научный метод? (Поскольку существует ходячее мнение, будто литературоведение есть досужая болтовня, более или менее терминологическая)»[46 - Галкин А. Б. Литературоведение как миф // Литературоведение как проблема. М., 2001. С. 394.]. Эти слова прозвучали с высокой трибуны – в стенах Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН. По сути тот же упрек в более серьезной форме (и адресован он уже мировому литературоведению) высказал В. В. Иванов: «Мировое литературоведение за вычетом отдельных специализированных областей (статистическое стиховедение, нарратология) нуждается в отходе от традиционных и псевдонаучных (деконструктивистских, социологических) штампов. Оно не находится на уровне современного знания (молекулярной биологии, лингвистики, физики). Ему нужно всерьез задуматься над методологическими вопросами…»[47 - Иванов В. В. Избранные статьи по семиотике и истории культуры. Т. II. Статьи о русской литературе. М., 2000. С. 628.].
Кризис и отсутствие метода есть там, где пытаются работать без метода или же представление о нем весьма размыто. Здесь мы согласны с уважаемыми авторами. Но совершенно невозможно согласиться с ними в ситуациях, когда ученым продемонстрированы владение методом и, как правило, соответствующие результаты. То есть проблема опять же заключается не в отсутствии метода в литературоведении.
Метод настоящей работы мы определяем как структурно-типологический. Он успешно применим не только при анализе архаичных фольклорных текстов. «Все волшебные сказки однотипны по своему строению»[48 - Пропп В. Я. Морфология сказки. С. 25–26.] – таков заключительный вывод автора «Морфологии сказки». Но к аналогичному выводу неизбежно приходишь и при изучении разновидностей жанра жития: каждая из них имеет совершенно определенную однотипную структуру. Более того, исследовательская практика доказывает, что и уникальные творения литературных классиков (часто весьма обширные по объему) обнаруживают в своем устройстве те же самые агиографические структуры/сюжеты. Неповторимые классики, оказывается, все-таки повторяются, причем делают это независимо от своей воли и постоянно. В результате выстраиваются типологические ряды, объединяющие произведения самых разных жанров и эпох, и мы видим «с одной стороны, <…> поразительное многообразие, <…> пестроту и красочность, с другой – <…> не менее поразительное однообразие, <…> повторяемость»[49 - Пропп В. Я. Морфология сказки. С. 24.]. Проблема здесь та же, что и у В. Я. Проппа: мы сталкиваемся с переменными и постоянными величинами в данных сюжетах. Переменными являются персонажи, а постоянными – устойчивые структурные мотивы, закрепленные за ними (большинство из них могут быть названы функциями). Далее читателю настоящей работы придется убедиться в этом наглядно.
Главное в данном случае то, что у метода серьезные перспективы, перед ним огромное поле неисследованного. Так что о кризисе метода говорить совсем не приходится.
Вокруг названных выше терминов – «типология», «структурализм», «постструктурализм», «деконструктивизм» – накопилось множество мифов, и сами они в какой-то степени стали мифами, а в этом качестве проблемой (не всегда осознаваемой) для гуманитариев. Хорошего в этом нет ничего. Даже самый сложный термин должен быть свободен от околонаучной мифологии, насколько возможно прозрачен, понятен и уж обязательно функционален.
По сути мы имеем целый ряд терминов, которые описывают один и тот же аналитический метод (различные его аспекты): «структурный», «системный», «структурно-системный», «структурно-функциональный», «структурно-типологический», «типологический», «системно-типологический». Можно добавить «мотивный» и сюда же отнести анализ «топики». Последний, на наш взгляд, позволяет плодотворно работать и с проблемой интертекстуальности, которая является типологической по своей природе.
Много лет занимаясь проблемами метода, методологии, мы пришли к определенным выводам. Со второй половины ХIХ века (с этого времени процесс становится очень заметным и достаточно продуктивным) в отечественной гуманитарной науке формируется научная методика анализа текста. Процесс ее формирования не закончен и сегодня. Тем не менее выработаны принципы методики, которую мы бы назвали просто (отвлекаясь от всех околонаучных мифологий) типовой. С позиции данной методики текст (объект = мир как текст) обладает структурной природой. Элементы структуры связаны системными, повторяющимися связями. Познание этих связей ведет к возможности открытия законов устройства социума, текста, творчества, мышления, ментальности, глубинной психологии, познания «внутреннего человека» и т. д. Таким образом, речь идет, конечно же, о типовой культурологической методике.
Почему данную методику мы называем типовой? Потому что она общенаучна. И еще потому, что, по нашему глубочайшему убеждению, ею должен овладеть каждый, избравший гуманитарную науку своей профессией.
Не стоит настаивать на абсолюте структур и типологий. Структуры историчны, типологии могут содержать ошибки и уточняться. Важен анализ внеструктурных элементов. На практике мы всегда имеем дело с вариантами структурно-типологических интерпретаций. Типовая методика не должна настаивать на большем, нежели на понимании смыслов в границах семантики и контекстов исследуемых языковых единиц. Необходимо следить за новыми практическими достижениями, вносящими уточнения в область методологии.
Все сказанное открыто для диалога, полемики, корректировки. Тем не менее представляется, что описанный типовой метод и есть тот самый микроскоп, который так необходим гуманитариям в деле познания своего сверхсложного предмета – «внутреннего человека».
Появление этой книги было бы невозможно без помощи многих людей. Хотел бы выразить огромную благодарность моей жене, Елене Васильевой, выполняющей роль редактора, корректора и просто заинтересованного читателя моих работ. Исследование не состоялось бы никогда, если бы на моем пути не встретились Учителя. Их много, не у всех я учился непосредственно, у большинства – по их книгам. Особо хочу поблагодарить Елену Ивановну Дергачеву-Скоп и Владимира Николаевича Алексеева, они открыли для меня, когда-то студента-первокурсника Новосибирского госуниверситета, удивительный мир Древней Руси. Я очень благодарен Виктору Георгиевичу Одинокову, давшему образцы тонкого и глубокого анализа классических текстов русской литературы, который достигается при непременном условии – владении научным методом.
Глава 1
Век XI и век XX: два сюжета русской литературы. Cюжет-архетип и структурно-типологические модели «преподобнического» и «мученического» житий
В настоящей главе ставится целый ряд задач. Во-первых, будут сопоставлены два хронологически очень далеко отстоящих друг от друга сюжета русской литературы. Один из них, представленный циклом агиографических сочинений об убиении Бориса и Глеба, принадлежит веку ХI, другой – веку ХХ – это рассказ В. М. Шукшина «Сураз». Нет необходимости объяснять, что данные тексты, находящиеся на полюсах национального историко-литературного процесса, относящиеся к разным типам культур («средневековой» и «новой»), представляются никак не связанными между собой. Во-вторых, вниманию читателей будет предложена реконструкция сюжета-архетипа, к которому восходят анализируемые в данной работе тексты. В-третьих, мы ставим задачу построения структурно-типологических моделей «преподобнического» и «мученического» житий и рассмотрения особенностей функционирования последней.
1.1. Жизнеописание князя Святополка
Произведения, входящие в борисоглебский цикл, принадлежат к жанру «жития-мартирия» (мученического жития). В них рассказывается о мученическом подвиге братьев Бориса и Глеба. Но нас будут интересовать не центральные герои-святые, а Святополк – антигерой-злодей. Из сочинений цикла мы рассмотрим Летописную повесть[50 - См.: ПВЛ // ПЛДР. ХI – начало ХII века. М., 1978. С. 144–161. (Важен также текст на с. 88–92, излагающий предысторию событий.)], «Сказание о Борисе и Глебе»[51 - См.: Сказание о Борисе и Глебе // ПЛДР. ХI – начало ХII века. С. 278–303.] и «Чтение» о Борисе и Глебе Нестора[52 - См.: Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / приготовил к печати Д. И. Абрамович. Пг., 1916. С. 1–26.] (далее – Лп., Ск. и Чт.). (Проблема датировки и взаимозависимости произведений борисоглебского цикла в науке до сих пор не решена. Возможно, что Ск. и Чт. были написаны в начале ХII века[53 - См.: Творогов О. В. Нестор // СКИК. Вып. I. (ХI – первая половина ХIV в.). Л., 1987. С. 275–276; Дмитриев Л. А. Сказание о Борисе и Глебе // Там же. С. 400–401.].)
Прежде чем анализировать книжную биографию Святополка, остановимся вкратце на тех исторических событиях, которые вызвали появление произведений цикла.
15 июля 1015 года умер киевский князь Владимир. В момент смерти рядом с князем находился его сын Святополк[54 - См.: Назаренко А. В. Немецкие латиноязычные источники IХ–ХI вв. М., 1993. С. 174–175.]. При жизни взаимоотношения между ними были таковы, что Святополку нечего было надеяться на то, что отец завещает ему киевский стол как (вероятно) старшему из сыновей.
Святополк решил воспользоваться обстоятельствами, складывающимися в его пользу. Он скрыл смерть отца от своих братьев и послал на них убийц. Сначала был убит Борис, потом Глеб, затем Святослав. (Канонизированы были только Борис и Глеб, о Святославе не сообщается ничего, кроме факта бегства «въ Угры» и убийства[55 - «Первыми нашими святыми были страстотерпцы Борис и Глеб. Но страстотерпцев, понесших насильственную смерть от руки Святополка, было не двое, а трое – вместе с Борисом и Глебом был убит последним третий брат Святослав. Если причислены были к лику святых не все трое, понесшие совершенно одинаковую насильственную смерть, то причиной сего было то, что не всех троих, а только двоих первых Бог прославил даром чудотворений. На могилах Бориса и Глеба, погребенных в Вышгороде, скоро начали совершаться чудеса; но могила Святослава, на которой бы могли совершаться чудеса, отсутствовала, ибо убитый во время бегства в Венгрию где-то в горах Карпатских, он не был привезен в Россию, а погребен был на месте убиения, и вот, хотя и совершенно одинаковый с Борисом и Глебом страстотерпец, но не явленный подобно им от Бога чудотворцем, он и не причислен был вместе с ними к лику святых» (Голубинский Е. Е. История канонизации святых в русской церкви. 2-е изд. М., 1903. С. 265).].) Узнав от сестры Предсла-вы об убийстве Святополком Бориса, в междоусобицу вступил брат Ярослав, княживший в Новгороде. Вражда между братьями длилась довольно долго. Только в 1019 году Ярославу удалось окончательно разбить дружину Святополка, который бежал за пределы Руси и там умер. Ярослав занял киевский стол. Такова, если доверять текстам борисоглебского цикла[56 - Известный исследователь борисоглебской тематики А. В. Поппэ считает известие об убийстве Святослава недостоверным. (См.: Поппэ А. В. Земная гибель и небесное торжество Бориса и Глеба // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 54. С. 305.)], историческая канва событий, легших в их основу[57 - Вокруг исторических событий 1015–1019 гг. и последующих, связанных с канонизацией Бориса и Глеба, существует очень много вопросов, на которые у ученых нет бесспорных ответов. Таков, например, вопрос о первоначальной глебоборисовской форме культа святых братьев (см.: Биленкин В. «Чтение» преп. Нестора как памятник «глебоборисовского» культа // ТОДРЛ. СПб., 1993. Т. 47. С. 54–64). Содержание Эймундовой саги позволило выдвинуть предположение, что в смерти Бориса виновен не Святополк, а Ярослав (см.: Алешковский М. Х. Повесть временных лет: Судьба литературного произведения в Древней Руси. М., 1971. С. 88–93, 129–131; ср.: Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IХ–ХII вв.) : курс лекций : учеб. пособие для студентов вузов. М., 1999. Приложение 4. С. 336–354. См. также: Филист Г. М. История «преступлений» Святополка Окаянного. Минск, 1990.) Интересна попытка подвести итоги изучения борисоглебской тематики А. В. Поппэ – см.: Поппэ А. В. Земная гибель и небесное торжество Бориса и Глеба. С. 304–336. Относительно вопроса о реабилитации Святополка мы согласны с выводами, сделанными А. А. Шайкиным в ст. «“Оставим все, как есть…": по поводу современных интерпретаций убийства святых Бориса и Глеба» (см.: Шайкин А. А. Поэтика и история: На материале памятников ХI–ХVI веков : учеб. пособие. М., 2005. С. 384–440; или же: ТОДРЛ. Т. 54. С. 337–369).В данной ситуации удивляет неспособность некоторых авторов остановиться там, где почва предельно зыбка, где на одно предположение массой громоздятся другие и все вместе выдается за фактическую цепочку событий, якобы опровергающих построения предшественников. Гипотеза должна быть названа не более чем гипотезой. (См., например, о проблеме «искажения» действительности, «тенденциозности» Эймундовой саги в разделе «Был ли Ярослав убийцей своего брата?» в кн: Древняя Русь в свете зарубежных источников : учеб. пособие для студентов вузов. М., 1999. С. 515–523.)Можно ли сомневаться в том, что в руках историков никогда не будет достаточного количества фактов, позволяющих реконструировать истинную картину событий 1015–1019 годов? Но факт, на наш взгляд, заключается еще и в том, что культ Бориса и Глеба не мог вырасти на отсутствии или же абсолютном искажении события. Скоро как тысячелетний культ братьев-страстотерпцев, его духовные, ментальные смыслы – тоже факт, значение которого для исторического бытия нации переоценить невозможно.Мы согласны и с размышлениями А. В. Поппэ. «Поиски ответа на волнующий современного исследователя вопрос, как оно было в действительности, заслуживают всяческого внимания для понимания обстоятельств, приведших к государственному злодеянию. Но и следует помнить, что в исторической перспективе не оно само, но его религиозное осмысление влияло не только на духовную, но и общественно-политическую жизнь страны.И можно утверждать, что сама суть культа святых князей-мучеников, его проявления и общественный охват вышли далеко за пределы намерений и ожиданий той княжеской среды, которая пеклась о причтении к лику святых своих погибших родичей. И это ощущал уже Нестор-агиограф, определяя подвиг братьев как завершение дела их отца: Владимир вывел “людей русьских” из мрака язычества и открыл им новый путь, но только Борис и Глеб своими покорностью и жертвенностью, кровно соучаствуя в страданиях Христа, доказали, что благая евангельская весть преобразует человеческую жизнь» (Поппэ А. В. Земная гибель и небесное торжество Бориса и Глеба. С. 336).].
Образ Святополка специфичен. Специфика его не исчерпывается тем, что он брат-убийца Бориса и Глеба. Греховность Святополка не только предопределена его функцией агиографического героя-злодея, но изначально присуща ему. Святополк – злодей по своей природе, он отмечен «дьявольской печатью» от рождения.
Cвятополк рожден от монахини-гречанки, которую привел на Русь и отдал в жены «красоты ради лица ея»[58 - ПВЛ. С. 90.] (в цитатах выделено курсивом здесь и далее нами. – В.В.) сыну Ярополку князь Святослав (погиб в воинском походе в 972 году). Ярополк был затем (в 980 году, согласно ПВЛ) убит в междоусобной борьбе за киевский престол братом Владимиром[59 - В оправдание поступка князя-язычника, свершившего затем равноапостольский подвиг, в одной из редакций его жития сказано об убийстве Ярополка: «Каашется и плакашется блаженыи князь Володимер всего того, елико створи в поганьстве, не зная Бога» (Карпов А. Владимир Святой. 2-е изд., испр. и доп. М., 2004. С. 433; См. также в кн.: [Адрианова-Перетц В. П., Еремин И. П.] Жития // ИРЛ : в 10 т. Литература ХI – начала ХIII века. М.–Л., 1941. Т. 1. С. 333).]. Он взял и жену убитого брата, уже беременную Святополком. Ск. повествует об этом так: «Сего [Святополка] мати преже бе чьрницею, гръкыни сущи, и поялъ ю бе Яропълкъ, братъ Володимирь, и ростригъ ю красоты деля лица ея. И зача отъ нея сего Святополъка оканьнааго. Володимеръ же, поганъи еще, убивъ Яропълка и поятъ жену его непраздьну сущю. Отъ нея же родися сии оканьныи Святопълкъ»[60 - Сказание о Борисе и Глебе. С. 278.]. Ср. в Лп.: «Володимерь же залеже жену братьню грекиню, и бе непраздна, от нея же родися Святополкъ»[61 - ПВЛ. С. 92.].
Преступный князь, таким образом, не волен в своей греховной сущности. Вина лежит на его матери-монахине, иноплеменнице-гречанке, расстриженной Ярополком. Монах (по средневековым представлениям) «живой», «непогребенный мертвец». Его жилище, келья, – гроб. Эти представления буквальны, а не метафоричны. «…по Иванна Лествечника слову: “Всяк чернец преже смерти умрет, гроб себе келию обрет”»[62 - Так называемое Иное сказание. СПб., 1907. Стб. 17. Или: Иное сказание // Русское историческое повествование ХVI–ХVII веков. М., 1984. С. 39.], – писал автор «Иного сказания» (ХVII век). Свершив обряд пострига, монах отрекся тем самым от мирской жизни. Его путь отныне устремлен в царство небесное. Назад, в мир, дороги нет. Великий грех монахине вступить в брак, зачать и родить ребенка. Кто может родиться от живого мертвеца, отступницы пути Божьего? Только человек, воплощающий в себе абсолютное зло. «От греховьнаго бо корени золъ плодъ бываетъ: понеже бе была мати его черницею»[63 - ПВЛ. С. 92.], – пишет автор Лп. о его рождении. Кроме того, у Святополка два отца, они же два брата, и один из них убил другого. «И бысть отъ дъвою отьцю и брату сущю»[64 - Сказание о Борисе и Глебе. С. 278.]. Неудивительно, что Владимир не испытывал теплых чувств к Святополку[65 - Находясь на киевском столе, Святополк отливал монеты, на которых был изображен герб, восходящий к родовому знаку Ярополка, а не Владимира. (См.: Сотникова М. П. Древнейшие русские монеты Х–ХI вв. М., 1995. С. 96–114.) Трудно сомневаться в том, что Святополк сознавал, что как наследник Ярополка, своего действительного отца, он всегда имел больше прав на киевский стол, чем его дядя, он же второй отец, Владимир, равно как и его сыновья. Мать Владимира ключницу княгини Ольги Малушу принято называть наложницей Святослава, однако нельзя сказать о ее сыне, что он незаконнорожденный, так как к языческим представлениям о браке данное определение не применимо. Другое дело, что Малуша была рабой в княжеском доме. Известна история с невестой (великого князя киевского!) Ярополка, Рогнедой, которая на горе себе напомнила Владимиру о его статусе «робичича». (См.: ПВЛ. С. 90.)]. «Темь же и не любляаше его Володимиръ, акы не отъ себе ему сущю»[66 - Сказание о Борисе и Глебе. С. 278.]. Ср. Лп.: «Темь и отець его не любяше, бе бо от двою отцю, – от Ярополка и от Володимера»[67 - ПВЛ. С. 92.].
Святополк рожден в блуде («Володимеръ залеже ю [гречанку] не по браку, прелюбодейчичь бысть убо»[68 - Там же.]), в великом грехе и зле. Так рождается злодей-убийца. От рождения он лишен выбора между добром и злом. Его участь – делать зло. Этот момент подчеркнут в Лп.: «Золъ бо человекъ, тщася на злое, не хужи есть беса; беси бо Бога боятся, а золъ человекъ ни Бога боится, ни человекъ ся стыдить; беси бо креста ся боять Господня, а человекъ золъ ни креста ся боить»[69 - Там же. С. 150.]. Эти слова относятся к «законо-преступным» слугам, исполнившим замысел князя, но и его самого они характеризуют в высшей степени. Природное состояние Святополка – грех (= «болезнь»). И сам он осознает это! Замыслив убийство Глеба после расправы над Борисом, он рассуждает: «Зане его же [Бориса] Господь възлюби, а азъ погнахъ и къ болезни язву приложихъ, приложю къ безаконию убо безаконие. Обаче и матере моея грехъ да не оцеститься и съ правьдьныими не напишюся, нъ да потреблюся отъ книгъ живущиихъ»[70 - Сказание о Борисе и Глебе. С. 290.].
Мотив рождения от блуда предопределяет зло в характере героя, объясняет его злые, греховные поступки и действия (братоубийство), злую судьбу.
Говоря о греховности Святополка, его «злой судьбе» (равно как и о других подобных мотивах), мы следуем за средневековыми авторами, пытаемся реконструировать их понимание образа и судьбы Святополка. Зло обнаруживается в преступных замыслах и деяниях князя. Захватив великокняжеский стол, он поступает так, как на его месте поступил бы каждый, кто хитростью и обманом захватил власть, – подкупает и задабривает киевлян. «…и съзва кыяны, и нача даяти имь имение. (Ср.: «многы дары имъ давъ»[71 - Там же. С. 282.].) Они же приимаху, и не бе сердце ихъ с нимь, яко братья ихъ беша с Борисом [в походе против печенегов]». Свои истинные намерения Святополк прикрывает лживыми словами. Он призывает Бориса в Киев, обещая ему мир и соблазняя прибавлением наследства: «Каиновъ смыслъ приимъ, посылая к Борису, глаголаше, яко “С тобою хочю любовь имети, и къ отню придам ти”; а льстя под нимъ, како бы и погубити»[72 - ПВЛ. С. 146.]. «Льстьно, а не истину глаголя»[73 - Сказание о Борисе и Глебе. С. 282.], – заключает и автор Ск.
Послушание – одна из основных добродетелей святого. В произведениях рассматриваемого цикла речь идет о послушании детей отцу и старшему брату, занявшему место отца. Владимир призывает «скоропослушьливааго» Бориса, чтобы отправить его на печенегов. «Онъ же съ радостию въставъ иде рекъ: “Се готовъ есмь предъ очима твоима сътворити, елико велитъ воля сьрьдца твоего”. О таковыихъ бо рече Притъчьникъ: “Сынъ быхъ отьцю послушьливъ и любиимъ предъ лицьмь матере своея”»[74 - Там же. С. 280.]. Ср. о Глебе: «бе бо послушливъ отцю»[75 - ПВЛ. С. 150.].
Послушливость Бориса и Глеба предельна, она приводит их к подвигу непротивления, добровольной мученической смерти от рук брата, узурпатора власти отца. Эта мысль ярко представлена в молитве израненного Бориса: «…веси бо, Господи мои, яко не противлюся ни въпрекы глаголю, а имыи въ руку вься воя отьца моего и вься любимыя отьцемь моимь, и ничьто же умыслихъ противу брату моему»[76 - Сказание о Борисе и Глебе. С. 288. (Напомним проницательную мысль о подвиге Бориса и Глеба, высказанную Г. П. Федото-вым: «Подвиг непротивления есть национальный русский подвиг, подлинное религиозное открытие новокрещенного русского народа» (Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 1990. С. 49)).]. Зная о послушливости Глеба родителю, Святополк призывает его в стольный град от имени уже мертвого отца. «Святполкъ же оканьный помысли въ собе, рекъ: “Се убихъ Бориса; како бы убити Глеба?” И приимъ помыслъ Каиновъ, с лестью посла къ Глебу, глаголя сице: “Поиди вборзе, отець тя зоветь, не сдравить бо велми”»[77 - ПВЛ. С. 150; ср.: Сказание о Борисе и Глебе. С. 290.]. В своих деяниях (функциях, закрепленных за героем, мог бы сказать В. Я. Пропп) Святополк – лжец, обольститель и убийца. Этими способами он пытается осуществить свою изначальную «высокоумную» (гордую, дьявольскую) мысль – захватить власть в Киевской Руси. «…яко да избиеть вся наследьникы отьца своего, а самъ приимьть единъ вьсю власть»[78 - Сказание о Борисе и Глебе. С. 284. См. также: С. 290.]. (Ср. Лп.: «Избью всю братью свою, и прииму власть русьскую единъ»[79 - ПВЛ. С. 154.], и в Чт.[80 - См.: Жития святых мучеников Бориса и Глеба… С. 7, 14.].)
За злой жизнью следует и злая смерть героя.
Смерть Святополка – наказание («возмездие») от Бога. Ярослав, разгромивший его, в данном случае – орудие Божьей мести. В Лп. Ярослав молится (в Новгороде и перед битвой на р. Альте) о наказании братоубийце: «…да будеть отместьникъ Богъ крове братья моея <…> суди ми, Господи, по правде, да скончается злоба грешнаго»[81 - ПВЛ. С. 156.]. «Ярослав ста на месте, идеже убиша Бориса, въздевъ руце на небо, рече: “Кровь брата моего вопьеть к тобе, Владыко! Мьсти от крове праведнаго сего, якоже мьстилъ еси крове Авелевы, положивъ на Каине стенанье и трясенье; – тако положи и на семь”»[82 - Там же. С. 158; ср.: Сказание о Борисе и Глебе. С. 296.].
Заметим, что позиции Ярослава и Бориса в данном случае различны уже тем, что в молитве последнего звучит просьба к Господу: «…не вниди в судъ с рабом своим, яко не оправдится предъ Тобою всякъ живый», «и не сотвори ему [Святополку], Господи, в семь греха»[83 - ПВЛ. С. 148.] (Лп.). Ср.: «…Ты, Господи, вижь и суди межю мною и межю братъмь моимь и не постави имъ, Господи, греха сего»[84 - Сказание о Борисе и Глебе. С. 288.] (Ск.). Параллель к отмеченному мотиву – слова Стефана: «Господи, не постави им греха сего» [Деяния 7, 60]. Ср. с просьбой Христа о распинающих его: «Иисус же глаголаше: Отче, отпусти им: не ведят бо что творят» [Лука 23, 34].
Все сбылось по молитве Ярослава. Бог преследует злодея-убийцу, проклятого от рождения, и гонит его до самой могилы. Святополк гибнет именно так. Разбитый дружиной брата Ярослава он бежит за пределы Руси. (Заметим, что Ярослава вообще нет в сцене бегства и гибели Святополка.) «И нападе на нь бесъ, и раслабеша кости его, яко не мощи ни на кони седети, и несяхуть его на носилехъ. И прибегоша Берестию съ нимь. Онъ же рече: “Побегнете, осе женуть по насъ!” И посылахуть противу, и не бе ни гонящааго, ни женущааго въ следъ его. И, лежа въ немощи, въсхопивъся глааголаше: “Побегнемы еще, женуть! Охъ мне!” И не можааше тьрпети на единомъ месте, и пробеже Лядьску землю гонимъ гневъмь Божиемь. И прибеже въ пустыню межю Чехы и Ляхы, и ту испроверьже животъ свои зъле. И приятъ възмьздие отъ Господа, яко же показася посъланая на нь пагубьная рана и по съмьрти муку вечьную <…> И есть могыла его и до сего дьне, и исходитъ отъ нее смрадъ зълыи на показание чловекомъ»[85 - Сказание о Борисе и Глебе. С. 296.]. Сбылось пророчество, которое автор Ск. провозгласил устами псалмопевца Давида: «Възлюбилъ еси зълобу паче благостыне <…> Сего ради раздрушить тя Богъ до коньца, въстьргнеть тя и преселить тя отъ села твоего, и корень твои отъ земля живущихъ»[86 - Там же. С. 294; ср.: ПВЛ. С. 158, 160.].
Таким образом, жизнеописание Святополка представляет собой сюжет, в структуру которого входят три связанных между собою причинно-следственной связью мотива[87 - В «Морфологии сказки» В. Я. Пропп подверг критике термин «мотив» в том понимании, которое было предложено А. Н. Веселовским («мотив» – «неразлагаемая», «простейшая повествовательная единица»). Он показал, что мотив разложим (см.: Пропп В. Я. Морфология сказки. М., 1969. С. 17, 18). Однако эта критика не упраздняет самого термина, прежде всего потому, что В. Я. Пропп вводил свою параллельную терминологию. Термин «мотив» на сегодняшний день – один из самых употребляемых в литературоведении, обойтись без него не представляется возможным. См. на данную тему работы И. В. Силантьева: Силантьев И. В. Теория мотива в отечественном литературоведении и фольклористике. Новосибирск, 1999; Силантьев И. В. Мотив в системе художественного повествования. Проблемы теории и анализа. Новосибирск, 2001; Силантьев И. В. Поэтика мотива. М., 2004.]:
– рождение от блуда;
– злая судьба (трагическая, так как герой не властен над ней, он не в силах избавиться от тяготеющего над ним проклятия – греха своих родителей);
– злая смерть («возмездие» Божие)[88 - «Божественное возмездие настигает его [Святополка], а также и дьявола, демонстрируя, что его миссия злотворения является сама по себе инструментом Провидения, свирепствуя через братоубийцу, который погибает презираемый людьми и Богом» (Пиккио Р. История древнерусской литературы. М., 2002. С. 55).].
На лице Святополка маска братской любви, но в своих деяниях (функциях) князь – лжец, обольститель и убийца. Этими способами он пытается осуществить «высокоумную» (гордую, дьявольскую) мысль – захватить власть в Киевской Руси. За злой жизнью следует и злая смерть[89 - Обзор литературы о смерти Святополка см. в ст.: Ранчин А. М. Пространственная структура в летописных повестях 1015 и 1019 годов и в житиях святых Бориса и Глеба // Ранчин А. М. Вертоград златословный. Древнерусская книжность в интерпретациях, разборах и комментариях. М., 2007. С. 75–85. См. также: Ранчин А. М. «Дети дьявола»: убийцы страстотерпца // Там же. С. 126–127.].
Злая смерть – «озеро огненное, горящее серою», ад, бездна, куда суждено быть низвергнутыми зверю и лжепророку и где суждено мучиться каждому, «иже не обретеся в книзе животней написан» [Откр. 20, 15] (ср.: размышления Святополка о «книге жизни»). Злую смерть, возмездие от Бога наследует «человек греха», Антихрист. Равно как и Святополк. Поставленная таким образом проблема не исчерпывается данной аллюзией, и сама аллюзия оказывается не случайной, она имеет далекие следствия – выводит проблему на решение вопроса о генезисе сюжетной структуры жития в целом.
1.1.1. Жизнеописание Спирьки Расторгуева (В. М. Шукшин «Сураз»)
Прежде чем говорить о генезисе, обратимся к произведению В. М. Шукшина.
Кто такой герой рассказа «Сураз»? Естественно, не князь, а простой деревенский парень, шофер Спирька Расторгуев. Он самоубийца. Трагическое в судьбе Спирьки – следствие его блудного, греховного происхождения.
В с. Ясное приехали учителя, Ирина Ивановна и Сергей Юрьевич Зеленецкие, и поселились у стариков Прокудиных. В сцене знакомства с ними после выпитой рюмки коньяку Спирьке захотелось “рассказать весело” о своей жизни.
«– Я – сураз, – начал он.
– Как это? – не поняла Ирина Ивановна.
– Мать меня в подоле принесла. Был в этих местах один ухарь. Кожи по краю ездил собирал, заготовитель. Ну, заодно и меня заготовил.
– Вы знаете его?
– Ни разу не видал. Как мать забрюхатела, он больше к ней глаз не казал. <…> Ну, и стал я, значит, жить-поживать…»[90 - Шукшин В. Собр. соч. : в 5 т. Екатеринбург, 1992. Т. 4. С. 380. (О таком, как правило, не рассказывают. Да и хотел-то Спирька поведать о другом – о «далеких трудных годах, голоде, непосильной недетской работе на пашне». Внезапное желание героя рассказать о своей жизни психологически мотивировано тем, что при знакомстве он выпил стакан коньяку. Спирька быстро протрезвел и продолжать не стал. «И так резко, как захотелось весело рассказать про свою жизнь, так – сразу – расхотелось…» (там же).].
Шукшин часто называл свои рассказы по имени героя[91 - Среди рабочих записей Шукшина имеется следующая: «Самые дорогие моменты: 1. Когда я еще ничего не знаю про рассказ – только название или как зовут героя. 2. Когда я все про рассказ (про героя) знаю. Только – написать. Остальное – работа». (Цит. по кн.: Коробов В. Василий Шукшин. М., 1984. С. 213.) Данное свидетельство позволяет отчасти проникнуть в авторскую «творческую лабораторию». Имя героя было чрезвычайно важно для Шукшина. Он признается, что, приступая к работе над тем или иным сюжетом, мог не знать ничего, кроме того, какое имя носит герой. Нет сомнения, что имя выступало при этом в качестве определенного знака, мифологемы, то есть заключало в себе некую семантику, которая должна была реализоваться в сюжете. Такого рода имен (кличек) в произведениях Шукшина более чем достаточно. Например, Степан Воеводин («Степка»), Бронька Пупков («Миль пардон, мадам!»), Гена Пройдисвет, Алеша Бесконвойный (одноименные рассказы), Егор Прокудин («Калина красная») и др.]. Здесь рассказ назван “Сураз”. Перед нами – кличка, заменитель имени. В словаре В. И. Даля «сураз» (в частности, с пометкой «сиб.») – «небрачно рожденный», а также «бедовый случай, удар, огорченье». Выражение «сураз за суразом» – «беда по беде»[92 - Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М., 1991. Т. IV. С. 362.]. В словаре М. Фасмера зафиксировано значение «сураз» – «несчастье».
Спиридон в переводе с латинского также означает «незаконнорожденный». И подлинное имя, и кличка героя – синонимы. Автор сверхакцентировал семантику незаконного рождения героя, связав ее со смыслами «несчастья», «беды», «удара»[93 - М. Фасмер предлагает этимологию слова «сураз» из «су-» и «разъ» – «удар, порез» (Фас-мер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. М., 1987. Т. 3. С. 806). Интересно отметить также слово «куразенок» (незаконнорожденный ребенок), встречающееся в сибирских диалектах. «По происхождению представляет собой сложение экспрессивного архаичного префикса ку- и производящей основы -разенок; ср. сураз, суразенок с тем же значением, но с другой приставкой. Данное образование может восходить к праславянскому фонду, в связи с чем интересно “чередование” префиксов ку-/су-» (Шарифуллин Б. Я. История и этимология русских говоров Сибири. Красноярск, 1990. С. 36). Если предложенная этимология верна, то в семантике слова «сураз» заключен смысл изначальной, кармической пораженности судьбы незаконнорожденного. (Поскольку слово «карма» вошло в русский язык с не очень определенными значениями, то мы бы хотели уточнить, что в данном случае понимаем под «кармическим» причинно-следственную связь между судьбами поколений, влияние грехов родителей на судьбы детей.) Судьба Спирьки Расторгуева является подтверждением именно данных смыслов. Судьба наносит ему слишком много ударов. Внезапным ударом судьбы представляется и его странная любовь к учительнице, чужой жене Ирине Ивановне. Эта любовь вполне подходит под выражение «по бабам шастать». Она и привела к окончательной катастрофической развязке (см. далее).]. (В. М. Шукшин долго подбирал название для рассказа, написанного для задуманного цикла «Непутевые люди». Одно из первоначальных названий рассказа – «Непутевый». Окончательный вариант дает реализацию мифологемы «имя есть судьба».)
Спирька не имеет корня, на который мог бы опереться, он действительно «только что родился»[94 - См.: Аннинский Л. «Шукшинская жизнь» // Лит. обозрение. 1974. № 1. С. 55.]. Спирька – изгой, трагический персонаж. Он лишен с точки зрения крестьянского понимания нормальной судьбы, «выключен» из структуры крестьянского мира «добрых людей». У него «все не как у добрых людей!»[95 - Шукшин В. Собр. соч. Т. 4. С. 385.]. «Тридцать шесть лет – ни семьи, ни хозяйства настоящего»[96 - Там же. С. 375.]. «Мать <…> стыдилась, что он никак не заведет семью <…> ждала, может, какая-нибудь самостоятельная вдова или разведенка прибьется к ихнему дому»[97 - Там же. С. 385.]. (В этом желании – мысль автора о соединении одной неудавшейся, «непутней» судьбы с другой, такой же неудавшейся и «непутней», как последней возможности создать для героя семью.)
Отверженность Спирьки подчеркивает и сравнение его с «черным человеком» (в сцене последнего прихода к учителям). «Он явился, как если бы рваный черный человек из-за дерева с топором вышагнул…»[98 - Шукшин В. Собр. соч. Т. 4. С. 391.]. В поэтике С. Есенина, любимого поэта В. М. Шукшина, «черный человек» – дьявольский двойник героя, появляющийся накануне самоубийства поэта. В этом же ряду стоит выражение «чухонец отпетый»[99 - «Чухонец», «чухна» – название финских племен, проживавших в окрестностях Петербурга. Оно связано с этнонимом «чудь». В фольклорных преданиях чудь выступает как враждебное русским племя.]: Спирька сравнивается автором с дружком, «таким же отпетым “чухонцем”»[100 - Там же. С. 376.].
«Жизнь Спирьки скособочилась рано», – пишет автор и дает следующую характеристику герою: «Рос дерзким, не слушался старших, хулиганил, дрался… Мать вконец измучилась с ним»[101 - Там же. С. 375, 376. (Ср. характеристику «последних дней» времени Антихриста: «Будут бо человецы <…> родителем противящиися» [2 Тим. 3, 2]. Образ Спирьки воплощает в себе данную антихристову черту. (Делаем это замечание несколько забегая вперед.) Соответственно, образ идеального героя описывается через прямо противоположный мотив послушания (см. выше характеристику Бориса и Глеба.)).]. Спирька бросил школу, не миновать ему было и тюрьмы. «Пять лет “пыхтел”»[102 - Шукшин В. Собр. соч. Т. 4. С. 376.]. Само его преступление нелепо (оно описано автором в комическом ключе). Но такое уж Спирьке, что говорится, «на роду написано».
Поведение героя определяет мотив блуда: «Знает свое – матерщинничать[103 - См. также о матерщине как черте антихристианского, бесовского поведения: Успенский Б. А. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. II. Язык и культура. М., 1994. С. 57–58. (В рассматриваемом нами контексте интересен мотив, связывающий происхождение матерщины с инцестом – см.: Там же. С. 68.)] да к одиноким бабам по ночам шастать. Шастает ко всем подряд, без разбора»[104 - Шукшин В. Собр. соч. Т. 4. С. 375.].
С мотивом блудного поведения связана другая черта образа героя – красота. «Он поразительно красив; в субботу сходит в баню, пропарится, стащит с себя недельную шоферскую грязь, наденет свежую рубаху – молодой бог! Глаза ясные, умные… Женственные губы ало цветут на смуглом лице. Сросшиеся брови, как два вороньих крыла, размахнулись в капризном изгибе. Черт его знает!.. Природа, кажется, иногда шутит»[105 - Там же.]. Красота помогает Спирьке легко одерживать победы на любовном фронте. В сцене свидания с чужой женой, учительницей Ириной Ивановной, Спирька думает: «Хорошо все-таки, что он (так!) красивый[106 - «Суражий», «суразый», «суразный» – это еще и «видный, пригожий, казистый» (Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. С. 362). Таким образом, мотивы красоты и моложавости героя («ему на вид двадцать пять, не больше» (Шукшин В. Собр. соч. Т. 4. С. 375) неразрывно связаны с негативной семантикой той системы значений, которая заключена в имени и кличке героя, а также с мотивами «блуда», «непутевости».]. Другого бы давно уж поперли, и все»[107 - Там же. С. 383.].
Прижитый от «проезжего молодца», герой сам повторяет судьбу своего непутевого родителя. «Спирька был вылитый отец, даже характером сшибал, хоть в глаза не видал его»[108 - Там же. С. 376.]. Рождение и жизнь Спирьки – это накопление греха[109 - Ср. наличие данного мотива в описании рода Ивана Грозного, а также в сюжете о рождении природного колдуна – см. раздел 3.1 настоящей монографии.]. Спирька необычайно легок, ни к чему он не относится серьезно. «Ему все “до фени”»[110 - Шукшин В. С. Собр. соч. Т. 4. С. 375.]. Его ничто не удерживает на этой земле. (Исключение – любовь к матери: «Вот кого больно оставлять в этой жизни – мать»[111 - Там же. С. 385.].) Порывиста и разрушительна (как и все «блудное» в его жизни) любовь Спирьки к учительнице Ирине Ивановне. Но автор пишет не героя-злодея и даже не «отрицательного героя», его интересует, пользуясь его же словами, «человек “в целом”»[112 - В статье «Нравственность есть правда» (1968) В. М. Шукшин писал: «Честное, мужественное искусство не задается целью указывать пальцем: что нравственно, а что безнравственно, оно имеет дело с человеком “в целом” и хочет совершенствовать его, человека, тем, что говорит ему правду о нем» (Шукшин В. М. Собр. соч. : в 3 т. М., 1985. Т. 2. С. 623).]. Спирька – незаконнорожденный, но он не «злой человек», он, наоборот, «неожиданно добрый». В этом определении – безошибочное, математически точное, гениальное чутье образа В. М. Шукшиным.
Автор дает целый ряд примеров, раскрывающих эту черту образа-характера Спирьки. «Пришел [из тюрьмы] – такой же размашисто красивый, дерзкий и такой же неожиданно добрый. Добротой своей он поражал <…> Мог снять с себя последнюю рубаху и отдать – если кому нужна. Мог в свой выходной поехать в лес, до вечера пластаться там, а к ночи привезти машину дров каким-нибудь одиноким старикам. Привезет, сгрузит, зайдет в избу.
– Да чего бы тебе, Спиренька, андел ты наш?..»[113 - Шукшин В. Собр. соч. Т. 4. С. 376, 377.].
Не только блудное, злое, но и ангельское начало воплощено в Спирьке. Зло – в его судьбе, добро – в его душе. Доброта как духовное качество героя проявляется, например, в его помощи двадцатитрехлетней вдове Нюре Завьяловой, оставшейся в войну «с двумя маленькими ребятишками».
В подобных поступках Спирька предстает как человек деятельного, нелицемерного христианского добра! У него самого ничего нет, а он готов пластаться весь свой выходной (!) ради одиноких стариков, односельчан. Нюре Спирька сбросил ночью в огород мешок казенного зерна – не стоит говорить о том, каким образом в военное, сталинское время мальчишка мог поплатиться за такую помощь…
Именно добротой объясняется и его жалость к женщинам с несложившейся судьбой. «Шастает» Спирька в основном к вдовам, одиноким, словно желая сколько можно скрасить не только свое, но и их существование. «Славный это народ, одинокие женщины! Почему-то у них всегда уютно, хорошо <…> Можно между делом приласкать хозяйку, погладить по руке… Все кстати, все умно. Они вздрагивают с непривычки и смотрят ласково, пытливо. Милые. Добрые. Жалко их»[114 - Шукшин В. Собр. соч. Т. 4. С. 389.]. Значимо, что в такого рода общении для Спирьки важна душевная сторона. «Как назло кому: любит постарше и пострашней.
– Спирька, дурак ты, хоть рожу свою пожалей! К кому поперся – к Лизке корявой, к терке!.. Неужели не совестно?
– С лица воду не пить, – резонно отвечает Спирька. – Она – терка, а душевней всех вас»[115 - Там же. С. 375.].
Герой не может найти в себе зла даже к «лютому врагу», учителю Сергею Юрьевичу, который избил его и которого он хотел застрелить. Сцены мести, которые Спирька пытается вызвать в своем воображении, неубедительны для него самого. Он никак не может разозлиться, «завестись» по-настоящему. «Его вдруг поразило, и он даже отказался так понимать себя: не было настоящей, всепожирающей злобы на учителя <…> он понял, что не находит в себе зла к учителю. Если бы он догадался подумать и про всю свою жизнь, он тоже понял бы, что вообще никогда никому не желал зла»[116 - Там же. С. 392, 393.]. Именно доброта спасает его от рокового шага, не дает перешагнуть границу добра и зла. Дикая сцена готовящегося ночного убийства кончается тем, что Спирька «ясно вдруг понял: если он сейчас выстрелит, то выстрел этот потом ни замолить (!), ни залить вином нельзя будет»[117 - Там же. С. 387.]. Он решил застрелиться сам.
Автор фиксирует его психологическое состояние перед самоубийством: «Вообще, собственная жизнь вдруг опостылела, показалась чудовищно лишенной смысла. И в этом Спирька все больше утверждался. Временами он даже испытывал к себе мерзость. Такого никогда не было с ним. В душе наступил покой, но какой-то мертвый покой, такой покой, когда заблудившийся человек до конца понимает, что он заблудился, и садится на пенек. Не кричит больше, не ищет тропинку, садится и сидит, и все»[118 - Там же. С. 393.].
Рожденный от блуда Спирька заблудился в жизни и кончил злой, греховной смертью. Он должен был убить и повторить судьбу своего отца, которого «за что-то арестовали», а дальше Спирька предполагает (фактически не зная!), «наверно, вышку навели»[119 - Шукшин В. Собр. соч. Т. 4. С. 380.]. (Ср. с судьбой Святополка, которая предопределена грехом матери[120 - Фраза «Мать меня в подоле принесла», как и имя «Сураз», оскорбляют родительницу Спирьки, акцентируют ее греховность. Однако В. М. Шукшин с очевидностью намечает и повторение судьбы отца в судьбе сына. Стоит отметить и еще одно сближение сравниваемых текстов. Владимир не любит Святополка за то, что он не его сын. Мать может «немилосердно выпороть», «жестоко избить» Спирьку за хулиганство и непослушание. «А ночью [она] рвала на себе волосы и выла над сыном; она прижила Спирьку от “проезжего молодца” и болезненно любила и ненавидела в нем того молодца» (Шукшин В. Собр. соч. Т. 4. С. 376). Как мы видим, мотив отторжения сына здесь осложнен мотивом болезненной, надрывной любви к нему.].)
«– Спиридон… тебе же будет расстрел, неужели…
– Я знаю»[121 - Там же. С. 387.].
Это диалог в сцене готовящегося убийства. Судьба отца (мы не знаем ее начала) могла повториться в судьбе сына. Но преступления не произошло и, выражаясь языком героя, вышку не навели. Ствол, направленный в другого, Спирька развернул и направил в свою грудь. Только так оказалось возможно разорвать цепь «зла-греха», которой была окована его судьба. (Здесь возникает неожиданное сцепление образа шукшинского героя с образом свершившего подвиг непротивления Бориса. Дружина предлагала Борису пойти против Святополка, но тот не захотел «възяти рукы на брата своего»[122 - Сказание о Борисе и Глебе. С. 284.], то есть предпочел убийству собственную смерть. Однако на этом сходство в данной ситуации заканчивается.)
Святополк, проклятый и гонимый Богом, бежит, но не может скрыться от его гнева. Он разбит болезнью, внутренне дезориентирован, смят и раздавлен. Господь прервал его род, вырвал греховный корень из земли. Спирька начинает метаться и бегать, после того как замыслил преступление, и до самой сцены самоубийства. Он потерял все ориентиры и сам не осознает, что с ним происходит. «Он чуть не бежал, а под конец и побежал»[123 - Шукшин В. Собр. соч. Т. 4. С. 386.]. «Надо что-то делать, надо что-нибудь сделать. “Что-нибудь я сейчас сделаю!” – решил он. Он подобрал ружье и скоро пошагал… сам не зная куда»[124 - Там же. С. 389.] – сцена на кладбище и др. Там же на кладбище он «незло» материт покойников:
«– Лежите?.. Ну и лежите! Лежите – такая ваша судьба. При чем тут я-то? Вы лежите, а я еще побегаю по земле. Покружусь»[125 - Там же.].
Судьба Спирьки – бегать, кружиться, блуждать по земле без цели и смысла до самой своей роковой кончины.