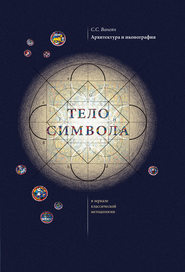скачать книгу бесплатно
Здесь возникает желание спросить: а не является ли проблема цели тоже иконографической? Вопрос цели – вопрос направленности, буквально нацеленности, прежде всего, содержания постройки, построения, акта возведения здания, порождения некоторого предмета, находящегося в соответствующей среде, которая может быть, в том числе, и социальной. Только в этом смысле правомерен вопрос, задаваемый обычно изображению, а не зданию: что это такое? Цель и содержание, понятые как значимый состав сооружения, во взаимодействии друг с другом и составляют единый предмет иконографического изыскания[48 - Ibid. S. 10. С. ссылкой на Христиана Теве: T?we, Christian. Die Methoden der Kunstgeschichtsschreibung // Zeitschrif f?r Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaf. 1937. Bd. XXXI, H. 4.].
И все-таки для Андре иконография – это именно изобразительное содержание; ведь мы различаем два вопроса: что данный предмет представляет и что данный предмет представляет собой? Некий предмет может представлять, репрезентировать другие предметы, быть их образом. Представлять собой, то есть с помощью себя, – значит быть условием проявления, существования чего-либо, что без этой вот конкретной предметности лишено наличного бытия. Как правило, таковыми сущностями являются сущности идеального, нематериального плана, в том числе и ментального: замысел, потребности, желания – все то, что определяется целеполаганием. Не позволяя себе подобные теоретические выкладки (они принадлежат нам), Андре, тем не менее, предлагает четко различать два плана содержания, в том числе и в архитектурном произведении: собственно изобразительно-иллюстративную часть и план функционально-средовой. Только в первом случае можно говорить об иконографии, второй случай – в ведении того, что по-немецки именуется Sachkunde, то есть знание самого предмета, способность разбираться в предмете, компетентность. Не случайно Андре анализирует архитектуру вкупе с декоративно-прикладным искусством: в этом смысле архитектура тоже прикладывается к определенной задаче, роли внутри столь же определенного контекста. Знание этого контекста еще не есть иконография, так как она имеет дело с изобразительным, скажем шире, художественным материалом. Вновь и вновь звучит мысль, что предмет может быть носителем изображения, сам таковым не являясь (резная кафедра что-то значит как предмет церковной мебели, но на ней могут быть помещены сцены Страстей, которые только и являются предметом иконографических штудий, но вовсе не сама кафедра)[49 - Ibid. Андре предупреждает в примечаниях об опасности «псевдоиконографических изысканий», когда иконографический мотив (к примеру, «мадонны XIV столетия») оказывается всего лишь критерием отбора для сугубо формальных упражнений («постановка фигуры» в подобного рода статуях). Как верно замечает наш ученый, выбор иконографического материала еще не означает иконографического анализа. Хотя это не значит, что формальные моменты не могут быть значащими.].
Форма не может не участвовать в содержании. Любая художественная форма – «выражение и значение», форма всегда что-то значит, в том числе и некую репрезентацию, изображение. И только последнее – область иконографии, которая вслед за «целевым значением» оставляет за пределами своей компетенции и «формальное значение»[50 - Ibid. S. 11.]. Иначе говоря, существуют три, по крайней мере, типа значения, согласно которым тот же Берлинский музей Шинкеля будет значить и «музейное здание» (цель, функциональное значение), и «античный храм» (изобразительное содержание, репрезентирующая символика), и «стремление к возвышающему образцу» (формальная выразительность). И все равно это будет только часть общего содержания данного здания, ведь необходимо учитывать и материальную культуру, и биографический материал[51 - Ко всему перечисленному, отмечает Андре, следует добавить и изучение самого творчества, и специфику творческих личностей, и особенности заказа, и отличительные свойства заказчиков. А также многое другое…].
Необычайно лаконичная и крайне содержательная заметка Андре достойна самого пристального внимания. В ней присутствуют практически все аспекты интересующей нас темы и практически все имена. И главнейшая заслуга Андре заключается в выяснении фактически единственного прямого предмета иконографии. Таковым в любом случае может быть только изображение.
Второй существенный момент – различение архитектуры изображаемой (более легкий вариант для исследования) и архитектуры изображающей (источник основных проблем). Задача и границы иконографии архитектуры – описание механизмов изобразительности, но никак не содержания подобных изображений, что есть цель Sachkunde, то есть соответствующей дисциплины, специализирующейся на данном конкретном предмете и предполагающей компетентность в соответствующей области, знание самого предмета. Иначе говоря, смысл следует искать не в изображаемом предмете, а в изображении предмета. Другими словами, архитектура как изобразительное средство освобождается от бремени «смыслоношения».
Такой подход имеет и методологический аспект, и сугубо эстетический, теоретический. В первом случае мы должны решить для себя: можем ли мы уклоняться от анализа смысла, если он не содержится непосредственно в предмете анализа? Хотя что значит «непосредственно»? Достаточно ли просто перенести добытое понимание самого предмета на его изображение? Каков тогда смысл самого акта изображения? Только ли замена отсутствующего объекта?
Но предмет просто существующий и предмет репрезентируемый являются разными феноменами. Точнее говоря, только в последнем случае он и будет феноменом и, значит, источником смысла. И если изображающая архитектура представляет некоторый предмет, то она наделяется не только его смыслом, но и просто существованием, обеспечивая среду проявления, являясь средством, способом его (предмета) бытия как предмета интенционального.
Образ представления (само изображение) превращается и в образ существования (существительное оказывается наречием). Способ репрезентации, таким образом, описывает, репрезентирует и того, кто стоит за этой репрезентацией и за этим предметом. Заслуга Густава Андре, на наш взгляд, состоит в том, что он накануне восхождения иконологического солнца (статья написана в 1938 году) в общем виде обозначил пределы иконографического подхода. Как выяснилось, эти пределы имеют архитектурные и одновременно феноменологические очертания. Кроме того, стали возможными преемственность и переход от иконографии к иконологии (переходность заключена в самом предмете исследования: важно выяснить направление и цель перехода, и его механизм).
Наконец, наблюдения немецкого ученого ценны и в том смысле, что позволяют говорить не столько о закате иконографического метода, сколько об «иконографических сумерках», так как остаются такие области историко-художественного знания, где предметная компетентность, несомненно, превышает возможности сугубо изобразительной выразительности. То, о чем сообщает сам предмет – порой независимо от своего изображения, – выходит далеко за пределы собственно искусства. И вероятно, именно архитектура может быть санкцией на подобное преодоление, превышение изобразительности.
Мы так основательно остановились на заметке Густава Андре только по той простой причине, что сама традиция рефлексии на тему иконографии архитектуры почти полностью отсутствует. Если не считать довольно беглого экскурса Бандманна в его знаменитой книге, остро полемической историографии Зедльмайра в его «Возникновении собора», идеологически небезупречного эссе современного исследователя Пауля Кроссли о Панофском, Бандманне и Зедльмайре, то не остается ни одного мало-мальски значимого изыскания на тему иконографии и архитектуры. Единственное исключение – компендиум Генриха Лютцелера «Восприятие искусства и наука об искусстве» (1975), во втором томе которого, в части, посвященной анализу изобразительного мотива, присутствует довольно обширная глава, посвященная смысловому анализу архитектуры (см. Перспективу II).
Именно Лютцелеру мы обязаны уяснением того момента, что семантика касается не только изобразительного мотива, но и не изобразительного – орнаментального, беспредметного и – самое главное – архитектурного, где именно геометрические схемы-паттерны отвечают за семантику. Для Лютцелера подобная внепредметная образность по силам лишь иконологии, так что для этого автора просто не может быть иконографии архитектуры (лишь иконология – это «разомкнутые уста архитектуры»[52 - L?tzeler, Heinrich. Kunsterfahrung und Kunstwissenschaf… S. 978. Замечательна формулировка, что иконология архитектуры – это «компетенция относительно Бога, человека и мира» (Ibid.).]). Мысль, впервые сформулированная Бандманном. Нам предстоит опровергнуть или уточнить данное мнение, весьма распространенное.
Так и складывается общая проблематика нашего исследования, призванного прежде всего дать детализированный обзор всех тех подходов, которые можно объединить под общей рубрикой «иконография», имея в виду уже вышеобозначенные признаки этого метода: 1) допущение объектного, то есть внешнего, подхода к памятнику; 2) предположение, что памятник сам в себе содержит смысл, пусть и привнесенный в него, но им, памятником, репрезентируемый; 3) раскрытие этого смысла означает его дешифровку, связанную с поиском источников.
Кроме того, иконография обладает еще одним аспектом своей первичности по отношению к иным методам. Предметный смысл памятника связан с узнаванием самого предмета, его идентификацией, с чего, собственно говоря, начинается всякое знакомство с предметом. Поэтому иконография – это археология искусства, но на семантическом уровне, археология не форм, не облика, а содержания и смысла. Можно сказать, что иконография – это то же знаточество, предполагающее, однако, знание самой жизни, а не художественного предмета. Это знаточество на стороне не художника, а заказчика, а потому – и на стороне зрителя-пользователя.
В связи с чем для нас, в свою очередь, источниками будут соответствующие тексты историков искусства, которых мы будем отделять от теоретиков архитектуры, ставя перед собой задачу опять-таки описать и прокомментировать основные работы, выяснив их и теоретическую подоплеку, и соответствие внутренней логике научного повествования. Так что можно сказать, что наше исследование тоже имеет отчасти иконографический характер, только образами у нас будут не образы идей и смысла, а образы действий, совершаемых над памятником…
Архитектура и иконография: аспекты взаимодействия
Итак, важны следующие оговорки. В первую очередь, важно выделять то, что можно назвать архитектурной иконографией. Это иконографические построения средствами самой архитектуры. Архитектурная иконография предполагает смысловой анализ архитектурного образа: что значат, какой смысл имеют те или иные архитектурные формы, какой смысл им приписывается и какими средствами.
Другой исток именно архитектурной иконографии – это назначение архитектуры как постройки. Поэтому допустимо говорить о собственно архитектурной иконографии (архитектура как эстетически-художественный феномен) и о строительной иконографии (сюда можно добавить и смысл конструкционный). Хотя такого рода различения могут вызвать и возражения, они не бесспорны и основаны на возможности отделять форму от ее назначения. Подобную операцию можно допустить только аналитически.
Но в любом случае можно и нужно различать значение и назначение, причем значение не обязательно вытекает из назначения, так как существует и значение архитектурных форм с точки зрения того, что и как они обозначают. И значимость архитектурных форм связана, в том числе, с возможностью их изобразительности, архитектурного образа как отображения и даже изображения, почти что мимесиса. Мы уже говорили, насколько проблематична эта тема, но она есть, и, быть может, существует и сама изобразительность.
Но не меньшие, если не большие, проблемы задает назначение, так как оно предполагает обращение к тому, что (и кто) окружает архитектуру, иначе говоря – выход за пределы собственно архитектуры. Или подобная функция и есть специфика архитектуры, заставляющая ее фактически отрицать себя на смысловом уровне?
Но существует такой аспект, угол зрения, способ рассмотрения и просто предмет анализа, как иконография архитектуры, когда архитектура оказывается темой, предметом изображения. Хотя это и не есть иконография средствами архитектуры, но такого рода ситуация проясняет смысл изобразительного мотива, в данном случае архитектуры. Это проблема репродукционности, воспроизводимости архитектуры, где смысл предстоит в двояком роде: смысл самого акта воспроизведения и смысл полученного «дубликата». Понятно, что техника воспроизведения может быть любой: и двухмерной, и трехмерной. Даже сама архитектура способна воспроизводить себя в виде всякого рода копий, реплик и т. д.
И наконец, архитектура и иконография как наиболее общий и универсальный случай взаимодействия архитектуры – и регулярной и регулируемой, систематической и канонической изобразительности. Это проблема не только перехода от стереометрии к планиметрии, но и архитектуры как среды, как контекста, как фона, как пространственного фактора и архитектонического условия функционирования двухмерного (например, живописного) изображения. А также это и проблема вообще взаимодействия разных видов изобразительности и правил их именно построения. Можно предположить, что это проблема архитектурных структур и типов и их присутствия в иных видах изображения. Можно сказать и иначе: существуют определенные измерения архитектурного образа и их приложение, применение в других видах образности и изобразительности.
И уже совсем концептуальным фоном стоит проблема иконичности, иконографичности и, фактически, изографичности самой науки об искусстве применительно к архитектуре, то есть ее (науки) способности воспроизводить, репродуцировать значение, делая подобное еще и типологически.
Ведь типология, а значит, и иконография определяют и методы истории искусства. Поэтому разобраться, какой метод и когда применяется тем или иным историком искусства, узнать и опознать его – вот задача подлинной описательности, истинного историко-художественного дискурса. Самое принципиальное, на наш взгляд, – убедиться, что всякая подлинная методология – это репродукция соответствующей теории, когда собственно искусство оказывается или материалом, или, в лучшем случае, инструментом воспроизведения.
Кроме того, и внутри себя эти методы могут выстраивать подобия иконографических отношений. Один метод можно назвать прообразом всех прочих. Иногда кажется, что это археология, особенно в ее экклезиологически ориентированных вариантах. Но это может быть и богословская симвология или какая-нибудь социо-Литургика, если возможно такое предположить.
В любом случае существуют и методы-изводы. Быть может, сама иконография как метод – это производное от вышеназванных методов. Допустимо предположить, что переход от собственно архитектуры к ее изображению как раз и составляет чисто иконографические отношения и между материалом, и между соответствующими подходами.
Или «протографами» всякой методологии следует признать нечто качественно иное, например теоретическую концепцию, порождающую методы, подобно тому, как Нерукотворный Образ делает легитимными иконные образы? Хотя иконичность на уровне уже иконографического дискурса – это совсем отдельная проблема.
Поэтому мы выбрали в качестве предмета нашего методологически иконографического изыскания всего лишь одну тему – именно иконографический метод, попытавшись рассмотреть его при этом с достаточной степенью детализации, помня, что любое описание предполагает предварительное прочтение. Что мы и делаем, начиная с наиболее емкого, но и наиболее отдаленного и отстраненного взгляда на сакральную архитектуру (симвология) и заканчивая максимальным приближением и просто вхождением и почти что растворением в ней (социально-семиологическая, литургически-ритуальная иконография-топология). Между этими пределами, собственно, и располагаются иконография архитектуры, а также ее лингвистические изводы, и даже христианская археология, утратившая, как может показаться, свои первенствующие позиции, во всяком случае, не способная обозначить свою специфику перед лицом архитектурной семантики, лишенной на первый взгляд предметно-вещественных параметров.
Поэтому кажется неизбежным, что общая структура предлагаемого изыскания может напомнить и нечто скорее концентрическое, чем линейное. Сердцевиной будет в этом случае собственно иконография архитектуры, а обрамлением, внешними пределами ее будут служить две тенденции – симвология и археология. Их можно сравнить с корнями и кроной некоего растения, именуемого классической традицией смыслового анализа архитектуры, и тогда иконография будет располагаться в промежутке между ними, представляя собой род ствола, у которого могут быть и всяческие ответвления. Несомненно одно: это, так сказать, естественное состояние метода, его свободное развитие из той почвы, что именуется собственно архитектурной историей, теорией и практикой. Между Небом (симвология) и Землей (археология) и располагается сама иконография, обеспечивая и опосредуя соединение, казалось бы, несоединимого.
Но это не значит, что само древо, его ствол и ветви не могут быть материалом для возведения уже специальных и искусственных «сооружений», именуемых иконологией, феноменологией и проч. Всякое древо способно останавливаться в своем росте. В какой-то момент это происходит и с классической методологией, и тогда-то она становится материалом для последующих методов. Где замедляется рост, что тормозит движение, где исчерпываются возможности описания и возникает потребность в объяснении, толковании и перетолковании, то есть в пересмотре и переосмыслении? Приходящие на смену подходы не вытесняют «иконографию архитектуры», не упраздняют ее, а пользуются ею, причем не без права и, хочется надеяться, не без благодарности, хотя бы потому, что именно классические подходы обеспечили первоначальное накопление содержательного материала – как аллегорически-богословского (симвология), так и фактологически-исторического (археология). Достаточно подробное воспроизведение всего накопленного, а заодно и помещенного в архитектуру смысла – отдельная задача нашего изыскания.
Но одновременно мы вынуждены учитывать и эмпирическое положение дел, когда простое хронологическое появление тех или иных текстов, принадлежащих разным подходам, задает порядок нашего изложения.
Еще одно измерение нашего повествования – уже не историческое, а персональное, так как за каждым текстом и каждым подходом есть и его автор, и его сторонник. Взаимоотношение идеи и ее носителя может быть прекрасно и описано, и проиллюстрировано внимательным анализом того, как идеей пользуются и какими руководствуются при этом мотивациями. А ведь идеи не только принимают, но и отвергают, и за каждой принятой концепцией стоят концепции отвергнутые, которые, тем не менее, быть может, все-таки остаются в тени здания теории как нечто просто пока еще не понятое или не востребованное. Ведь архитектура – достаточное емкое явление и способное найти в себе место и для чего-то, что не устроило науку об искусстве…
Для полной наглядности нашего повествования его структуру можно представить и с помощью сугубо архитектурных аналогий. Вообразим себе арочную конструкцию: это классическая смысловая методология в целом. Ее опорами-колоннами будут, соответственно, семиология Йозефа Зауэра и археология Фридриха-Вильгельма Дайхманна. Полукружия самой арки будут формироваться благодаря усилиям, так сказать, поэтико-иероглифической иконографии Эмиля Маля и лингвистической иконографии Андре Грабара. А замковый камень утвердится тогда посредством текстов Рихарда Краутхаймера, в известной степени исчерпавшего иконографическую методологию применительно к архитектуре. А что же тогда Синдинг-Ларсен? Он будет помещен в сам арочный проем, демонстрируя возможные выходы всей этой методологической конструкции за собственные пределы. Но – это следует подчеркнуть особо – даже обозначая своим местоположением саму суть иконографического метода, его незавершенность и открытость в сторону архитектурного пространства, социально-идеологическая и литургически-ритуальная иконография норвежского историка искусства остается под сводами иконографической арки, осененная все тем же неизменным субъектно-объектным подходом, который мы, не без условности, назвали классическим, подразумевая тот неоспоримый факт, что своим существованием он обязан методологическим обычаям еще позапрошлого (XIX) века.
Почему он жив до сих пор и почему даже в начале XXI века некоторым он кажется чересчур специфическим и требующим своего обоснования, почему история искусства даже поныне готова удовлетворяться даже не арочной, а стоечно-балочной конструкцией, где опоры – факты, а балки – их переложение в терминах истории стилей, – вот что будет самым скрытым и потому самым заманчивым вопросом нашего исследования. Ответы – если они есть – ждут нас в конце, который, впрочем, должен в результате выглядеть как скорее порог, проем, за которым расположено нечто иное и не менее будоражащее.
Так что можно продолжить строительные метафоры, сказав, что мы не намерены пока убирать и леса с нашей планируемой постройки после ее завершения, так как крайне существенно хотя бы упомянуть всякого рода примыкающие тенденции, имена, альтернативы. Последним хорошо было бы выделить отдельное место, так как это альтернативы самой иконографии как таковой. Другими словами, возможно представить себе контуры более обширного проекта, где упомянутая иконография – лишь основание сооружения, включающего такие «этажи», как иконология и герменевтика все той же архитектуры.
Отдельная оговорка – выбор материала исследования. Этим материалом будут тексты классиков классической методологии, наиболее показательно явленной в зарубежной науке об искусстве. Вклад в интересующую нас тему отечественных церковных археологов[53 - Покровский Н.В. Очерки памятников христианского искусства [М., 1910]. СПб., 2000; Голубцов А.П. Сборник статей по Литургике и церковной археологии [Сергиев Посад, 1911]. М., 1990.] – Покровского, Голубцова, а также современных отечественных историков искусства[54 - Баталов А.Л. Московское каменное зодчество конца XVI века. Проблемы художественного мышления эпохи. М., 1996; Беляев Л. А. Христианские древности. М., 1998; Иерусалим в русской культуре / Сост. А. Баталов и А. Лидов. М., 1994; Восточно-христианский храм. Литургия и искусство / Сост. А.М. Лидов. СПб., 1994; Храм Земной и Небесный / Сб. статей под ред. Ш.М. Шукурова. М., 2003 Т. 1.; Иеротопия. Исследования сакральных пространств / Ред.-сост. А. М. Лидов. М., 2004. Общеметодологическую ценность представляет и книга: Вздорнов Г. И. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. М., 1986. Продолжение отечественной традиции церковной археологии: Пентковский, А. Византийский храм и его символическая интерпретация в I тысячелетии // Журнал Московской Патриархии. 2008. № 12. С. 58-63.] – трудно переоценить, но, к сожалению, мы вынуждены ограничиваться, так сказать, одной стороной общего дела, не забывая ни на минуту несомненную неполноту общего впечатления, которая только отчасти может быть восполнена одним из Приложений, где мы постарались, так сказать, вдогонку нанести легкий контур отечественного вклада в интересующую нас проблему…
СИМВОЛИКА ДОМА БОЖИЯ
и
АРХИТЕКТУРА ЦЕРКОВНОГО ЗДАНИЯ
Потому-то иконографическое исследование видит в трудах великих богословов уже не прямой источник художественных представлений, но одну лишь концентрацию того идейного мира, который только посредством проповеди и Литургии, легенд, гимнов и театра становился частью повседневной жизни духа.
Ханс Титце
Архитектурный символизм: истина из вторых рук
…Итак, мы допускаем, что архитектура в лице архитектурной постройки способна соотноситься с некоторым набором истин, вызывать в сознании те или иные смысловые ассоциации или просто стимулировать мыслительные процессы. Эти реакции и процессы способны обретать устойчивость и становиться традицией.
То есть, с одной стороны, мы имеем готовое здание, являющееся объектом, предметом рассматривания и рассмотрения, а с другой – столь же законченные смысловые структуры. То и другое можно связать воедино, и архитектура станет осмысленной, обретет смысл. Она будет, фактически, наделена им. Это довольно простой метод, но не совсем просты условия его реализации.
Вся проблема состоит в том, каков источник смысла, истин, каково содержание мыслей, пробужденных архитектурой. Самая простая ситуация – когда известен этот источник, он сам по себе устойчив, постоянен и, по возможности, максимально неисчерпаем. Таковым требованиям отвечает один лишь источник смысла – Откровение, теофания, которую можно, при известных обстоятельствах, зафиксировать. И это будет уже Писание, предназначенное для прочтения, для извлечения заложенного, точнее говоря, вложенного в него смысла, чье богатство и неисчерпаемость предполагают поэтому не просто чтение-ознакомление, а постижение-истолкование. В результате его могут появляться некоторые смысловые константы, обретающие статус образцов именно уразумения священного смысла. И не только понимания, и не только самого Писания, но и переноса и на смежные области знания. Писание становится образцом не просто уяснения самого себя, но и знания как такового, универсального и неисчерпаемого, и при этом – не буквального, а требующего усилий и постепенности по ходу своего выстраивания.
Мы напоминаем об этих известных религиоведческих истинах[55 - Именно религиоведческая сторона дела обсуждается в соответствующих текстах, например, Мирча Элиаде («Космос и история», 1954; «Священное и мирское», 1957 и др.), а также в фундаментальном компендиуме: Goldammer, K. Die Formenwelt des Religi?sen. Grundriss der systematischen Religionswissenschaf. Stuttgart, 1960. См. также: Scully, V. Te Earth, the Temple and the Gods. New Haven, 1962.] с целью подчеркнуть тот момент, что архитектура получает, обретает смысл, так сказать, не из первых рук. Прежде нее истину усваивают прямые читатели Писания, богословы и вообще те, кто готов совершить именно герменевтическое усилие. Архитектура не сразу, не первой и не напрямую обретает доступ к уже извлеченному и уже обработанному священному смыслу. Но есть способ преодоления косвенности этого пути познания и в то же время косности инструмента этого познания, то есть человеческого разума. Этот способ – выстроить идеальную, во всяком случае, устойчивую модель сакрального архитектурного сооружения и иметь дело только с этой моделью[56 - Наиболе величественный и убедительный опыт такого построения (из нам известных) это, несомненно, труд о. Ива Конгара: Congar, Ives M.-J., O.P. Le Myst?re du Temple. Paris, 1958.].
Тем более что практически всякая письменная теофаническая традиция знает образы идеальной архитектуры. Равным образом, как и всякая религия, более или менее развитая. Ее развитость состоит в наличии культа, устойчивых форм богопочитания, а идеальность архитектуры заключается, соответственно, в ее приспособленности к культу, в ее ритуально-инструментальных характеристиках и прямой и обязательной связи с соответствующими местами Писания, в котором, как правило, заключены и образы этой идеальной, то есть храмовой, архитектуры, и условия ее сакральной легитимности.
Именно эти образы, образцы, узаконивающие модели, нас и интересуют в данный момент, потому что мы попытаемся в этой главе описать первичный, то есть наиболее универсальный, пример обращения с архитектурным содержанием. Этот подход именуется символогическим и предполагает, как мы только что показали, прямую зависимость от священного текста и прямой путь соотнесения, точнее говоря, наделения смыслом конкретной архитектуры, которая теряет свою конкретность и становится образцом, вариантом, экземпляром идеального храмового сооружения, так сказать, вторичного, наглядного и более доступного, по сравнению с самим Писанием, вместилища смысла. Эта доступность, между прочим, подразумевает не только законность, но и законченность, то есть опять же устойчивость и образцов смысла, и образцов его толкования. Другими словами, архитектура не только связывается со структурами смысла и со структурами экзегезы, но и воплощает, конкретизирует, экземплифицирует, тематизирует, а лучше всего сказать, символизирует именно результаты герменевтических усилий, закрепленных, в свою очередь, в письменных текстах.
Поэтому первичный способ уразумения архитектурного смысла будет и самым фундаментальным, так как именно на этом основании всеобщих сакральных истин выстраивается и буквально, и переносно, все здание архитектурной семантики. Мы должны разобраться, как же возможно анализировать этот первичный символизм, а для этого необходимо знать, где его искать и в каких формах он присутствует в архитектурной теории – о практике, как следует из сказанного, речи пока идти не может[57 - Впрочем, напомним, что статусом смысла обладает весь комплекс установок, связанных с архитектурным феноменом: это и замысел, и изготовление (сооружение сооружения), и пользование архитектурой. Мы пока имеем дело именно с пользованием, причем в весьма узком и конкретном его случае использования архитектуры как вместилища смысла, как места приложения экзегетических усилий. Это «место символической силы» восприятия и толкования плодов строительного искусства.]. Причем, говоря о первичном символизме, мы имеем в виду его первичность и в смысле элементарности. Это, как мы покажем, именно самый простой символизм, и его простота связана с его независимостью от человеческого сознания, которое получает его в качестве данности. Это антропологически автономный символизм, и этим он отличается от символизма, скажем, эпистемологического, о котором необходимо говорить в связи с иконологическими подходами к архитектуре.
Символизм и церковное здание
Но первичность, элементарность не означает примитивности. Простота здесь – искомая величина, в чем мы – не без труда – попробуем убедиться на примере известнейшего и авторитетнейшего до сих пор текста, задуманного и написанного, однако, еще в начале прошедшего столетия. Без преувеличения можно сказать, что как «Основные понятия…» Генриха Вельфлина (1915) остаются до сих пор, в известной степени, основой формально-стилистического анализа, точно так же и книга Йозефа Зауэра «Символика церковного здания в восприятии Средних веков на примере Гонория Отенского, Сикарда и Дуранда» (1902)[58 - Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengeb?udes in der Aufassung des Mittelalters: mit Ber?cksichtigung von Honorius Augustodunensis, Sicardus und Durandus. Freiburg i. Br., 1902. (2. Auf. 1924). Есть репринт 1964 года.] остается до настоящего времени набором самых актуальных парадигм архитектурно-религиозной семантики[59 - Сразу – и не без удовлетворения – укажем на отечественную аналогичную традицию, до известного момента шествовавшую совершенно синхронно с немецкоязычным богословием христианского храма: Багрецов Л. Смысл символики, усвояемой свв. отцами и учителями Церкви христианскому храму. СПб.. 1910; Дмитриевский А.А. Древнееврейская синагога и ее богослужебные формы в отношении к христианскому храму и его богослужебным формам. Казань, 1910; Троицкий Н.И. Влияние космологии на иконографию византийского куполп. Тула, 1989; Его же. Христианский православный храм в его идее: опыт изъяснения символики храма в систематическом изложении. Тула, 1916. К этой традиции примыкает и заметка чуть более поздняя: Успенский Л.А. Символика храма // Журнал Московской Патриархии.1958, № 1.].
Другое дело, повторяем, что символизм в любых своих проявлениях призван служить основой и предварительным условием всех прочих семантических построений. В этом смысле сакрально окрашенный символ в пределах семантических измерений художественного произведения представляет собой несомненный эквивалент стилистически окрашенной формы внутри экспрессивно-художественных параметров того же произведения. Эта самая эквивалентность усиливается, между прочим, и схожей степенью неопределенности, многозначности как понятия символа, так и понятия формы. Добавим, что речь идет всего лишь об измерениях единого произведения, структурная целостность которого предполагает и сквозной, так сказать, изоморфизм его размерности.
Тем не менее что же нам предлагает Йозеф Зауэр, этот на самом деле выдающийся представитель немецкой церковной археологии?[60 - Обращает на себя внимание и близость годов жизни Зауэра (1872-1948) и Вельфлина (1864-1945). Во всяком случае, это одно поколение, предшествующее тому, что заявило о себе после Первой мировой войны.]
Начнем с краткой биографии нашего ученого. Родился он в 1872 году в Унцхурсте (Баден). Изучал богословие и философию, а также классическую филологию в университете Фрайбурга. Учителем его был знаменитый церковный историк и археолог Франц Ксавьер Краус, с которым Зауэра в дальнейшем связывала тесная дружба[61 - О нем у Зауэра см.: Franz Xaver Kraus // Kunstchronik, NF, 13, Nr. 15, 13.02.1902. Sp. 225-233.]. В 1898 году принял священнический сан и некоторое время служил викарием в Засбахе, после чего около двух лет изучал археологию в Риме и защитил докторскую диссертацию в 1900 году по символике средневекового церковного зодчества. Совершил научные поездки по Франции, Италии, некоторое время жил в Риме. Академическая карьера началась в 1902 году с должности приват-доцента университета Фрайбурга. В 1905 году он уже экстраординарный профессор церковной истории, но в 1911 году переходит на кафедру церковной археологии, основанную Краусом, где и становится его преемником в должности ординариуса в 1916 году, оставаясь на ней вплоть до ухода на пенсию в 1940 году (лекции же продолжал читать до самой смерти). Два раза избирался на должность декана богословского факультета и столько же раз был и ректором Фрайбургского университета[62 - Зауэр покровительствовал молодому Хайдеггеру, который как раз и сменил его фактически в 1933 году на посту ректора. Стоит заметить, что как раз в 30-е годы лекции Хайдеггера во Фрайбурге слушает молодой студент-иезуит Карл Ранер.]. Одновременно с 1909 года занимает должность хранителя церковных памятников земли Баден с титулом папского придворного прелата. Член многочисленных краеведческих объединений и комиссий по охране памятников. Помимо известнейшего тома «Символика церковного здания…» (1902, второе расширенное издание, 1924) Зауэр прославился завершающим томом (1908) задуманной Краусом «Истории христианского искусства» (очерки об искусстве Ренессанса). Известна книга Зауэра о военных потерях в области искусства в Первую мировую войну[63 - Die Zerst?rung von Kirchen und Kunstdenkm?lern an der Westfront. Freiburg i. Br., 1917. На ту же тему, но после уже Второй мировой войны см.: Kriegssch?den an alter Kunst in S?dbaden // Phoebus, 2 (1949). S. 132-135.]. Общее число публикаций Зауэра превышает 1000 наименований, среди которых огромное количество рецензий, заметок, иконографических очерков, а также статей (более 300) в различных католических энциклопедиях и справочниках[64 - Kirchliches Handlexikon. M?nchen, 1907; Catholic Encyclopedia. New York, 1907; Lexikon f?r Teologie und Kirche. Freiburg i. Br., 1930.]. В том числе, цикл очерков о раннехристианском[65 - Altchristliche Baukunst // Wasmuths Lexikon der Baukunst. Berlin, 1929. Bd. 1. Sp. 98-106.], романском зодчестве[66 - Romanische Baukunst // Wasmuths Lexikon der Baukunst. Berlin, 1932. Bd. 4. Sp. 214-220.], о церковной архитектуре XIX века[67 - Die kirchliche Kunst der ersten H?lfe des 19. Jahrhunderts in Baden (Fortsetzung) // Freiburger Di?zesan-Archiv, 58, NF 31 (1931). S. 243-518; Die kirchliche Kunst der ersten H?lfe des 19. Jahrhunderts in Baden (Schlu?) // Freiburger Di?zesan-Archiv, 59, NF 32 (1931). S. 47-238.].
Первоначальные занятия средневековым искусством Верхнего Рейна[68 - См. его книги: Die Anf?nge des Christentums und der Kirche in Baden. Heidelberg, 1911; Reformation und Kunst im Bereich des heutigen Badens. Freiburg i. Br., 1918; Alt-Freiburg. Augsburg, 1928; Die kirchliche Kunst der ersten H?lfe des 19. Jahrhunderts in Baden. Freiburg i. Br., 1933.] сменяются в конце 20-х годов, после поездки по Ближнему Востоку, устойчивым интересом к восточно-христианскому искусству[69 - См., например: Die christlichen Denkm?ler im Gotengebiet der Krim // Oriens Christianus, 3. Ser. 7 (= 29) (1932). S. 188-202.]. Зауэр известен был своими либеральными взглядами и поддержкой (в многочисленных газетных и журнальных публикациях, по большей части анонимных) т.н. «модернистского движения» внутри Католической церкви[70 - См. об этом, в частности: Loome, Tomas Michael. J. Sauer – Modernist? // R?mische Quartalschrif, 68 (1973). S. 207-220.]. Умер Зауэр в 1947 году во Фрайбурге[71 - Некоторые другие важнейшие публикации: Reformation und Kunst im Bereich des heutigen Baden / FreibDi?zArch, 19, 1919, S. 323-506; Dantes Bedeutung f?r die Kunst // 2. Vereinsschrif der G?rresgesellschaf f?r 1921), 1921; Die altchristliche Elfenbeinplastik // Bibliothek der Kunstgeschichte. 38, 1922; Neues Licht auf dem Gebiet der christlichen Arch?ologie. Rede in der Freiburger Wissenschaflichen Gesellschaf, 1925; Wesen und Wollen der christlichen Kunst. Rektoratsrede, 1926; Alt-Freiburg, 1928; Der Nordafrikanische Kirchenbau im Zeitalter Augustins // Martin Grabmann / Joseph Mausbach (Hrsg.), Aurelius Augustinus. Festschrif der G?rresgesellschaf zum 1500. Jubil?um des Todestages Augustins, 1930, S. 243-300; Orient und christliche Kunst. Rektoratsrede 1933; Die kirchliche Kunst der ersten H?lfe des 19. Jahrhunderts in Baden, 1933. Из последних публикаций о Зауэре см.: Hausberger, Karl. Sauer, Joseph // Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon. Bd. 8 (1994), Sp. 1419-1422; Arnold, Claus. Katholizismus als Kulturmacht. Der Freiburger Teologe Joseph Sauer und das Erbe des Franz Xaver Kraus (Ver?fentlichungen der Kommission f?r Zeitgeschichte, Reihe B, Bd. 86). Paderborn, 1999.].
Сразу заметим, что интересующая нас книга являет собой крайне характерный и, вероятно, итоговый пример той самой традиции церковной символогии, которая была и оставалась практически непрерывной и неизменной вплоть до написания книги самим Зауэром. Имена тех средневековых схоластов (о них – чуть позднее), которых упоминает на страницах своей книги Зауэр, вполне можно дополнить его собственным именем. Можно сказать, что в этом и состоит специфика как раз церковной археологии как части церковной истории – в отсутствии пауз и лакун как когнитивного, так и концептуального порядка. Но тем не менее, именно его книга – завершение подобной традиции в одном очень важном аспекте, и выяснение причин этого как раз и будет одной из целей нашего анализа.
Но сначала – о структуре книги и об общих свойствах данного текста. В Предисловии автор обозначает свое намерение как «желание предложить всеобъемлющее и систематическое изложение духовного взгляда на церковное здание и его убранство». Зауэр видит в этом «более глубоком восприятии и изъяснении» плод «аллегорической экзегезы» отцов Древней Церкви, перенесенной на почву англогерманской культуры Бедой и каролингскими богословами, освобожденной от задач прямого изложения текста Писания и превращенной в составную часть литургической литературы и в качестве таковой достигшей своего совершенства у писателей XII-XIII веков. Именно в это время само церковное здание превратилось в «ясное и отчетливое зеркало, отражающее величественное и всеохватное мировое Царство Церкви»[72 - Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengeb?udes… S. VII. Сразу обратим внимание на мотив зеркала, который мы встретим у Эмиля Маля (см. след. главу).].
Для Зауэра крайне принципиально то, что вся эта символическая и, казалась бы, архитектурно-строительная традиция на самом деле имеет чисто литературное происхождение и только приспособлена к созерцанию церковного здания. Поэтому предмет изыскания Зауэра – «литературная церковная символика» и ее взаимоотношения с искусством. Отдельное понятие или идея подобной церковной символики представляет собой «воистину всеобщее достояние» средневекового человечества, «лучше сказать, средневековой литературы», и задача книги – показать, как подобная символика репрезентирует основные идеи этой системы представлений. Отдельный «символический мотив» мог вдохновлять отдельного автора, но в большинстве случаев «мы приблизимся к истине», если допустим, что и художники творили, отталкиваясь от того же самого представления, что выражал в своих текстах тот или иной автор[73 - Ibid. S. VIII.].
Итак, сразу делаем важные наблюдения: для Зауэра есть «мир представлений», выражающий себя в виде идей и понятий, находящих свое выражение в текстах в форме «символических мотивов» и стимулирующих и вдохновение, и воображение, и мышление тех, кто создает новые произведения. Это одинаково справедливо как для литератора-богослова, так и для художника-архитектора. Вот уже одна причина, зачем необходимо изучать именно символические тексты: это ключ к пониманию художественной деятельности во всех ее формах.
Но у средневековой архитектурной символики есть еще одно свойство, достойное ученого внимания. «Символические понятия» приведены в систему и соединены в величественный организм, которым, говорит Зауэр, мы можем только восхищаться, настолько он приспособлен к тому, чтобы расти и развиваться в разных направлениях, так, чтобы в результате служить уже совсем иным целям, притом что подобные понятия были предметом изысканий уже отцов Древней Церкви. То есть эти символогические трансформации имеют и историческое, временное протяжение. Символы обладают своей «генеалогией», по выражению Зауэра.
Сразу заметим, что речь идет именно о «символогических понятиях», о результатах усилий ученых-символистов, то есть это не просто вербальные или визуальные символы как таковые, а их рационально-текстуальные производные, которые фактически обладают собственной историей – с момента зарождения до полного и исчерпывающего развертывания в каком-либо позднем тексте[74 - Зауэр специально оговаривает границы своего труда, исключающие как детализированное прослеживание истоков какого-либо символического мотива или темы, так, между прочим, и «историко-археологическую сторону Дома Божия». Последний аспект рассматривается только в той мере, в какой это позволяет понять символику. Обращаем внимание, что собственно художественная сторона дела для Зауэра тоже имеет свою отдельную историю, лишь по касательной сопрягающуюся с историей символогической (Ibid. S. IX).]. Тем более интересна конечная задача, которую ставит Зауэр в своей книге: это как раз демонстрация того несомненного для него факта, что «концентрация и практическое применение церковной символики» – это «образное убранство» Дома Божия. Причем интересно, что для Зауэра местом подобной «концентрации» является портал готического собора. Именно здесь можно найти «квинтэссенцию того, что все здание и целиком, и каждой из своих деталей могло сообщить средневековому человеку». Причем речь идет вовсе не о том, чтобы искать «теологического инспиратора» (богослова – автора программы) и рассматривать образы как иллюстрации соответствующих богословских или литургических истин. Поэтому Зауэр подчеркивает, вполне логично, что для его книги не нужно обилие иллюстраций, так как он отнюдь не преследует цель «рабского перевода символических понятий в художественные типы»[75 - Ibid. S. X.]. Сразу вспоминается, что первое (да и второе![76 - От книги Зауэра это издание отделяет ровно 300 лет. Второе издание книги Зауэра приходится на 1924 год (при том, что Рипа умер в 1623, а расширенное издание его «Иконологии» увидело свет в 1625). Хочется думать, что симвология, пускай и книжная, не знает случайностей.]) издание «Иконологии» Чезаре Рипы тоже обходилось без иллюстраций[77 - Конечно же, вспоминается Аби Варбург, который в конце жизни предпочел обходиться, наоборот, без текста, составляя свой знаменитый атлас «Мнемозина»… (Последнее изд. см.: Warburg, Aby. Der Bilderatlas Mnemosyne. Hrsg. von M. Warnke. Berlin, 2003). Но об иконологии в новом ключе будет сказано в другом месте.]. Но симвология – это не иконология даже в барочном смысле этого слова, не говоря уже о смысле варбурговском или кассиреровском. Зауэр вслед за всеми своими предшественниками выстраивает совсем иное смысловое и концептуальное здание. Попробуем в него заглянуть, тоже осмотрев его прежде снаружи, с точки зрения его содержания-оглавления, которое, впрочем, отражает и план книги. В этом-то, между прочим, заключается разница между текстуальным и архитектурным сооружением: у последнего план скрыт как раз за внешним обликом. Если не брать Введения (хотя оно, как мы убедимся, крайне содержательно), то план книги – это две части: первая – собственно «Символика церковного здания и его убранства, согласно средневековой литературе» (название, почти дословно повторяющее, между прочим, название книги целиком), вторая – «Взаимоотношение церковной символики и изобразительного искусства».
План-содержание, как видим, довольно прост, но в этой простоте – все та же смысловая «концентрация»: выстроенное литературное и символическое здание соотносится со зданием материальным, причем в его одном-единственном – визуально-изобразительном – аспекте[78 - Небесполезен и анализ пропорций данного «здания»: вторая часть – лишь четверть всего «сооружения» и заключает в себе ровно два Введения. Фактически, это Заключение, тем более, что резюме составляет всего несколько страниц.]. Фактически, мы имеем весьма специфическую и парадоксальную ситуацию: архитектура оказывается декорацией символических построений, которые вполне могут обойтись без нее, как книга ученого археолога-богослова – без иллюстраций…
Но не будем торопиться с итоговыми наблюдениями и начнем с Введения, без которого обойтись невозможно, ибо это – если не отдельное концептуальное сооружение, не особая методологическая пристройка к основному зданию, то, во всяком случае, настоящий теоретический «портал», действительно вводящий нас с достаточной торжественностью внутрь всей проблематики.
Символический типологизм, или Средневековье внутри нас
На самом деле замысел книги совсем не прост, что видно с первых строк Введения, напоминающих о том, что углубление в Средневековье означает столкновение с чем-то совершенно иным, непостижимым. Мы утратили способность думать и чувствовать по-средневековому, и достижения Средних веков – неразрешимые и чуждые загадки. Единственный выход – обнаружение тех «конститутивных элементов» уже нашей культуры, принадлежащей Новому времени, которые мы наследуем как раз от этого далекого времени. И выясняется, что только в одном оно оказывается совершенно не чуждым нам. Это широкое использование символики не только в религиозной, но и в общественной сфере. Оценивая так или иначе Средние века, мы исключаем из оценки как раз область символов, ибо они фактически вне времени и указывают на нечто такое, что равным образом принадлежит всякому историческому периоду, хотя лучше сказать, что всякий период и вся история целиком принадлежат этой сфере вечного. Более того, на символике особым образом выстраивается именно христианство, и в первую очередь – Литургия…
Но как определяется у Зауэра символ? Это есть «не что иное, как образ, предназначенный для воспроизведения мысли или факта, которые не следуют непосредственно из понятия этого образа»[79 - Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengeb?udes… S. 2.]. Если, говорит Зауэр, содержание религии принадлежит сверхприродному мироустройству, и если человеку не дано самостоятельно, одними своими силами проникнуть в ту самую сферу, то ее тайны приближаются к нему лишь в естественно воспринимаемых обличьях. Видимые вещи становятся образами и сравнениями вещей невидимых. То, что предстоит нашему взору, призвано напоминать нам о таком, что не принадлежит настоящему и чего нет в наличии. Именно христианство с невиданной до сей поры определенностью переносит все цели человека по ту сторону гроба, в область вечности, утверждая все его дела и достижения лишь как подготовку для жизни в мире, не доступном чувственному взору и в равной степени свободном от времени и пространства. Фактически само христианство предстает своего рода «апробацией» всей подобной, так сказать, трансцендирующей символики: если мир иной приближается к нам благодаря подобным «внешним знакам внутреннего сверхъестественного действия», то, значит, символ исполняет свою роль. Другими словами, такого рода символика не есть чисто литературный и чисто концептуальный род деятельности, это прежде всего средство воспоминания, но в той мере, насколько сам Христос есть путь к будущей жизни, настолько эти «знаки воспоминания» усваивают и характер знаков-образцов, и санкция на их употребление выписывается церковным учением и церковной практикой.
Так что у символики есть более глубокое основание, чем символизм литературный и тем более изобразительный. Момент воспоминания отсылает нас к Литургии – «главной и самой прочной ветви символической деятельности и символического учения». Если изобразительный символизм с точки зрения, например, раннего христианства есть не что иное, как средство сокрытия тайны от непосвященных[80 - Иначе говоря, Зауэр придерживается традиционной для церковной археологии XIX века теории происхождения христианского символизма из disciplina arcana. Об этом, в частности, см: Wilpert, Joseph. Prinzipienfragen der christlichen Arch?ologie. Freiburg i. Br., 1889.], то есть своего рода «фигура умолчания», то символизм литургический оказывается не просто более емким, но рассчитанным «на все времена». На этом величественном языке, озвученном, как выражается Зауэр, Самим Основателем христианства, передается само христианское учение, весь круг мыслей, идей и представлений о наиболее фундаментальных, универсальных и вневременных вещах. Это и собственно евангельское событие, связанное с Искупительной Жертвой (благодаря литургическому символизму мы можем переживать эту «кровавую драму» во всех деталях). Это и символизм собственно Голгофы – «важнейшей вехи в духовно-сверхприродной жизни человечества», связанной с «падением и воздвижением отдельной души в ее борьбе за собственное обожение». То есть мы имеем в Литургии, по выражению Зауэра, «трехчастный символизм»: это и Сам Христос, «срединная точка и цель всех времен», и Царство Божие на Земле, и задачи отдельной личности в пределах этого Царства[81 - Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengeb?udes… S. 3-4.].
Иначе говоря, обозначенная в начале книги проблема непознаваемости ушедшей исторической эпохи разрешается именно средствами сакрального и, подчеркиваем, обрядового символизма, который оказывается основанием всех прочих разновидностей символической деятельности. Фактически, символизм – это не только богослужебный способ распространения церковного учения, но и средство, инструмент хранения, передачи и воспроизведения в акте понимания того или иного содержания. И потому это не только догматически-богословская и ветхо– и новозаветная тематика, но и содержание мыслей, чувств и переживаний всех пользователей этого символизма независимо от исторического времени.
Но самое замечательное, что за этим стоит вполне определенное отношение к архитектуре, точнее говоря, этим подразумевается очень определенная и неустранимая функция архитектуры, ибо Литургия совершается в определенном месте, и сакральные места, подобно сакральному времени, пронизаны, пропитаны, как говорит Зауэр, символическими идеями, ведь они сами обозначают участие в Таинстве и, значит, приобщение к его символизму.
При этом следует помнить, что это не есть символизм самой постройки, обозначающей Дом Божий. Доказательство тому – раннехристианская практика использования частных или светских пространств для совершения Евхаристии, которая только и наделяет данное место и сакральностью вообще, и сакральным символизмом в частности. Другое дело, что существуют вполне определенные требования к пространству со стороны самого богослужения. И удовлетворение этих требований происходило через поиск отношений и «таинственных связующих нитей» между целями Дома Божия и его устройством и убранством. Только когда эти связи установлены (Geltung), можно говорить о влиянии на облик сооружения (Gestaltung), на устроение (Einrichtung) и украшение Дома Божия. То есть приспособление к потребностям предполагает прояснение и возвышение посредством символического толкования[82 - То есть, обоснование сакральной архитектуры у Зауэра – функционально, и потому можно говорить о, так сказать, функционально-литургических символах.].
И с этим процессом мы сталкиваемся уже в самых ранних памятниках христианской словесности, например в т.н. «Завещании… Иисуса Христа» (II век), где говорится, в частности, что церковь должна быть снабжена тремя входами по образу Св. Троицы. Александрийская школа экзегетики в лице Климента и Оригена обеспечила символическим материалом всю последующую традицию толкования вплоть до зрелого Средневековья[83 - Имена, составляющие этот достойный ряд, вполне известны: это и Августин, и Григорий Великий, и Исидор Севильский, и Беда Достопочтенный, если брать лишь начало традиции (Ibid. S. 4-5).]. Церковное здание, согласно этой явно неоплатонической традиции, есть образ и образец того здания, что созиждется Самим Христом на твердом основании, на камне веры и т. д. Любая церковь есть поэтому и образ Небесного Иерусалима.
Принципиальный момент этой «археологической экзегетики», как выражается Зауэр, – потребность осмысления и истолкования и ветхозаветного, то есть типологического, прообразовательного материала в виде всевозможных упоминаний разнообразных «культовых мест». Смысл подобного углубления в Ветхий Завет очевиден уже у Беды: это желание найти историческую и первичную, то есть именно Божественную, санкцию церковного здания, что «гарантирует глубинное его понимание». И хотя в этих ранних текстах отсутствует «планомерная символизация» церковного здания, тем не менее в них присутствует в полном объеме вся символическая типология, позволяющая рассматривать христианское церковное здание как реализацию, осуществление ветхозаветных типов, которые суть, соответственно, Райский сад, Ноев ковчег, Скиния Завета, Храм Соломона. Одновременно церковное здание – предвосхищение Civitas sancta, Небесного Града, который созерцал Иоанн Богослов в своем Откровении. Церковное здание – это образ «духовной церкви», того незримого ковчега, на котором «по волнам временной жизни сонм верующих, искупленных крестным древом Спасителя, устремлен к тому духовному Храму, что составлен из камней живых…»[84 - Ibid.].
Еще одна принципиальная черта этой экзегетики – смешение «материального и духовного», то есть совмещение, казалось бы, несовместимых вещей, чье единство, тем не менее, обеспечивает усилия знаменитого «четырехчастного толкования», восходящего к еще дохристианским временам. Но только в IX веке усилиями Рабана Мавра эта традиция переживает свой расцвет, причем именно в литургических текстах. Именно этот ранний представитель схоластики впервые в экзегезе начинает учитывать непосредственно особенности тех вещей, которые подвергаются символизации, создавая практически законченный репертуар аллегорически-типологических толкований, в котором отсутствует только одно – толкование конкретных литургических предметов. Этим занято уже последующее поколение литургистов в лице Амалария из Метца и Валафрида Страбона, чья деятельность непосредственно связана, по мнению Зауэра[85 - Ibid. S. 7.], с потребностями проповеди Евангелия у северных народов, нуждавшихся в осмыслении уже сложившейся к тому времени христианской богослужебной практики. Зауэр особенно выделяет из многочисленного сонма писателей X-XI веков именно Амалария, подчеркивая его влияние на литературу даже позднего Средневековья, благодаря, в первую очередь, его энциклопедизму, выразившемуся, в том числе, и в использовании тогдашней «естественнонаучной» литературы в лице символических бестиариев, лапидариев и гербариев.
Но с XII века начинается принципиально новый период в истории экзегетики, «расцвет искусства толкования», связанный со стремлением к систематическому изложению материала, с желанием учитывать мельчайшие нюансы как предметного, так и смыслового порядка и, конечно же, с отказом от исключительно типологического, ретроспективного подхода. Теперь предметом созерцания и истолкования становятся назначение и свойства самих вещей в их соотнесении с «идейно-литургическим содержанием», что выразилось в складывании символики, «уже не так тесно связанной с аллегорической экзегезой»[86 - Ibid. S. 9.]. Цель прежней экзегезы – средствами «мистически-тропологической интерпретации» создать внутри храма, понятого как Дом Божий, «образ освященного бытия», предназначенного для отдельного человека. С XII века к этому «символическому проекту» добавляется желание не только описывать и воссоздавать круг символических идей, но и находить новое, истолковывая заново храм как целое, руководствуясь некой ведущей идеей. И поэтому образ Церкви, имеющей свое начало в Раю, а завершение – в вечности, оказывается отныне необходимым обрамлением для всевозможных связей, часто глубокомысленных и удивительных, нередко наивных и произвольных, для которых «места культа» – это воплощение подобной «всеобщей композиции христианства»[87 - Так и хочется вспомнить в связи с этим выражением понятие Gesamtkunstwerk’а формально-стилистической истории искусства, что вполне резонно, если допустить (как сделает это спустя полвека после Йозефа Зауэра Ханс Зедльмайр), что за структурами формальными скрываются структуры если не моральные, то уж точно символические.]. Святая Месса и годовые евангельские чтения – это всегда один и тот же образ одних и тех же идей, но рассмотренных с разных сторон[88 - То есть, выражаясь опять-таки аллегорически, можно сказать, что вместо символической мозаики ранних литургических текстов мы теперь имеем своего рода кристаллический образ-многогранник, заключающий в себя свет Евангелия, преломленного в Евхаристии, и отражающий его по направлению к церковному разуму.]. И такого рода рассмотрение осуществляет один единый «систематизирующий дух Высокого Средневековья, универсальное мышление которого несравнимо ни с каким иным временем человеческой истории». И этот же самый дух воздвиг подобное умное здание из краеугольных камней прошлых эпох, обогащающих духовные масштабы отдельного индивидуума»[89 - Ibid. S. 10.]. Это здание церковного знания и веры сооружается и в светской, и в богословской литературе, в литургических текстах, комментирующих Мессу, а также в проповедях и богослужебных гимнах. И все это для того, чтобы, явив Дом Божий в камне и красках, сделать его доступным взору верующего христианина. При этом «от индивидуального дарования тех или иных авторов зависит, предложат ли они этот образ окрашенным в мистические цвета, присущие действию всецелого домостроительства спасения, или дадут его в более или менее аллегорически-символическом ключе». Это и есть два основных потока средневековой символики, причем мистика более свойственна ее поздней фазе. Но среди великих представителей этой литургически-символической экзегезы[90 - Среди мистиков выделяются Руперт из Дейца, Бонавентура, среди проповедников – Бернар Клервосский, среди систематиков – Альберт Великий, и особенно папа Иннокентий III.] Зауэр выделяет троих – Гонория Отенского, Сикарда и Дуранда, на текстах которых он и намерен строить здание собственного сочинения[91 - Дело в том, что эти три фигуры Зауэр связывает последовательным влиянием, имея в виду в конечном счете именно Дуранда, признавая его и доныне непреходящей величиной на небосклоне литургического богословия.].
В связи с этим следующая – самая обширная – глава Введения посвящена историко-филологической характеристике (а заодно и биографиям) названных богословов и их текстов, что еще раз подчеркивает специфически текстологический пафос труда нашего ученого иезуита. Будучи всего лишь историками искусства, выделим из этой главы только те моменты, что касаются концептуально-методологических вещей[92 - Хотя некоторые чисто исторические вопросы кажутся нам и поучительными, и небесполезными в связи с дальнейшим изложением. Мы имеем в виду, конечно же, полемику вокруг Гонория из Аугустодуна, более известного как Гонорий Отенский, хотя именно в его происхождении и, соответственно, национальности можно сомневаться до бесконечности. Естественно, Зауэр уверен в его немецких корнях, не без иронии поминая мнение «французских бенедиктинцев», к которым, впрочем, следует причислить и Эмиля Маля (Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengeb?udes… S. 12-13).].
Символическая текстология в лицах
Первым в эту ряду стоит уже упоминавшийся Гонорий, годы жизни и трудов которого Зауэр относит к первой половине XII века, называя его «истинным сыном своего времени, компилятором наипервейшего ранга», помещая его рядом с чуть более поздним Винсентом из Бовэ и замечая, что не найдется области знания, которую бы он, по его собственным словам, «не осветил ради собратьев своих, от нужды книжной страждущих»[93 - Ibid. S. 16.]. Из литургически-гомилетических сочинений Гонория выделяются крайне популярная «Gemma animae», ее сокращенная версия «Sacramentarium» и, конечно же, знаменитое «Speculum ecclesiae», «Зерцало церковное», ставшее, между прочим, одним из источников вдохновения, как мы постараемся показать, и для текстов Эмиля Маля[94 - Стоит обратить внимание, что Маль использует этот текст не только в силу его жанра «зерцала», но и по той причине, что это именно проповедническая литература. Как мы убедимся в главе, посвященной этому великому французскому иконографу, момент непосредственного воздействия на слушателя будет для него крайне важным. Зауэр же практически не учитывает это свойство данного текста: он не иконограф, его задачи – вне проблематики собственно изобразительного искусства, вне художественной экспрессии и способности формы воздействовать на зрителя, подобно тому как проповедник воздействует на слушателя.].
«Зерцало» представляет собой не что иное, как сборник воскресных и праздничных проповедей, предназначенных для некнижных и просто малоспособных клириков, вынужденных, тем не менее, проповедовать. Причем подаются проповеди в сопровождении всевозможных дополнительных и полезных для слушателей сведений на самые животрепещущие темы (что делать, например, с нежданными гостями или яростно рыдающим ребенком). И все это облечено в жанр рифмованной прозы для лучшего запоминания…
Проблема Гонория заключается в несоответствии явной вторичности и компилятивности его трудов – крайней степени их популярности и влиятельности. Причем самое существенное, что это влияние сказывается, в том числе, и в области изобразительного искусства, на что первым указал еще Антон Шпрингер[95 - Имеется в виду его эпохальная заметка «Об источниках средневековых образов» (1879): Springer, Anton. ?ber die Quellen der Kunstdarstellung im Mittelalter // Sitzungsberichte der S?chsischen Akademie der Wissenschaf, 1879. См. также: Springer, Anton. Ikonographische Studien // Mitteilungen der k. u. k. Zentralkomission f. Denkmalpfege, V. Wien, 1860.], несколько переоценив значение Гонория для распознавания смысла средневековых «загадок в камне и красках». Тот же Маль, по мнению Зауэра, пошел еще дальше, представив тексты Гонория как ключ, отмыкающий смысл большинства средневековых (готических) сооружений. Но тот же Шпрингер инстинктивно поставил труды Гонория на подобающее им место, заметив, что они отражают уровень среднеобразованных читателей и почитателей Гонория, а соответственно, и их «круг представлений», будораживших, в свою очередь, тогдашнее «народное чувство» и воплощавшихся в художественных образах того времени.
Для Зауэра же важен сам факт влияния Гонория на символику церковного здания. Это свидетельствует, по мнению Зауэра, о том, что перед нами не гений-одиночка, утративший связь с духом времени, и не знакомый с той атмосферой, в которой только и могли существовать всеобщие символы литературы и искусства, а человек, сохранивший под ногами почву своей эпохи и своего народа и со всем возможным «монашеским тщанием» создавший именно популярный, общедоступный труд. Хотя главные его достоинства заключены в другом: Гонорий расширил пространство типологической аллегории, но не в сторону, например, противопоставления ветхо– и новозаветной истории; он рассмотрел Священную историю целиком, и в непрерывном развитии Церкви Христовой, самый истинный образ, подлинное и жизненное содержание которой – Божия Матерь (мысль, знакомая еще раннехристианской гимнографии и вскоре ставшая общепринятой, но впервые столь четко сформулированная именно Гонорием).
И наконец, самое существенное, что тексты Гонория были предназначены для практического употребления, что означает возможное влияние их и на практику строительную[96 - Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengeb?udes… S. 21-22. Зауэр, между прочим, подчеркивает, что сам Гонорий совершенно не стремился к какому-нибудь влиянию, тем более среди широких масс.].
Сикард, епископ Кремоны, известный церковный и политический деятель (умер в 1215 г.) – следующий важнейший источник храмовой символики. Его жизнь весьма богата событиями: в частности, он совершил несколько поездок на Восток (был в Сирии, Киликийской Армении, может быть, в Палестине и, конечно же, в Константинополе, только что занятом крестоносцами; здесь Сикард налаживал совместное литургическое общение и даже служил в Св. Софии, участвуя в рукоположении священников). Зауэр характеризует его как «мужа, одаренного широким кругозором». Ему принадлежит авторство «Mitrale seu de ofcies ecclesiastices summa» – своеобразного литургического руководства для духовных лиц, с акцентом не на изложении церковных обычаев, а на углубленной интерпретации их духовного содержания. То же самое мы можем сказать, между прочим, и о самом Зауэре, но с одним уточнением: его интересует интерпретация не самой богослужебной, а именно экзегетической практики, не Литургии, но Литургики.
Именно Сикард впервые вводит ставшее вскоре привычным подразделение литургического материала на четыре темы: 1) священные места; 2) священные лица; 3) священные вещи (res sacrae); 4) священные времена (в двух аспектах: канонические молитвенные чтения часов и церковный календарь с соответствующими праздниками)[97 - Зауэр замечает, что это деление уже встречается у Варрона применительно к языческим мистериям и развивается Бл. Августином (Ibid. S. 24-25).]. Другими словами, перед нами совершенно точная смысловая структура храма как такового, где священное пространство соединяется со священным временем посредством богослужебных актов. В сравнении с Гонорием у Сикарда куда больше всякого рода этимологических и исторических экскурсов, есть отсылки к практике восточного христианства, но нет вовсе какого-либо упоминания роли образа и темы Богоматери в экклезиологической символике. Наконец, самая характерная черта – сильнейшие моралистические интонации не столько литургиста, сколько проповедника.
Но величайший из литургистов, оцененный, правда, именно в таком качестве посмертно (при жизни он славился как канонист), – это, несомненно, Дуранд, чей «Rationale…» представляет собой «самый законченный синтез всего того, что Средние века о Литургии знали и чувствовали»[98 - Ibid. S. 28-29. Зауэр замечает, правда, относительно его канонических текстов, что его популярность в конце концов одолела даже строгую науку.]. Его богатая на события жизнь была наполнена и напряженным литературным творчеством, главный плод которого – авторитетное до начала XX века «Speculum iudiciale», которому Дуранд обязан титулом Speculator’а. Могила Дуранда (ум. 1296), между прочим, находится в римской церкви Санта Мария сопра Минерва[99 - Об убранстве его гробницы см. достаточно подробный рассказ в главе, посвященной концепции С. Синдинг-Ларсена.].
Главный же литургический текст Дуранда – это «Rationale seu euchiridion divinorum ofciorum», законченный в 1286 году. О популярности «Рационала» говорит тот факт, что это первая после Псалтири книга, напечатанная Гутенбергом после изобретения книгопечатания (всего она выдержала более 60 изданий вплоть до XVIII века). Если говорить о главной цели труда Дуранда, то следует, в первую очередь, иметь в виду желание приблизиться в своих аллегорически-символических комментариях Литургии к той самой Церкви, которая и есть Царство Божие на земле, Мистическое Тело, образованное отдельными верующими. Ни один предмет не должен быть забыт, каждый должен быть поставлен в связь со Христом, Главой Церкви, чье материальное воплощение – церковное здание, Дом Божий. Если тема труда Сикарда – Церковь и Христос, то про Дуранда можно сказать, что это Церковь как Тело Христово. Это сердцевина и мыслей автора «Рационала», и всей тогдашней символики, и всего средневекового мировоззрения, замечает Зауэр. Христос открывается только в единстве с Церковью как продолжении и осуществлении Его спасительных трудов.
И если мы усматриваем в труде Дуранда «всецелый мир средневековой культуры», то естественно, что этот труд не мог быть результатом его индивидуального усилия. Дуранд сам себя сравнивает с пчелой, собиравшей мед как с многочисленных трудов иных авторов, так и с того, что милость Божия явила именно ему. Следует обратить внимание, что за подобным «творческим методом» скрывается не только определенный менталитет (Зауэр в другой связи называет его «литературным коммунизмом»), но и универсальный принцип канонического мышления, связанного отношениями образца и подражания. На том же самом принципе построена и вся средневековая изобразительная иконография, концептуально-литературный эквивалент которой – тексты, подобные «Рационалу», где действуют не только символичность, но и своеобразная иконографичность, более того – иконичность, но на несколько ином – высшем уровне, где все имеет характер сакральной и мистической реальности, требующей своего рационально-символического усвоения посредством создания своеобразной вербально-текстуальной ткани, сплетенной как из нитей непосредственного литургического опыта, так и из опыта знакомства с текстами иных личностей.
То же самое мы наблюдаем и в случае самого Зауэра: не случайно после тщательного изложения жизни и творчества авторов, представляющих, так сказать, первоисточники, следует не менее подробная историография: это уже, так сказать, извод исходных иконографических символических схем и, фактически, уровень научной иконографичности. А символика научных текстов – это уже, вероятно, наша забота.
Но в любом случае остается не совсем ясна судьба собственно архитектуры, ради которой все и затевалось…
Тем не менее на непродолжительное время остановимся на историографической части, ведь именно в ней, как и полагается, Зауэр со всей определенностью формулирует свои собственные цели и задачи, которые, как мы убедимся, и спустя сто лет не кажутся слишком устаревшими.
Фактически, «литература о средневековой символике церковного здания» начинается с того момента, как заканчивается сама традиция этой самой символики, то есть с XIV века, когда приходит конец средневековому символическому мышлению. Зауэр прямо подчеркивает, что условие существования символики – «конвенциональное мышление», основанное на традиции. Стремление к самостоятельному мышлению и чувствованию приводит к тому, что «скоро старые конвенциональные формы перестали замечать и понимать»[100 - Ibid. S. 38.]. И если XV-XVI века – время символического бесплодия, то XVII-XVIII века – время холодного равнодушия и непонимания[101 - Зауэр как истинный представитель «Общества Иисуса» не упускает возможности выпустить несколько критических стрел в адрес бенедектинцев-мавристов во главе со знаменитым Монфоконом, действительно считавшим, что готические постройки относятся к меровингскому времени. См. гланый труд последнего: Montfaucon. Monuments de la monarchie fran?aise. Paris, 1729-33. 5 vols. folio.]. Лишь XIX век обнаруживает интерес к средневековому мышлению, и возникают первые опыты описания, систематизации и осмысления символической традиции[102 - Зауэр с искренней благодарностью упоминает исследования Кайе и Мартана, Монталамбера, Рио, Озанама, дома Питры, графа де Бастара, Фелисии д’Аизак и того же Дидрона, чьи труды, впрочем, страдают одним общим недостатком: отсутствием всякой попытки углубиться в «величественные взаимосвязи средневекового мышления». Единственный подлинный систематик из этого ряда – аббат Обер, который со своим «усердием пчелы», казалось бы, окончательно исчерпал всю проблематику. Но не тут-то было: является Эмиль Маль, для которого, между прочим, вся вышеперечисленная традиция кажется менее достойной благосклонного внимания. См., например: Cahier and Martin. Melanges d'archiologu, d'histoire et de litterature. Paris, 1847-56. 4 vols; Bastard (Cte. de), Еtudes de symbolique chrеtienne. Paris, 1861; D'Ayzac (Mme. F.), Les Statues du porche septentrional de Chartres, and the sequel Quatre animaux mystiques. Paris, 1849; Didron, N.-A. L’iconographie chritienne. Histoire de Dieu. Paris, 1844.].
С Эмиля Маля начинается новая страница в историографической традиции: он впервые попытался расширить и развить теорию Виолле-ле-Дюка о «мирском искусстве» Средних веков, соединив ее с тогдашним литургическим богословием[103 - Отдельно добрых слов удостаивается у Зауэра Гюйсманс со своим «Собором», появившимся в том же 1898 году (Huysmans, J.-K. Le Cathеdral. Paris, 1898).]. В Германии научно-систематизирующая традиция церковной археологии достигает своего апогея в трудах Фердинанда Пипера с его «Введением в монументальное богословие» (1867). После этого, по мнению Зауэра, наступает время Антона Шпрингера, обозначившего новое направление исследований.
Интересно проследить, как Зауэр описывает эти перемены. Прежде довольствовались просто поиском комментариев в вещах литературных на вещи изобразительные. Кайе ввел практику сбора всех возможных (и невозможных) литературных и культурных свидетельств на данное произведение безотносительно ко времени, стадии развития и происхождению этих литературных, мифологических и прочих источников. Именно подобное желание перелопачивать «всю северную мифологию ради романских гротесков» вызвало негативную реакцию Шпрингера, в своих известных «Иконографических исследованиях» (1860) обратившего внимание на то обстоятельство, что существует «живая взаимосвязь между искусством и культурными воззрениями того или иного времени». Шпрингер предложил самым непосредственным образом отделять то, что в произведении искусства прошлого принадлежит более раннему времени и служит в данный момент чисто декоративным целям, от того, что непосредственно репрезентирует конкретное представление. То, чего не было в сознании народа, не могло быть и в искусстве. Развитие тех или иных представлений имеет следствием перемены в художественных типах. Подобные явные гегельянские положения шпрингеровской теории нашли себе практическое воплощение, по мысли Зауэра, во всех последующих иконографических исследованиях (и прежде всего – добавим от себя – в книге самого Зауэра). И та же Литургия в сознании народа присутствует не в виде ученой схоластической символики, а в форме проповедей и гимнов. Эта замечательная идея о том, что строительное искусство Средних веков, тот же феномен собора, требует иных комментирующих источников, более ориентированных на простое и непосредственное восприятие, более учитывающих особенности народного или, лучше сказать, низового сознания, – этой мысли суждено было большое научное будущее, начало которому положил тот же Эмиль Маль.
Тем не менее этим не отрицается важность и литургически-экзегетической традиции, которая, фактически, превращается не в буквальный смысл той или иной постройки, как это казалось прежде, а в смысл дополнительный, переносный и буквально аллегорический. Литургия же как обряд, молитва и гимнография, соборное пространство как место прежде всего проповеди – подобные уровни значения оказываются непосредственными и, что важно для архитектуры, функционально значимыми, то есть заложенными в постройку при ее возведении. Именно эти смысловые слои являются, так сказать, «интендированными», являясь прямым значением сооружения – значением как назначением. И вся эта будущая концептуальная проблематика, как выясняется, присутствует в скрытом, свернутом виде у Шпрингера, а значит, и у его последователя – Йозефа Зауэра. Хотя последний называет и других продолжателей дела Шпрингера. В их числе, например, П. Вебер, в своей работе «Духовный театр и церковное искусство в их взаимоотношении…» (1894) еще до Маля указавший на роль «духовной драматургии» в процессе складывания скульптурного убранства готических порталов. Но особое место Зауэр отводит своему учителю – Ф. Кс. Краусу, обратившему внимание на возможность сведения всей разветвленнейшей средневековой символики к простейшим первичным и базовым формулам. Это прямой путь, прямо ведущий к иконографии архитектуры, понятой как семантика архитектурной типологии (см. об этом ниже). Но главное достижение Крауса состоит в том, что он в качестве всеобъемлющего источника смысла не только средневековой архитектурной, но и вообще образно-символической – как вербальной, так и визуальной – традиции предложил рассматривать именно Литургию, вообще богослужение, имеющее не только пространственно-храмовое, но и историко-временное измерение, в частности, в форме годового богослужебного круга, последовательность событий которого как раз и вдохновляла ученых литургистов и экзегетов-символистов в своих комментариях углублять ее смысл. И церковное здание – это «действенное выражение» подобного глубинного литургического смысла.
И из всего сказанного вытекает собственная задача Зауэра: «исчерпывающее и систематическое исследование символических элементов Дома Божия в их происхождении, последовательном развитии, в их применении в искусстве и в их соотношении со средневековой культурой в целом»[104 - Sauer, Josef. Die Symbolik des Kirchengeb?udes… S. 47.].
Эта задача требует выполнения ряда существенных пунктов, то есть известной исследовательской программы, которой мы вкратце коснемся, ибо это есть и методологическая программа, причем довольно универсального применения. Первый пункт этой программы гласит, что в текстах тех или иных ученых литургистов слышится глас «духа времени», в них фиксируется сумма идей, отсылающих к тому или иному столетию. Другими словами, исторический взгляд на рассматриваемые вещи необходим в такого рода исследованиях символики, имеющей как внеисторческие, так и сугубо исторические измерения. Второй момент касается того, что было бы заблуждением воображать, будто Дуранд и иже с ним писали свои тексты в качестве справочника для художников. Это вовсе не есть, так сказать, «символико-тектонические» подлинники, подобные подлинникам иконописным. Эти тексты подобны произведениям искусства в том смысле, что те и другие в равной степени суть «эхо представлений своего времени». Более того: можно даже допустить, что сами литургисты были под впечатлением от художественных произведений, хотя и последние несут в себе «следы влияния символических интерпретаций», как выражается Зауэр. Осторожность его достойна уважения и подражания, ибо он решительно оставляет без ответа «принципиальный вопрос об отношении символического искусства к символическим идеям (то ли символическое мышление решало и определяло процесс создания художественного образа, или творение художника само стимулировало проявление неосознанных идей [unbeabsichtige Gedanke])»[105 - Ibid. S. 49. Все это напоминает, несомненно, «символическое искусство» Гегеля. См. в этой связи: Podro, M. Op. cit. P. 17-30.].
Тем не менее остается несомненным следующее положение: церковное здание представляет собой «место действия мистических литургических процессов, наполненных идеями и символами, и тем самым оно само оказывается носителем еще более высоких идей, связанных с этими процессами»[106 - Sauer, Op. cit.]. Принимая это положение, мы обнаружим и в более раннее время «множество, закрепленных за церковным зданием символических представлений, чьи законы учитывались при возведении новой постройки»[107 - Ibid.]. А с другой стороны, нетрудно встретить такие толкования, которые возникали по следам уже готового здания, приписывались ему, так сказать, по факту и лишь, например, в позднее Средневековье закреплялись за церковной постройкой в качестве ее значения. Другими словами, сами по себе следы той или иной экзегезы ничего не говорят, важно выяснить их статус и происхождение.
Наконец, последний пункт программы касается того, что сама по себе экзегеза, символическая интерпретация – это проявление того или иного «состояния культуры». Это довольно тонкий момент, если понимать и принимать его непосредственно: именно процессы истолкования, способы обращения со значением выявляют процессы и состояния культуры, а не собственно памятники, которые сами по себе молчаливы и потому лишены смысла. Только экзегет-комментатор – неважно, литургист или историк искусства, – только он заставляет памятник говорить – напоминать о себе и о том или ином смысле.
Экзегетическая типология и символическое описание
И вот после всех подобных уточнений только и начинается изложение собственно архитектурной символики, как она представлена в текстах заявленных авторов. И снова, прежде чем перейти к самой символике, по мнению Зауэра, следует «обсудить целый ряд общих позиций», которые суть в известном смысле слова те самые принципы, на которых «покоится все здание духовного созерцания церкви»[108 - Ibid. S. 50.]. Эта фраза представляет собой саму суть того метода, который, скажем сразу, весьма достойно представляет Зауэр. Речь действительно идет о созерцании, о медитативном опыте, построенном на внимательном, вдумчивом, углубленном и творчески-продуктивном переживании некоторых вещей, наполненных смыслом и значением. И не просто наполненных, но и переполненных, изливающих его вовне. Собственно говоря, речь идет о прочтении некоторого текста, об усвоении некоторой текстуальности, некоторого дискурса, значимость которого сродни значимости самой жизненной ситуации, в которой пребывает читатель-«перечитыватель». Это чисто герменевтическая ситуация, заставляющая Зауэра предварять собственно символику достаточно детализированным разговором о Св. Писании и его истолковании, ведь «начатки символики заложены в текстах Ветхого и Нового Заветов»[109 - Ibid.].
Апостол Павел первым подал пример типологического и аллегорического использования Писания. Церковь и хранила, и развивала этот подход, и использование Литургией соответствующих библейских мест происходит «не в буквальном, историческом, но в переносном смысле». Сакральный топос налагается на риторический (проповеднический!) троп – так можно описать в кратком виде всю ситуацию средневекового символизма. Чуть развивая этот момент, можно сказать, что смысл Писания буквально переносится, накладывается на смысл Литургии, и вслед за этим подобный метафорический импульс передается и пространству церковного здания, собора, понятого как сумма священных мест, обращенных в сторону верующего – внимающего и воспринимающего посетителя храма.
Переносный смысл в данном случае означает противоположность прямому, который для Писания есть смысл исторический, предполагающий тот порядок событий, порядок повествования, череду частей («мест»), которые имеются в самом Писании, в его первоначальном составе и контексте. Но само ли Писание является первичным источником для всевозможных символических, художественных и литературных мотивов? Или есть что-то иное, например традиция, выраженная в Литургии? О первичном значении Писания можно говорить до тех пор, пока богослужебное чтение Писания оставалось столь же прямым и последовательным. Но когда возникает практика выборочных и перегруппированных чтений (например воскресных), то тогда мы безоговорочно должны признавать в качестве источника именно эту литургическую традицию. Только «литургическое использование» Писания объясняет склонность группировать, соотносить священные события и факты, далеко отстоящие друг от друга, и, наоборот, разделять и противопоставлять родственное и близкое. Таково происхождение символическо-ассоциативного метода, который не может быть иным, ибо таково свойство источника: он сам символичен и иносказателен. Комментарий Литургии не может не быть метафорическим.