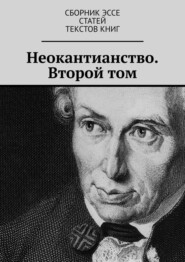
Полная версия:
Неокантианство. Второй том

Неокантианство. Второй том
Переводчик Валерий Антонов
Составитель Валерий Антонов
© Валерий Антонов, перевод, 2024
ISBN 978-5-0059-8582-8 (т. 2)
ISBN 978-5-0059-8583-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Сборник Эссе, статьей, текстов книг немецких мыслителей со второй половины XVIII до первой половины XX вв.
Сборник статей немецких мыслителей объединен тематическим принципом: в совокупности дают представление о разнообразии идей, тем и методов философского поиска начиная со второй полвины XVIII до начала XX вв. возникших под влиянием учения и идей И. Канта. В этом сборнике впервые переведены на русский язык тексты, опубликованные в немецких журналах и отдельными книгами.
Использутся следующие сокращения из сочинений Канта:
«Критика чистого разума» (сокращенно: Кр. д. р. В.), «Критика практического разума» (сокращенно: Кр. д. пр. В.) и «Религия в пределах чистого разума» (сокращенно: Рел.) по изданиям Кехрбаха, «Основоположение к метафизике чувств» (сокращенно: Грундл.) и «Пролегомены к одной из двух основных метафизик и т. д.» (сокращенно: Пролег.) по изданиям фон Кирхмана. (сокращенно: Proleg.) по изданиям фон Кирхмана, остальные сочинения – по «Кантаусгабе» Розенкранца (сокращенно: R.)
ПАУЛЬ ХЕНЗЕЛЬ
Об отношении чистого «Я» у Фихте к единству апперцепции у Канта
Большое количество работ по «немецкой философии со времен Канта» в основном ставят перед собой задачу показать логическое развитие великих идеалистических немецких систем от Канта, и часто решают эту задачу с проницательностью и осмотрительностью. Однако, подобно тому, как легко доказать внутреннее родство системы Шеллинга с системой Фихте, системы Гегеля с системой Шеллинга, поскольку здесь действительно можно наблюдать нечто большее, чем простую психологическую связь, поскольку дальнейшее развитие лежит в самой системе, которая должна была быть развита и преодолена, отношение Канта к первой системе Фихте, следовавшей за ним, не может быть точно установлено. Если бы здесь действовало такое же отношение, то «возвращение к Канту», столь часто рекомендуемое сегодня, было бы просто возобновлением того же самого круга и привело бы нас на пути логической последовательности к Фихте, Шеллингу и Гегелю. Поэтому в интересах нашей сегодняшней философии исследовать, можно ли назвать этот первый шаг за пределы Канта оправданным дальнейшим развитием его системы; это не только с исторической точки зрения, это также важный вопрос для самых жизненных интересов нашей современной мысли, пришел ли Фихте к такому его пониманию, к такой трактовке кантовской системы мыслью, связанной с ее родоначальником. Следующий трактат преследует цель объяснить положение понятия в кантовской системе, единства апперцепции, и сравнить с ним понятие, которое, по заявлению Фихте, получило дальнейшее развитие, понятие чистого Я.
Выбор этого сравнения оправдан еще и потому, что упомянутая кантовская теория – одна из немногих, которая смогла надолго приковать к себе интерес с момента публикации «Критики чистого разума» и до наших дней; это действительно редкое явление. Для нас сегодня те труды, в которых высказывались по поводу учения Канта в то время, отчасти кажутся достаточно причудливыми. Сегодня мы принимаем во внимание совершенно иные точки зрения, чем те, которые были в то время на переднем плане рассмотрения. Совершенно не считая того, что сегодня для нас Kr. d. r. V. является для нас сегодня столь же определенным объектом интереса, как для современников Канта (достаточно сослаться на Шиллера и Рейнгольда) «Критика практического разума» и» Способность суждения», то – даже в рамках теоретической философии – совсем другие моменты представляются нам нуждающимися в дальнейшем развитии, чем тогдашним докладчикам и толкователям. Наш взгляд, выросший на основе естественных наук, не возражает против учения о привязанности наших органов чувств к внешнему, отличному от нас миру, и стремится скорее изменить и перестроить те представления системы, которые несколько более перемежаются формалистическими компонентами, например, учение о схематизме понятий рассудка, о выведении категорий из логических формул суждения и так далее. С другой стороны, та эпоха, которая все еще мыслила исключительно метафизически, испытывала настоящую досаду по поводу непознаваемости вещей-в-себе, ограничения знания сферой возможного опыта, разрушения онтологического доказательства существования Бога.
Тем более охотно они искали ориентиры для дальнейшего изучения новой системы, такой же метафизической по содержанию, как и доктринальное здание Вольфа, только приспособленной к новой доктрине по форме, и эти усилия были отнюдь не напрасны. Поначалу Кант не полностью преодолел традиции школы, в которой он вырос. Он признавался, что «влюблен» в метафизику, и поэтому из его уст вырывались высказывания, подобные тому, о котором много спорили, о единстве корня познания и чувствительности; иногда он высказывал мнение, что «Критика» не должна была стать завершающей работой, а лишь основой для системы чистого разума; Эти намеки побуждали нас слишком мало рассматривать его систему как законченное произведение, а поскольку разработка системы самим Кантом все больше откладывалась, они стали искушением самостоятельно поработать над обещанным.
Первый вопрос, который следует задать: чего хотел добиться Кант в «Критике чистого разума», ибо только так можно понять, была ли оправдана в понимании Канта вся дальнейшая разработка Фихте. Прежде всего, нельзя не заметить, что один из главных результатов, а для КАНТА, безусловно, главный результат критики, был отрицательным, и искать его следует в антиномиях, как и во всем разделе «диалектики чистого разума». Будучи разбуженным из своей «метафизической дремоты» Юмом, он рассмотрел воздвигнутую его школой конструкцию рациональных наук и убедился, что это мнимые науки, что они состоят из подделок, что наука чистых понятий не может существовать за пределами возможного опыта. В противовес этим иллюзорным наукам он исследовал метод математики и чистого естествознания. Кант никогда не отрицал факта существования этих наук и не хотел открывать их только в «Критике», так как они уже существовали и продолжали бы спокойно развиваться даже без работы «Критики». Но нужно было решить двойную задачу. Первая задача была разрушительной для старой метафизики; она должна была противопоставить эпизодические и всегда противоречивые попытки метафизики невозмутимому прогрессу этих наук; она должна была показать, что метафизика не может стать наукой, да и никогда ею не была; в качестве самого действенного оружия было указано на завершенное здание математики в противоположность всегда противоречивым принципам метафизики в антиномиях. Это была негативная часть задачи. Рука об руку с этим, однако, идет позитивное направление.
Хотя для исследователя в области математики или естественных наук может быть совершенно безразлично, на каком фундаменте он воздвиг здание своей науки, лишь бы в практической работе не было несовместимостей, подобных тем, которые затрагиваются в метафизике, философский наблюдатель имеет совсем другую точку зрения. Он не может быть удовлетворен этими фактически достигнутыми результатами, пока не доказано, как они могли быть достигнуты; факт общей обоснованности математики не является бесспорным, пока не показана возможность ее результатов, достаточная причина, из которой может быть выведена ее обоснованность. И это доказательство в то же время обусловливает действительность науки как реальной науки, которая обязательно должна быть общезначимой, в то время как кажущаяся наука, которая не в состоянии представить такое доказательство, должна рассматриваться просто как игра мыслей на манер метафизики. Поэтому Кант не мог предположить эти науки, хотя они реально существовали, но он должен их построить, и в этом состоит задача критики в позитивном смысле. Здесь Кант отказывается от Юма, за которым он следовал в атаке на метафизику, чтобы пойти своим путем, ибо на пути Юма такая демонстрация всеобщности любой науки никогда не могла быть достигнута; отсюда, однако, и формулировка кантовского тезиса как логического исследования «Как возможны синтетические суждения a priori», поскольку такой результат строгой всеобщности может быть достигнут не в области психологического исследования; единственное, что могло сделать это начинание осуществимым, – это демонстрация, проведенная на логических основаниях. «Возможный опыт» – таков девиз Кр. д. р. V. по отношению к его положительной стороне; это – цель, все остальное – лишь вспомогательное средство. Конечно, нельзя отрицать – да и кто захочет отрицать, – что из этого главного исследования вытекает целый ряд следствий, что доказательство абсолютной идеальности времени и пространства (ибо это доказательство было сделано вопреки ТРЕНДЕЛЕНБУРГУ), какое бы отношение оно ни имело к цели доказать возможность математики как науки, остается для кантовской философии весьма безразличным в эпистемологическом значении, даже если не представлять себе пространство и время чисто формальными, (как это делал, например, РИЕЛЬ) останется весьма безразличным. Фактическая цель трансцендентальной эстетики состоит лишь в том, чтобы доказать, что пропозиции математики на самом деле являются синтетическими суждениями a priori. Следует подчеркнуть, что в этом отношении оба издания Kr. d. r. V. находятся в полном согласии. V. целиком согласуются друг с другом; тема в обоих одна и та же, метод в основном один и тот же, только результаты, как мы вскоре покажем, отличаются друг от друга в одном важном пункте. Ни в коем случае нельзя придерживаться устаревшего предрассудка, что второе издание намерено выступить на стороне идеализма первого издания. Лучшим доказательством равенства предпосылок обоих изданий я считаю тот факт, что два человека, которые наиболее безжалостно продолжали обучение у Канта в идеалистическом смысле, Фихте и Шопенгауэр, выбрали разные издания в качестве отправной точки для своего дальнейшего продолжения изучения. Хорошо известно суждение Шопенгауэра о втором издании, и именно это второе издание Фихте использовал в качестве основы своей крайне идеалистической системы, более того, по его собственному свидетельству, оно привело его к ней. Знал ли он вообще первое издание, мне совершенно неясно; во всяком случае, он не упоминает о нем и всегда цитирует второе издание. Мы не считаем, что в целом вопрос изменился, напротив, он остался совершенно тем же самым, но только ответ на него в той части, которая касается единства апперцепции.
Что касается доказательства первой дедукции, я должен сделать предварительное замечание. Даже если я описал проблему «Критики» как логическую, это вовсе не исключает возможности того, что для прояснения не могут быть использованы другие средства, кроме чисто логических, и это действительно было сделано в первом издании в довольно развернутой манере с использованием искусной психологической терминологии, использование которой, однако, имеет то преимущество, что делает ход доказательства дедукции очень ясным и понятным, даже если, быть может, менее убедительным.
В дедукции речь идет о том, чтобы доказать (RIEHL, Philosophischer Kritizismus, vol. 1, с. 372) «как наши понятия способны задавать представления и тем самым порождать идеи объектов», Кант берется здесь доказать, что категории являются единственным условием, позволяющим мыслить нечто как объект, что, следовательно, объект возникает только в категориях и вместе с ними, и что объективное познание есть не что иное, как мышление в категориях, что поэтому (HÖLDER, Darstellung der kantischen Erkenntnistheorie, стр. 27) «если мыслительное связывание внешних явлений, а именно опыта, становится возможным, то это возможно только через категории.»
В ходе этого доказательства единство апперцепции предстает как «чистое, изначальное, неизменное сознание». Пространство и время также возможны только через отношение представлений к ним, и только из этого положения явствует позиция этого понятия как центра всей теоретической системы; (COHEN, Kant’s Theory of Experience, page 144) «когда я провожу линию, я объединяю в своем сознании многообразие в понятие величины; и объединяя его под этим понятием, мысля его как линию, я достигаю в этом единстве синтеза в то же время и единства апперцепции». Это совершенно верно с той точки зрения, что математика была бы невозможна, если бы действие проведения линии не было связано с единством апперцепции, и что это тоже должно быть задано априори для математики. Но трансцендентальная апперцепция также приводит к упорядочению явлений по законам; таким образом, осознавание самого себя есть в то же время осознавание столь же необходимого единства синтеза всех явлений в соответствии с понятиями, и поэтому мы априори мыслим неэмпирический объект как то, что лежит в основе явлений, как объект вообще, который мы никогда не можем установить = x как данный в возможном опыте. Только с помощью этого чистого понятия рассудка мы можем придать нашим эмпирическим понятиям отношение к объекту опыта, предмету; мы приходим к трансцендентальному закону (Kr. d. r. V., Издание KEHRBACH, стр. 123), «что все явления, в той мере, в какой объекты должны быть даны нам через них, должны априори подчиняться правилам синтетического единства того же, что они должны подчиняться в опыте условиям необходимого единства апперцепции, а в созерцании – формальным условиям пространства и времени, более того, что через них в первую очередь становится возможным всякое познание». Здесь уместно кратко остановиться на соотношении единства апперцепции и чувственно данного. Здесь становится очевидным, в какой степени эти два термина следует рассматривать как два полюса кантовской теоретической философии. Единство апперцепции – это абсолютно формальный принцип, принцип, который формирует и образует все поле опыта, поэтому математика как чисто формальная наука, объект которой мы сами производим, возможна только в связи с этим единством апперцепции. Чем больше, однако, формальный принцип в масштабе наук вынужден проявлять активность в формировании материала опыта, тем больше уменьшается исключительная обоснованность формального единства опыта, тем меньше результирующее наблюдение относится к априорной конструкции и тем меньше оно должно считаться с эмпирическими факторами. То, что Кант отнюдь не недооценивал действенность эмпирического фактора, видно из известного отрывка (Кр. д. р. V., с. 107, ср. также с. 510 и 512) (даже если его понимать только гипотетически): «Ведь самое большее, явления могли бы быть так составлены, что понимание вообще не находило бы их в соответствии с условиями своего единства, и все лежало бы в такой путанице, что, например, в порядке явлений не представлялось бы ничего, что давало бы правило синтеза». В этом случае мы имели бы все формальные условия для образования объектов, для образования естествознания; но за отсутствием возможности деятельности на материале опыта ни один из этих зародышей не пришел бы действительно к развитию, всегда за исключением математики. Вот как важна роль субстанции опыта.
Я только что сказал «формирование объектов», потому что, согласно Канту, они вообще не даны. Даны только сенсорные стимулы, ощущения, которые мы упорядочиваем в соответствии с пространством и временем. Для того чтобы привести этот просто рецептивный материал в соответствие с формальными условиями опыта, Кант нуждается в способности, которая связана, с одной стороны, с чувственностью, а с другой – с рассудком, способностью воображения. Это приводит к тому, что данное в пространстве и времени становится предметом суждения, единства апперцепции; только благодаря такой обработке появляется эмпирический объект, в котором определенные части чувственно данного под определенной точкой зрения, с которой возможна оценка, являются категориями. Только благодаря этому суждению из бесконечного разнообразия чувственных впечатлений возникает система опыта, мир объектов, объективный мир, который взаимосвязан как во времени, так и в пространстве по фиксированным законам. Единство и постоянство объектов никогда не может быть достигнуто чувственностью с ее постоянно меняющимся характером, я должен создать его сам; как ничто не может стать наблюдением, не соответствуя чистым формам наблюдения пространству и времени, так и ничто не может стать объектом, не соответствуя условиям единства апперцепции, а этими условиями являются категории. Таким образом, результат, к которому хотел прийти Кант, – доказательство синтетических суждений a priori для чистого естествознания и в качестве его необходимой основы – кажется, действительно достигнут. Даже если процесс доказательства не обладал необходимой строгостью, даже если позднейшим его сторонникам (например, Фризу) могло показаться, совершенно ошибочно, будто действительный основной психологический характер системы Канта проявился здесь с полной ясностью и будто главным образом необходимо было подчеркнуть и развить его. Даже если оппоненты (например, Гербарт) могли верить, что с враждебностью и опровержением этого психологического аппарата будут поколеблены и результаты самой дедукции, основы доказательства все же находились на слишком прочной почве, и психологический иллюстративный материал мог быть не более чем вспомогательным средством для облегчения понимания. Это не было задачей Кр. д. р. V. показать, как возникает опыт – это относится к области исследования эмпирических наук, – а показать, из чего он состоит; и даже если критик опыта, естественно, вправе составить свое мнение по первому вопросу, даже если он может счесть полезным вплести это мнение в свое изложение для дальнейшего разъяснения (хотя, как показывает пример Канта, это не совсем безвредно для возможного недоразумения), его доказательство может и должно быть проведено совершенно независимо от такого рода изложения, и я убежден, что так было и с первым изложением дедукции.
Почему Кант начал свою переработку именно с этого момента? Когда Коген считает мотивом новой переработки вопрос об отношении продуктивного воображения к трансцендентальной апперцепции, то я не могу с этим полностью согласиться. Верно, что в первом издании эти отношения не вырисовываются с желаемой ясностью, поскольку Кант проводит здесь различие между образом, создаваемым воображением, и категорией, которая действительно может быть построена только в идеале, что основано на его слишком строгом различении нашего познания на чисто и исключительно продуктивную и столь же исключительно рецептивную части, причем это различие, вторая часть которого решительно не соответствует действительным отношениям. Но неверно говорить, что во втором издании рассмотрение направлено главным образом на это различие или даже что оно удовлетворительно решено. Первое, как мы намерены показать, не следует считать ведущей нитью второго издания; второе Канту вообще никогда не удавалось удовлетворительно сделать, потому что различать то, что на самом деле всегда и неразрывно связано чисто логически, – задача невыполнимая. Поэтому необходимо сначала выяснить причину неудовлетворенности Канта формой, в которой предстал результат дедукции. Я полагаю, что не только отдельные незначительные различия, такие как упомянутые Когеном, могли бы привести к переработке этой наиболее трудной части «Критики», но что для того, чтобы такая переработка представлялась целесообразной, должны быть внесены значительные изменения в сам результат. И, на мой взгляд, это действительно так. Прочная система представлений была, однако, завоевана, возможность ее была показана; но что это была за система, которую Кант хотел доказать в соответствии со своими предпосылками? Как Кант исходил из рассмотрения отдельного человека, поскольку, несмотря на требование необходимости и всеобщности результатов, для того, чтобы сделать возможными исследования для критики, не нужен никакой другой разум, кроме разума самого философа, так и результат, полученный в дедукции, относится только к конкретному человеку. В мышлении отдельного человека каждое открытие связано с другим по правилам; философ способен высказывать предположения на всем поле своего возможного опыта, выдвигать суждения и объединять их в систему, не терпящую для него исключений.
Но является ли это также доказательством того, что эти предположения также общезначимы, что они являются компонентами не только моего опыта, но и опыта каждого человека, каждого разумного существа? И если это не так с каждым произвольным суждением, то как я могу иметь фиксированный критерий для определения того, с какими суждениями это так, а с какими нет? Более точное доказательство этого отсутствует в дедукции первого издания; она дала только возможность науки, обязательно действительной для индивида: доказательство всеобщей науки еще не достигнуто, вернее, не видно в достигнутом результате, и теперь оно должно быть выполнено. Этот шаг от индивидуализма является, однако, очень значительным. Ведь даже если не исключать в конструкции возможность того, что отдельный индивид мог бы создать научную систему для себя одного и совершенствовать ее в индивидуальных исследованиях, то в действительности дело обстоит совершенно иначе. Наука и опыт возможны только в общении подобных индивидов друг с другом; как мы знаем сегодня, возможность суждений образовалась только в аппарате нашего языка, а язык есть продукт общественной жизни и совершенно немыслим без нее. Только в общей работе возможно возникновение науки, а опыт означает не что иное, как общее мышление, как то, что возникло как общая норма в общении мысли многих индивидов, что принадлежит к общему мышлению; иметь научное мышление значит мыслить так, что вместо мыслителя каждый разумный индивид должен иметь такую же мысль, мыслить научно значит мыслить вообще, для всех.
Таким образом, в первом издании была проделана лишь часть работы, но она была завершена в Пролегоменах перед публикацией второго издания. В том, как здесь рассматривается проблема, одновременно видна причина, по которой Кант не пошел по очевидному пути, чтобы сделать результаты первого издания общезначимыми. Это доказательство могло бы исходить из выведения категорий из логической таблицы суждений путем сужения ее до временной схемы. Поскольку форма логического суждения должна быть установлена как общезначимая, но поскольку, с другой стороны, общезначимость доктрин математики также постулирует общезначимость чисто визуальной формы времени, продукт, применение логической таблицы к схеме времени, также должен претендовать на общезначимость; категории, таким образом, уже обладают общезначимостью eo ipso в соответствии со своим происхождением. Таково примерно доказательство Куно Фишера. Но это доказательство исходит именно из предпосылки, что Кант уже применяет в Критике ход доказательства Пролегомен, то есть предполагает всеобщую истинность математики и чистого естествознания, тогда как мы ранее показали, что это отнюдь не его точка зрения, но что он доказывает эту истинность в философском смысле математики только в Критике, тогда как эта задача выполнена только в Пролегоменах. Таким образом, включение этой точки зрения в Критику предполагает круг.
Способ, которым Кант заполняет пробел, оставшийся открытым в «Критике чистого разума», – это, как известно, различие, проведенное в «Пролегоменах» между восприятием и опытом, различие, которое, появляясь здесь впервые, имеет такое фундаментальное значение, что обсуждение его развития представляется необходимым. Оно содержится в разделе Пролегомены «Как возможно чистое естествознание?», и ход его аргументации в основном следующий:
Кант начинает с определения природы как «существования вещей в той мере, в какой оно определяется общими законами». Мы сразу же видим, что здесь резко обозначена точка зрения всеобщности, и именно эта мысль доминирует во всем дальнейшем изложении. Далее доказывается, с известными из «Критики» аргументами, что естествознание вещей в себе невозможно, что только для явлений наше познание может иметь нормативное значение согласно результатам трансцендентальной эстетики, но что, с другой стороны, из восприятий, которые всегда имеют лишь случайную действительность, никогда не может возникнуть наука, которая должна состоять из необходимых и общих положений, и таким образом получается второе определение, которое более точно, чем первое, схватывает природу в более узком смысле как воплощение всех объектов опыта. Теперь, однако, все наши априорные законы природы относятся к закономерности изменений в природе; таким образом, результат закономерности хода природы является формальной стороной нашего знания о природе, подобно тому как время и пространство были формой для всей чувственности.
Таким образом, мы приходим к вопросу: «Как возможно необходимое единообразие вещей как объектов опыта?». И в этом исследовании нельзя не восхититься мудрой умеренностью, с которой Кант, с одной стороны, удержался от опасности придать формам сознания какое-либо материальное содержание a priori и тем самым открыть новую онтологию, но, с другой стороны, избежал еще более рискованной перспективы, что, несмотря на априорные формы разума, в которых осмысляются и которыми определяются чувственные восприятия, познание может оставаться чисто субъективным, как и в первом издании, и таким образом на место эмпирического индивидуализма Юма, который не лучше подходил для того, чтобы сделать возможным естествознание, был выдвинут именно этот идеалистически-критический индивидуализм.



