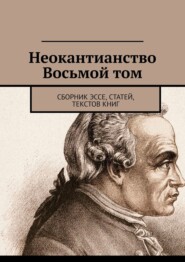скачать книгу бесплатно
Неокантианство Восьмой том. Сборник эссе, статей, текстов книг
Валерий Алексеевич Антонов
В настоящем томе представлены работы: М. Я. Монрада, А. Фика, Г. Кнауэра, Б. Бауха, А.Руге, Эрнста фон Астера, Р. Кронера, М. Фришайзен-Кёлера, Ф. А. Ланге, В. Фрейтага, Я. Н. Шаумана, И. Г. Гаманна, В. Иерусалимского.
Неокантианство Восьмой том
Сборник эссе, статей, текстов книг
Переводчик Валерий Алексеевич Антонов
© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2023
ISBN 978-5-0060-7311-1 (т. 8)
ISBN 978-5-0059-8583-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Сборник Эссе, статьей, текстов книг немецких мыслителей с воторой половины XVIII до первой половины XX вв
Сборник статей немецких мыслителей объединен тематическим принципом: в совокупности дают представление о разнообразии идей, тем и методов философского поиска начиная со второй полвины XVIII до начала XX вв. возникших под влиянием учения и идей И. Канта. В этом сборнике впервые переведены на русский язык тексты, опубликованные в немецких журналах и отдельными книгами.
В настоящем томе представлены работы: М. Я. Монрада, А. Фика, Г. Кнауэра, Б. Бауха, А.Руге, Эрнста фон Астера, Р. Кронера, М. Фришайзен-Кёлера, Ф. А. Ланге, В. Фрейтага, Я. Н. Шаумана, И. Г. Гаманна, В. Иерусалимского.
Используются следующие сокращения из сочинений Канта:
«Критика чистого разума» (сокращенно: Кр. д. р. В.), «Критика практического разума» (сокращенно: Кр. д. пр. В.) и «Религия в пределах чистого разума» (сокращенно: Рел.) по изданиям Кехрбаха, «Основоположение к метафизике чувств» (сокращенно: Грундл.) и «Пролегомены к одной из двух основных метафизик и т. д.» (сокращенно: Пролег.) по изданиям фон Кирхмана. (сокращенно: Proleg.) по изданиям фон Кирхмана, остальные сочинения – по «Кантаусгабе» Розенкранца (сокращенно: R.).
МАРКУС ЯКОБ МОНРАД
Вещь в себе как нуменон
I.
Кантовская вещь-в-себе, которую он противопоставлял непознаваемым видимостям как единственное, что доступно человеческому познанию, стала очень известной – или, скорее, хотелось бы сказать: печально известной – в последующей философии. Ее неоднократно называли caput mortuum [никчемным остатком – wp] мысли, и я сам в своих ранних работах и лекциях поспешил считать кантовскую вещь-в-себе – а именно, удерживаемую в своей абстрактной неопределенности, – недоделанной, даже недодуманной.
Но если присмотреться внимательнее, то эта абстракция как таковая (и основанное на ней противопоставление) не только прекрасно мотивирована и оправдана с кантовской точки зрения и в соответствии с ее предпосылками, но и является моментом, значимым для всего развития человеческой мысли, фактически ключом ко всем высшим созерцаниям бытия. Ведь вся религия, а по сути дела и вся философия, основана на том, что мы не должны привязываться к этому миру, который сначала окружает нас и пространственно и временно представляется нашему чувственному сознанию как то, что истинно само по себе, но всегда должны, по крайней мере, подозревать и искать над или за ним нечто истинное само по себе, нечто неизменное, как бы это ни мыслилось.
Вспомним, что КАНТ на пороге конца века стоит, по крайней мере, одной ногой в господствующем в то время эмпиризме, который стряхнул с себя традиционную догматическую метафизику, но уже находился в процессе последовательного распада, поскольку скептицизм Юма, исходя из самого опыта, полагал, что в конечном счете он должен отрицать в нем всякую всеобщую, объективную истину. Чтобы не отдать человеческое познание полностью на откуп скептицизму (или «догматическому идеализму»), КАНТ исследовал субъективную способность познания и нашел в ней некоторые основные формы и принципы, которые неизбежно обусловливают весь опыт и поэтому являются определяющими для всех объектов опыта как таковых, придают им порядок и связность. Все, что предполагается объектом общим и необходимым, все априорные законы и «синтетические суждения» имеют, согласно этому «разумно-критическому» взгляду, свою гарантию только в том, что б их предпосылок опыт вообще был бы невозможен, и, следовательно, их действительность также ограничена исключительно областью опыта.
Для Канта несомненно, что переживаемое как таковое есть только видимость. Это было и остается верным и истинным, опыт и видимость – коррелятивные понятия. Само собой разумеется, что возникновение и переживание как таковое обязательно зависит от переживающего субъекта и обусловлено им. Мы можем ощутить только то, к чему мы восприимчивы; то, что должно явиться нам, должно говорить с нами на нашем языке; то, что еще может быть в вещи, остается скрытым от нашего опыта. Звук появляется только у тех, кто имеет уши, свет – только у тех, кто имеет глаза. В том, что вообще объект опыта как таковой обязательно подвержен субъективным условиям и может предстать перед субъектом только в формах, присущих субъективной способности восприятия, мы должны полностью согласиться с Кантом.
Но из этого следует, что если субъективная способность восприятия имеет исключительно конкретную природу, то и объект должен представляться таким же конкретным образом, и мы уподобимся тем подземным жителям из «NILS KLIM», у которых овальные глаза и которым поэтому и солнце должно казаться овальным. Похоже, что именно так рассуждают и некоторые современные математики и физики, которые говорят о четвертом измерении и считают, что мы, люди, не можем представить себе такое измерение, поскольку наше собственное тело имеет только три измерения, и если бы мы имели только два измерения, т.е. если бы мы были плоскими существами, то все вещи представлялись бы нам только плоскостями.
Следствие здесь, однако, неизбежно привело бы к софистическому утверждению, что все есть только так, как оно представляется индивидуальному субъекту в соответствии с его индивидуальной диспозицией. Например, только если бы субъективная способность восприятия имела общий и свободный характер, в ней могло бы отражаться истинное бытие, каково оно есть. Об этом позже.
Кант, конечно, хочет избежать этого софистического или скептического следствия, имея в виду не индивидуально созданный субъект, а переживающий субъект вообще, только как таковой, а условия, определяющие объект опыта, – это лишь те условия, которые вообще делают возможным опыт и которые, таким образом, должны быть выведены, как мы хотели бы выразиться, из понятия опыта. Но переживающий субъект как таковой еще не есть истинно всеобщее, свободное, бытие-в-себе, а стоит именно чер опыт во внешнем отношении к своей внешности, переживает объект как внешнее, стоящее во внешнем отношении к нему, не вещь как она есть сама по себе, а как она есть для субъекта и ее внешность, обращенная к субъекту и располагающая себя к субъективному приему, одним словом: видимость. Так обстоит дело и с так называемым внутренним опытом; ведь и мы переживаем в своем собственном внутреннем бытии только то, что нам в нем представляется. Да, даже здесь – хотя в этом случае внешность может показаться более близкой к себе, поскольку субъект и объект совпадают, а сама внешность является внутренней – не исключено (даже фальсифицирующее) приспособление, поскольку внутренний опыт часто зависит от сиюминутного настроения и случайных обстоятельств, а значит, предполагает более глубокое, действительно самосуществующее внешнее. Но мы оставим этот вопрос.
То, что мы сейчас находим в Канте как действительно великое и эпохальное, то, чем он оформляет вход в более глубокую классическую философию нашего века, – это именно то, что он выразил ясное сознание мира видимостей как видимостей и тем самым указал, хотя бы косвенно, на бытие-в-себе, которое лежит глубже всякого опыта и действительно истинно. Именно с этого момента может начаться высшее познание действительной истины; как я уже говорил, религия, а также, можно сказать, вся истинная мораль, имеют здесь свою связь, которую Кант уже по-своему увидел.
Но и здесь Кант остановился на пороге. А именно, вместо того, чтобы после признания недостаточности опыта как источника знания, ведущего к действительной истине, искать более глубокого познания самого себя, он оставил его как трансцендентное, выходящее за пределы всякого знания, в конце концов снова обратился к опыту и видимости и не захотел допустить, чтобы априорное рассматривалось как основанное на самом себе, а лишь как условие возможного опыта, то есть фактически как вспомогательная гипота. В отношении религии и морали аналогичная вспомогательная гипота также должна сослужить практическую службу.
Однако как преступание этого фактически узкого трансцендентальнокритического порога неизбежно лежит в природе вещей, так уже в Канте нет недостатка в следах, указывающих на такое преступание, хотя бы намекающих на его возможность, даже содержащих невольные побуждения к нему.
Кант прямо признает, что появление обязательно предполагает наличие того, что появляется: «Было бы несовместимо, чтобы появление было б того, что появляется». С этим связана мысль, высказанная Гербертом Спенсером, о том, что относительное – а по его мнению, только познаваемое – не могло бы быть, если бы не было абсолютного. Необходимо лишь глубже осознать тот факт, что то, что обязательно должно быть предпослано видимости, действительно лежит в основе видимости, присутствует в ней и является именно тем, что в н е й проявляется; что, следовательно, Бытие-в-Бытии, Реальное, которое, с одной стороны, не является видимостью как таковой, не проявляется, с другой стороны, все же является видимостью и проявляется, хотя бы опосредованно, чер видимость. Да, можно сказать, что именно в понятии Бытия-в-Бытии заложено явление, выход в явление – об этом подробнее будет сказано ниже. Точно так же неизменное, тождественное самому себе, б которого не может произойти ни одно изменение, есть именно то (как бы парадоксально это ни звучало), что изменяется в изменении, как и в понятии неизменного (бесконечного, вечного) входит в конечность и изменение и действует в них и чер них.
То, что кантовская вещь-в-себе не может быть оставлена в рко оборванной абстракции и отрицании, а должна быть, по крайней мере, поставлена в позитивное отношение к видимости, уже признано с нескольких сторон. Так, ШОПЕНГАУЭРхочет понять вещь в себе как – по общему признанию, слепую, неразумную – волю к видимости. Для посмертного Шеллинга – это божественная произвольная воля, которая вдыхает полноту и движение в априорную категорию plea и тем самым порождает появляющийся реальный мир. Герберт Спенсер видит в Абсолюте сверхъестественную – не поддающуюся дальнейшему определению – силу, господствующую над кажущимся, естественным
бытием.
Но сам Кант дал вещи-в-себе гораздо более краткое и точное обозначение, употребив для нее вместо этого не совсем счастливого обозначения слово noumenon – мы хотели бы сказать: счастливое прорицание [вдохновение – wp].
Мы не спрашиваем, что изначально имел в виду сам Кант, может быть, он хотел, чтобы нуменон воспринимался только как формальное, негативное противопоставление феноменам (phaenomenon). Мы не пишем здесь историю и хотим лишь осознать, что скрывается в понятии нуменона как такового и насколько оно может быть корректно заявлено от истины и реальности явленного бытия.
Известно, что в первом издании «Критики чистого разума"Кант сделал замечание о том, что вещь-в-себе, о которой неизвестно, что и как, может быть однородной или тождественной с мыслящим субъектом, которое он исключил во втором и последующих изданиях. Мы не намерены возобновлять здесь старый спор, который в то время велся, в частности, между UBERWEG и MICHELET, о причинах этого упущения, о том, лежит ли в его основе смена точки зрения или нет: Во всяком случае, нам кажется, что с чисто критической точки зрения, когда о вещи самой по себе ничего определенного сказать нельзя, предоставление лишь возможной концепции не имело научного значения (как и дальнейшее ее использование) и вполне могло быть опущено в научном изложении, где нет оснований видеть последующее отрицание ранее предоставленной возможности. Иное дело, если бы тождествовещи-в-себе с познающим субъектом было показано не только как возможная, но и как необходимая мысль; но Кант, по крайней мере с ясным сознанием, до этого, несомненно, не дошел, хотя в выбранном обозначении может лежать невольная подсказка в этом направлении, которую мы здесь и продолжим.
II.
Нуменон означает то, что мыслится, или, точнее, то, что мыслится. Объект мышления – это, конечно, мыслимое (noeton).
Что же на самом деле мыслимо и что действительно мыслимо Сразу подчеркнем, что мышление не следует, как это часто бывает, путать с воображением. Воображение – это всего лишь конкретное и субъективное, а воображающий субъект как таковой – это непосредственный индивид, зависящий от индивидуальной, даже сиюминутной ситуации и настроения. Случайно ли объективное соответствует идее; можно представить вещь в одном виде, а можно и в другом, что зависит от случайности или произвола; можно представить противоположности как равно возможные и часто сознавать, что идея совершенно лишена объективной обоснованности и является лишь внутренним образованием, порождением воображения. Но мышлению как таковому мы обязательно приписываем объективность и всеобщую обоснованность. То, что мы действительно думаем, мы не можем думать иначе. Мыслящий субъект как таковой есть свободное, общее, свободное от всех конкретных и случайных склонностей, настроений, влияний. Способность мыслить, то, что действительно мыслит в нас, есть разум, это истинное общее, которое не живет замкнуто и исключительно в индивиде, но тесно объединяет его со всяким разумным существом, более того, со всеми разумными существами. Тот, кто мыслит – и мыслит рационально, что, собственно, одно и то же, – мыслит не исключительно за себя, от своего имени, а по существу за всех, от имени всех рационально мыслящих существ, как представитель всеобщего разума, и то, что он мыслит, он мыслит как общначимую истину. Реальное и мышление в истине и мышление реальное, истинное – сами по себе тождественные понятия.
Не надо возражать, что кажущееся человеческое мышление часто ошибочно и содержит ложь. Ведь на самом деле это означает лишь то, что такое «мышление» есть несовершенное мышление, не достигшее своего понятия, а это значит опять-таки: не настоящее мышление, а мышление, загрязненное и испорченное примесью воображения, так что человек не столько мыслит, сколько воображает себя мыслящим. Человечески несовершенное, ошибочное и ложное заключается только в воображении и видимости мышления, а не в самом мышлении, в самом мышлении. Но как под всякой видимостью скрывается подлинная сущность, так же и под ошибкой скрывается истина.
Ибо подлинная сущность человека всегда есть разум и разумное, истинное мышление – пусть даже так часто и нередко подавляемое и затемняемое обманчивой видимостью. То, что отдельный человек осмеливается поставить себя на место своего истинного существа, поместить себя как бы за завесу видимости и доверить свои мысли истине, можно назвать верой, и в этом отношении вера и убежденность, по крайней мере, бессознательно участвуют во всяком познании истины конечного существа, так же как, наоборот, всякая вера, всякая приверженность истине самого повседневного факта, основана на том, что отдельный субъект ставит себя вне себя как такового и оказывается в единстве с общей, объективной истиной. А для этого, в соответствии со своей истинной сущностью, всякий человеческий дух должен стремиться к возвышению.
Совершенно недопустимо – замечу это вскользь – тем, кто в определенных сферах, где мысль и знание, якобы основанные на самих себе, кажутся недостаточными, привносит веру как напрашивающееся дополнение и дополняет знание внешне механическим способом, придерживаться мнения, что, напротив, как я уже сказал, вератесно связана со всякой мысльюи знанием. Мы можем научиться у скептиков тому, что даже в логический процесс мышления, не говоря уже о чувственном опыте, необходимо верить, чтобы все не растворилось в пустой игре воображения и не было бы никакой уверенности, никакого убеждения.
Из сказанного выше должно быть ясно – и мы не можем достаточно повторить и обосновать это, – что истинное, реальное мышление, мышление в себе, которое всегда присутствует в появляющемся мышлении как его сущность и задача, всегда должно мыслить только то, что истинно и реально, что есть оно само, как глубочайшее основание сокровенного ядра всякой видимости.
И наоборот, также только истинное Бытие-в-Бытии действительно мыслимо и действительно мыслится истинным мышлением. И здесь видимость мыслится как то, чем она является на самом деле, а именно как видимость более глубокой реальности.
Если мы еще больше задумаемся над тем, что истинное мышление только рационально и всегда мыслит рационально, то выяснится, что его объект, видимое, обязательно должно мыслиться как рациональное, только реально мыслимое как рациональное. Мы должны еще раз представить себе, что, собственно, означает разум и рациональное мышление. Как рациональный мыслитель как таковой – не изолированный, обособленный субъект, определяемый случайными диспозициями и обстоятельствами, а стоящий в четкой связи с общим разумом и тем самым сущностно детерминированный, так и его объект должен мыслиться не как изолированный, обособленный, а как общий, в связи с общим разумом, и только так он действительно мыслится. Изолированная, разорванная на части мысль – это не мысль, а самое большее – идея. Человек всегда мыслит в целоми в общих чертах, всегда стремится подвести индивидуальное под понятие. И каждое понятие в рациональном мышлении не стоит опять-таки оторванно и изолированно само по себе – абстрактное понимание дойдет и до этого, – а связано с более высокими понятиями и, наконец, с высшим единством всего мышления (и бытия), должно входить в него как органический член. Правда, мы не всегда сознаем эту высшую, непрерывную связь наших понятий, так как наше фактическое мышление не доводится до крайних последствий; но тем не менее эта связь всегда невольно предполагается, и всякая мысль, не желающая с ней уживаться, отвергается нашим мышлением как невозможная, как только мы достигаем этого понимания. Поэтому принцип тождества и закон противоречия справедливо рассматриваются как первый закон мышления.
Этот закон мышления мы обязательно применяем и к объекту мышления – бытию-в-себе; то, что противоречит самому себе, не может быть реальным, не может мыслиться как реально существующее. Мышление вступало бы в противоречие с самим собой, если бы оно могло мыслить противоречивые вещи, если бы противоречие не отменяло себя более глубоким единством. Противоречие, где оно, казалось бы, имеет место, должно относиться к видимости как таковой, а не к бытию-в-себе.
Кант также тщательно стремится оградить свою вещь-в-себе от противоречий и, как известно, предпочитает возлагать свои знаменитые антиномии на разум, который неправомерно применяет к вещи-в-себе идеи и законы, которые на самом деле применимы только к видимости. Поэтому шутили о его «нежности» к вещи-в-себе и несправедливой суровости к разуму, несущему на себе вину за все противоречия. Но эта «нежность» основана на том, что сам КАНТ невольно рассматривает свою вещь-в-себе как стоящую под законом разума и постольку разумную (ибо что еще должно помешать ей противоречить самой себе?), так же как его предмет возможного опыта, как я уже говорил, есть общее, задуманное, и условия его тоже общие, определяемые разумом. С другой стороны, такой «разум», который нес бы в себе неразрешимые противоречия и тем более застревал бы в абстрактной оппозиции видимости и истинной сущности, был бы не истинным, внутренним разумом, а во всяком случае лишь несовершенной его видимостью.
Поэтому то, что истинному предмету должно соответствовать истинное мышление (в то время как взаимное невысказывание с одной или, скорее, с обеих сторон выдает несовершенство и неистинность), возможно лишь в том случае, если истинное, бытие-как-есть (нуменон) мыслится как само разумное, рассудочное мышление – или, скажем сразу, как разумное мышление. На самом деле должно быть само собой разумеющимся, что то, что мыслится, всегда есть только мысль, продукт мысли: только в той мере, в какой вещи по существу мыслимы как содержащие мысль и прослеживаемые до понятий, они действительно мыслятся. И сами эти мысли мыслимы не как мертвые, усеченные рультаты, а только в их живом возникновении и обеспечении, да, наконец, в их отходе от абсолютной идеи или причины, таким образом, как мышление, так что совершенное мышление в конце концов и по существу мыслит только себя, как говорит Аристотель. Ибо только таким образом разумная мысль обретает свое понятие, только таким образом она может быть разумно мыслима как разумная мысль.
Таким образом, нуменон, согласно своему истинному понятию, будет одновременно и ноуменом, и ноэзисом – или, можно сказать, ноуменом средним и рефлексивным (Sichdenkendes).
Разумеется, в мире видимости и в кажущемся мышлении эта цель достигается лишь несовершенно и приблизительно. Вещи несовершенны, и мы несовершенны. Во всяком случае, вещи даны нам индивидуально и внешне, завернуты в твердую и темную кору внешности, под которой скрыта лежащая в них мысль и лишь с трудом и как бы наплывами втягивается в сознание нашей рефлексией. А субъективная мысль, в которую постепенно превращается в нас пережитый объект, сама сужена и загрязнена случайным наблюдением и индивидуальной ограниченностью; кроме того, будучи абстрактной, она несет на себе печать нереальности и в лучшем случае содержит лишь как бы силуэт действительной истины. Но развитие всегда шаг за шагом идет к совершенству. В целом окружающие нас вещи становятся (во многом благодаря труду человека) более рациональными, более прозрачными, более продуманными, а человеческая мысль углубляется и обобщается, растет ее реальная проницательность и способность к объективации. Что же касается конкретно субъективной жизни мысли, то каждый может заметить, что чем глубже его познание проникает в сущность вещи, тем прозрачнее и самоочевиднее становится для него эта сущность и в конце концов предстает как его собственная мысль, развившаяся из него самого и основанная в нем самом.
Из этих зачастую бесконечно малых приращений – как бы дифференциалов – рационального познания должно быть интегрировано понятие завершенного, истинного мышления.
Истинная сущность вещей, которую ищут за видимостью, поэтому не может мыслиться как мертвая, абстрактная, просто существующая вещь – она мыслится не так, – а как нуменон и как таковой nooun или nous, система живых мыслей, которые исходят из высшего, единого принципа, абсолютной идеи или причины, которая мыслит все во всем сама. Это, скажем так, должно быть мыслимо, ибо в этом как раз и заключается понятие бытия мысли, которое в конечном счете мыслимо только как мышление. Может быть, это звучит несколько заумнодиалектически, но ведь должно быть очевидно и то, что в истине не мыслимо ничего, кроме того, что подобно мышлению, согласно понятию мышления и лежащим в нем логическим законам.
Одним словом, истинная вещь в себе как нуменон есть истинный (как субъективный, так и объективный) мыслящий разум.
Об этом нуменоне, мышлении, следует теперь сказать более точно, что в конечном счете оно должно быть помещено не за, а в самих явлениях как их внутренняя субстанция и душа. Искать его за внешними проявлениями – это еще несовершенная концепция и абстракция, которая может иметь свое (временное) значение, но в конце концов должна быть аннулирована. Внешность как таковая не может быть отдельной; она обязательно должна быть внешностью чего-то, что в ней проявляется; а это что-то, что проявляется во внешности, что есть в себе, есть, как мы видели, именно идея, истинная мысль, которая мыслит себя. И в понятии последнего опять-таки заключается не в том, чтобы оставаться абстрактно замкнутым в себе, а в том, чтобы появиться, выйти из себя в видимость и чер нее вернуться в себя. Ведь мыслящая мысль должна мыслиться не как мертвое, абстрактное тождество, а как живое развитие, точнее, как то, что само себя развивает; поэтому она должна устанавливать различия в себе и отличать себя от себя в частности, сталкиваясь с объектом или объектами и являя себя в них – в этой мгновенной конечности – узнавая свой объект или объекты как установленные ею и тем самым себя в них, возвращаясь к себе.
О том, что такова природа и сущность истинной живой мысли, мы сами можем хотя бы приблизительно судить по нашей появляющейся мысли. Мы осознаем свое мышление только тогда, когда стремимся постичь мысль, лежащую в явлении, которое нам противостоит, но которое только тогда проявляет себя как реальная мысль, только тогда действительно мыслится нами, когда мы признаем его своей собственной мыслью, развивающейся в нашем мышлении. Обычно только мышление, окрепшее и возмужавшее в рультате этой работы над чужими объектами, которые оно постепенно стремилось присвоить, способно погрузиться в себя и быть полностью единым с самим собой в своих мыслях. От человеческого мышления теперь следует абстрагироваться, что ему, как конечной вещи, объект сначала дается извне и что, только содрав, так сказать, темную, отделяющую кору внешности, оно может прийти к мыслям как к своим собственным, к самому себе. Для мысли в себе, для абсолютно свободного, бесконечного, объект, в котором она предстает перед собой, не будет дан извне, но, заданный ею самой, будет врожденно ее собственной мыслью, в которой она б усилий и как бы мгновенно узнает себя, она есть сама. Для истинного, свободного мышления внешняя по отношению к себе видимость и бытие есть лишь сиюминутная и сразу же аннулируемая вещь – как она есть в принципе для всякого мышления, даже для конечного, которое, даже если оно думает о чем-то другом, все равно по существу думает о себе, о своей собственной мысли, в этой другой вещи, только здесь видимость кажется имеющей определенную твердость и постоянство и аннулируется лишь постепенно – и никогда полностью.
ЛИТЕРАТУРА – Marcus Jacob Monrad, Das Ding an sich als Noumenon, Archiv fur systematische Philosophie, Vol. IX, Berlin 1897.
АДОЛЬФ ФИК
Мир как воображение
Господа!
На церемонии основания нашего университета в этом году вы слышали, как ректор, господин ЭДЕЛЬ, в своей речи сетовал на упадок общенаучных и особенно философских исследований.
«В прежние времена, – пишет он, – некоторые из которых еще не исчли из моей памяти, дело обстояло нередко иначе.
«Философские лекции не были блюдны, аудитории великих немецких философов почти всегда были полны, причем не только студентами первого курса, но и многочисленными слушателями всех факультетов, а также образованными людьми зрелого возраста».
«Поэтому я горячо желаю возрождения философских занятий не только в интересах лучшего общего образования, но и для интеллектуального развития и связи столь широко разросшегося круга специальных наук, которому почти угрожает опасность раздробления».
Я хотел бы сделать все возможное, чтобы выполнить это, бусловно, весьма обоснованное пожелание, и поэтому попытаюсь связать физиологическую проблематику с философскими аспектами с помощью нескольких кратких вводных замечаний.
Жалобы на пренебрежение философскими исследованиями звучат и во многих других кругах. Молодых студентов обвиняют в том, что они предаются банальному хлебопашеству, не заботятся о высших, чисто идеальных интересах, заражены якобы материальным чувством настоящего. Я считаю, что мы можем снять с себя этот упрек и возложить вину за пренебрежительное отношение к философии повсеместно, а особенно в научных кругах, исключительно на тот путь развития, который прошла сама эта наука в Германии.
Ведь после того, как в конце прошлого века удивительные труды Канта обратили все взоры на философию, многие таланты более низкого порядка по понятным причинам обратились к литературному творчеству в этой области. Каждый стремился превзойти своего предшественника в смелости и кажущейся глубине рассуждений, пока, наконец, в 1920-1930-е годы в философской литературе не стало преобладать настоящее шарлатанство и пустословие. Это не могло не разочаровать образованную публику. Вслушайтесь, например, в следующие фразы, в которых уважаемый в свое время философ рассуждает на тему, которая должна занимать нас в ближайшем будущем:
«Чувства и теоретические процессы, таким образом, являются
– чувство механической сферы, тяжести, связности и ее изменения, теплоты, ощущения как такового;
– чувства противоположности, конкретной воздушности, а также одинаково реализованной нейтральности конкретной воды и противоположностей растворения конкретной нейтральности – запаха и вкуса;
– чувство идеальности также является удвоенным, поскольку в нем, как в абстрактном отношении к самому себе, конкретное, которого оно не может не иметь, распадается на два бразличных определения
а) чувство идеальности как проявление внешнего для внешнего, – света вообще и более пристально того света, который определяется в конкретной внешности, цвета, и
в) чувство проявления внутренности, которая дает о себе знать как таковая в своем выражении, – звука, – лица и слуха».
«Здесь указывается способ, которым троичность понятийных моментов переходит в дробность по числу; более общая причина, по которой здесь происходит этот переход, заключается в том, что животный организм есть редукция распавшейся неорганической природы в бесконечное единство субъективности, но в то же время и ее развитая тотальность, моменты которой, поскольку она еще природная субъективность, существуют особо.» (1)
Когда в философских аудиториях читались такие высшие глупости, то вполне понятно, что они постепенно пустели и из них уходили особенно те, кто привык к логическому мышлению благодаря занятиям естествознанием.
Не могло не случиться так, что значительная часть образованных людей была таким образом отпугнута от всякого философствования и брошена в объятия грубого материализма. С таким наивным мировоззрением, которое заключается в простом отсутствии философской рефлексии, мыслящий человек не может долго успокоиться. Поэтому в настоящее время мы наблюдаем всеобщее пробуждение потребности в философии, и повсеместно люди справедливо возвращаются к нашему великому духовному герою Канту. Действительно, его «Критика чистого разума», которую я боговорочно объявляю величайшим достижением мыслящего человеческого духа, и сегодня в большей степени удовлетворяет философскую потребность, чем любое произведение, созданное позднее.
Основания кантовской философской позиции также должны стать предметом этих вводных рассуждений. Отношение этого предмета к науке, которую нам предстоит здесь рассматривать, и особенно к той ее части, с которой я намерен начать наш курс на этот раз, самое непосредственное и самое близкое. Можно сказать, что кантовская позиция в философии – это позиция физиологическая. Посмотрим теперь, как мы к ней пришли.
Для непредвзятого человека окружающий материальный мир абсолютно неизменен. Существование ярко светящего, горячего солнца, твердой земли, прохладной воды вне и нависимо от его сознания имеет для него самую неопровержимую определенность. Но не нужно долго размышлять, чтобы заметить, что есть нечто более определенное, а именно существование моего собственного сознания; ведь если бы это было не так, я бы вообще ничего не знал о существовании телесного мира. Достаточно произнести эту фразу, чтобы ее поняли, и сразу становится ясно, что собственное сознание – это единственно правильная и единственно возможная отправная точка философствования. Как замечательно, что потребовались тысячелетия, чтобы прийти к этому пониманию! Именно КАРТИУСсвоим знаменитым «Cogito ergo sum"сделал сознание мыслящего субъекта отправной точкой философии.
Попробуем представить себе собственное сознание в том состоянии, в котором оно, возможно, находилось в момент своего пробуждения. Первым его содержанием, очевидно, могло быть не что иное, как ощущения, причем ощущения разного рода: ощущение света, ощущение чувства, ощущение звука, боли, удовольствияи так далее.
Ощущения приходят, уходят, меняются б нашего участия. Но они же – е д и н с т в е н н о е содержание нашего сознания, которое ведет себя подобным образом и, соответственно, объявляет себя чем-то не созданным самим сознанием, а навязанным ему. Сознание, таким образом, позиционирует внешний объект или внешний предмет, присутствие или, лучше сказать, воздействие которого на субъект вызывает ощущения. Хотя эта деятельность обычно осуществляется б всякого фактического обдумывания, тем не менее ее можно назвать логическим выводом, а способность субъекта осуществлять эту деятельность мы называем» пониманием». Б него мы, очевидно, никогда не пришли бы к предположению о существовании внешнего предметного мира. Ощущения появлялись бы в сознании только как состояния самого субъекта.
Это простое соображение самым неопровержимым образом решает вопрос, на который в разных смыслах отвечают видные мыслители, а именно: заложено ли убеждение в причинной связи изменений в самой природе понимания, является ли, как принято выражаться в философском языке, знание о причинной связи знанием a priori.
Великие английские мыслители LOCKEи HUMEсчитали, что убежденность в наличии универсально необходимой связи между причиной и следствием приобретается лишь постепенно, путем наблюдения за ходом внешних явлений, и это мнение разделяет также известный английский философ ДЖОН СТЮАРТ МИЛЛ, который жив и поныне. Кант же отстаивал априорность причинного закона. Как ни странно, самый простой и убедительный аргумент, заключающийся в только что приведенном соображении, от него ускользнул. Только ШОПЕНГАУЭР и, вслед за ним, но нависимо от него, ХЕЛЬМХОЛЬЦ подчеркнули его.
«Совершенно очевидно, – говорит он, – что мы никогда не можем прийти к идее внешнего мираиз мира наших ощущений иначе, чем путем умозаключения от изменяющихся ощущений к внешним объектам как причинам этих изменений, даже если после формирования идеи внешних объектов мы уже не задумываемся над тем, как мы пришли к этой идее, тем более что умозаключение кажется настолько самоочевидным, что мы даже не осознаем его как новый рультат. Соответственно, мы должны признать и закон причинности, в силу которого мы делаем вывод от следствия к причине, как закон нашего мышления, предшествующий всему опыту».
Хельмхольц также отмечает упомянутое выше мнение английских философов, «что эмпирическое доказательство закона достаточной причины чрвычайно слабо. Ведь число случаев, в которых, как мы полагаем, мы можем полностью доказать причинную связь природных процессов, сравнительно невелико по сравнению с числом случаев, в которых мы еще не в состоянии это сделать.
«Наконец, – говорится далее в цитируемом отрывке, – причинный закон также по существу носит характер чисто логического закона в том смысле, что выводы, вытекающие из него, касаются не реального опыта, а его понимания, и что поэтому он никогда не может быть опровергнут никаким возможным опытом. Ибо если мы где-нибудь потерпим неудачу в применении закона причинности, мы не заключим из этого, что он неверен, а только то, что мы еще не вполне знаем комплекс причин, способствующих данному явлению».
Теперь внешние объекты, которые интеллект в силу закона причинности устанавливает в качестве причин ощущений, он поначалу довольно наивно приписывает качествам самих ощущений. Объект, вызывающий ощущение света или яркости, он называет «ярким», объект, вызывающий, например, определенное вкусовое ощущение, – «сладким». Когда в коже возникает определенный комплекс ощущений, мы говорим о наличии твердого предмета и т. д. Если при определенных обстоятельствах ощущения возникают в различных сенсорных областях одновременно или в определенной закономерности, то мы приписываем их природу одному и тому же объекту как его различные свойства. Например, человек, обладающий определенным комплексом ощущений света, вкуса и чувства, скажет: у меня в руке красное, сладкое, холодное яблоко.
Не нужно много головной боли, чтобы признать, что данные предикаты, такие как сладость, твердость, краснота и т.д., не могут быть предикатами реальных сущностей, что они скорее относятся только к образам восприятия внутри воспринимающего субъекта. Если это не кажется вам очевидным, вспомните, что то же самое яблоко, которое сейчас на вкус преимущественно сладкое, в другой раз кажется более кислым, если перед этим вы съели сахар. Тело, которое иначе называлось бы красным, может показаться бледно-желтоватым, когда глаз утомлен более ярким пурпуром. Одно и то же тело часто кажется теплым на ощупь одной рукой и холодным – другой. Нет необходимости приводить другие примеры. В целом легко заметить, что качества, приписываемые объектам, существенно обусловлены состоянием воспринимающего субъекта, так что совсем не абсурдно предположить, что одни и те же объекты кажутся другому субъекту совершенно иными. Если же качество чувственного восприятия действительно обусловлено природой внешней реальности, то она, во всяком случае, была бы недоступна нашему познанию, поскольку нам дано только взаимодействие другого и нашего чувства, именно ощущения.
Как я уже говорил, легко понять, что качества, о которых мы до сих пор говорили, такие как цвет, вкус и т.п., не могут быть качествами вещей-в-себе. Трудно, однако, полностью осознать, что пространственные и временные отношения и все, что с ними связано, например, движение, жесткость и т.д., не принадлежат вещам нависимо от нашего мышления как такового, а что пространство и время – это лишь самые необходимые и общие формы воображения, обусловленные природой нашего интеллекта. Об этом уже догадывался глубокомысленный Беркли, но одно из великих интеллектуальных деяний Канта состоит в том, что он снабдил доказательство доказательством, ничуть не уступающим математическому.
Первое основание для доказательства содержится уже в том соображении, которое мы поставили во главу угла. Мы видели, что наш интеллект, руководствуясь присущим ему законом причинности, устанавливает объект как причину каждого ощущения. Этот объект в самом этом акте сразу же получает место в пространстве и времени; как идея закона причинности, так и идеи пространства и времени должны уже существовать в нашем интеллекте до опыта, ибо иначе объекты не могли бы быть в нем размещены. Это станет яснее, если вспомнить, что уже при первом ощущении, возникающем в сознании новорожденного или, скорее, нерожденного ребенка, объект, несомненно, помещается в пространство, что, следовательно, идея пространства уже должна присутствовать там, как бы являясь компонентом идеи причинности. Действительно, закон причинности гласит, что никакое изменение не может произойти в одной вещи б существования второй, отдельной от нее вещи, которая действует на нее. Таким образом, в идее причинности уже заложено представление о внешнем, т.е. о пространстве, а поскольку оно, как уже было показано, априорно, то и должно быть таковым. Утверждение, что представление о пространстве априорно, не следует, однако, понимать так, будто только что пробудившееся сознание уже ориентируется в этом пространстве и способно указать каждому представлению его точное место в нем. Только представление о пространстве в целом уже есть, поскольку объект мыслится как внешний.
Вторая причина доказательства, которую особенно подробно раскрывает Кант, заключается в том, что мы познаем свойства пространства и времени a priori, т.е. нависимо от всякого опыта, что было бы невозможно, если бы пространство и время существовали вне нашей способности восприятия. То, что и сегодня находятся серьные мыслители, объявляющие науку о пространстве и времени, т.е. математику, наукой опыта, показывает, насколько трудно избавиться от предубеждения, что пространство и время – это атрибуты вещей самих по себе.
Опять же ДЖОН СТЮАРТ МИЛЛ в своей системе дедуктивной и индуктивной логики, которая по праву стала столь известной, пытается доказать, что аксиомы геометрии являются эмпирическими посылками. Но если внимательнее присмотреться к его доводам, то можно обнаружить в них даже скрытую уступку в том, что концепция пространства все-таки априорна. В пятом параграфе пятой главы он говорит:
«Основа геометрии, таким образом, опиралась бы на непосредственный опыт, даже если бы опыты (которые в данном случае сводятся к внимательному наблюдению) проводились только с тем, что мы называем нашими представлениями, т.е. с фигурами в нашем уме и с внешними объектами. Во всех системах экспериментов мы берем некоторые объекты для того, чтобы они служили представителями всех тех, которые на них похожи; и в данном случае условия, позволяющие реальному объекту представлять свой класс, полностью (!) выполняются объектом, существующим только в нашем воображении. Не отрицая, таким образом, возможности того, что мы можем верить, просто думая о двух прямых линиях и не видя их, что они не могут заключать в себе пространство, я утверждаю, что мы верим в эту истину не просто на основании нашего воображаемого видения, но потому, что мы знаем, что воображаемые линии выглядят точно так же, как реальные, и что мы можем выводить из них реальные линии с такой же уверенностью, как из одной реальной линии – другую реальную линию».
Разве не все признается в этих словах? В самом деле, самый откровенный материалист, который в простоте своей принимает наши представления за верные образы вещей, никогда не станет утверждать о фактически эмпирическом представлении, что оно полностью охватывает свой объективный предмет, так что, не допустив далее действия предмета на органы чувств, никогда нельзя отделаться от простого представления, которое так или иначе имеет фактически эмпирическое, т.е. данное чер ощущения, содержание, даже если бы это было представление о простейшей капле воды. Более точное исследование с помощью органов чувств всегда научит нас чему-то новому и еще раз новому, чего мы никогда не могли бы вывести из ранее полученного представления. Совсем иначе, как признает Милль в процитированных предложениях, обстоит дело с представлениями о пространственных образованиях как таковых. Они готовы и ждут в нашем сознании, и прикосновение, взгляд или слух на соответствующий материальный объект не могут научить нас ничему о пространственных отношениях, что мы не могли бы вывести из идеи в любом случае.
Думаю, отсюда ясно, что наши знания о свойствах пространства и ограниченности его частей не являются эмпирически приобретенными, что они скорее основаны на изначальной природе нашего интеллекта. Конечно, это не означает, что опыт не играет никакой роли в развитии осознанного знания о свойствах пространства. Опыт, т.е. прежде всего изменяющиеся ощущения, дает возможность и заставляет сознание испытывать потребность прояснить то, что как бы дремлет в нем.
Наконец, весомый аргумент можно выразить в нескольких словах. Все объекты мира можно помыслить, кроме пространства и времени. Отсюда ясно, что они не соответствуют вещам, отличным от нас, ибо то, что я совершенно не могу помыслить, должно принадлежать самому мыслящему субъекту.
Как только человек ясно понял, что пространство и время – это только необходимые формы, под которыми вещи могут предстать в качестве объектов для нашего восприятия, становится ясно, что и все остальные предикаты, которые мы приписываем вещам и их отношениям, такие как расстояние, сила, инерция, масса, движение, также субъективно обусловлены природой нашего понимания, поскольку формы восприятия пространства и времени лежат в основе всех этих предикатов.
Мне кажется, что к этому же пониманию можно прийти и другим путем, возможно, даже более практичным, поскольку он не требует отказа от укоренившихся заблуждений на первом этапе. Действительно, если встать на наивную точку зрения материализма, принимающего за чистую монету, так сказать, мир чувств, построенный рассудком, то, приближаясь к этому миру чувств с помощью рассудка, мы расчленяем его, как это делает естествознание. Физика вскоре учит нас, например, что цвета не так уж серьны, что тело оказывается окрашенным в тот или иной цвет в зависимости от того, лучше ли оно отражает тот или иной вид колебаний тонкой среды. Та же наука показывает нам, что непроницаемость обусловлена силами отталкивания, что теплота обусловлена небольшими, очень быстрыми движениями мельчайших частиц друг относительно друга. Химия показывает даже, что самое однородное тело состоит из бесчисленного множества разнородных частей, которые под действием сил поддерживаются в равновесии в определенных положениях. Если довести естествознание до последних следствий, то материя на наших глазах распыляется на атомы, т.е. на абсолютно нерастяжимые эффективные точки, рассеянные в пространстве, которые своим движением и взаимным влиянием друг на друга порождают все явления.
Воздействие атомовдруг на друга или их силы – это абсолютно только силы движения, притяжения или отталкивания, т.е. два атома имеют тенденцию либо приближаться друг к другу, либо удаляться друг от друга. Этим вся сущность атома полностью исчерпывается. Атом, в сущности, есть не что иное, как система бесконечно многих направлений, которые, подобно направлениям пучка лучей, пересекаются в одной точке, и действие двух таких систем имеет только один геометрический смысл, а именно: общая точка пересечения одной системы стремится приблизиться или удалиться от точки пересечения другой.
Но нет ли в точке пересечения чего-то особенного? Ведь именно в ней, согласно общепринятым представлениям, находится сам атом. Правильнее, конечно, было бы рассматривать всю систему направлений сил как атом и, следовательно, думать, что он присутствует вде в пространстве. В самом деле, не следует ли сказать, что некоторый атом Солнца присутствует и здесь, на Земле, поскольку здесь он оказывает притягивающее действие, направленное к Солнцу.
На вопрос, нет ли в общей средней точке направлений сил атома, в центре притяжения или отталкивания, чего-то иного, чем простая геометрия, некоторые, вероятно, ответят, что здесь находится масса атома. Но если присмотреться к понятию массы, то оно тоже сразу же растворяется в чисто геометрических соотношениях. Одному из двух центров сил мы приписываем во столько раз большую массу, чем другому, во сколько раз меньше скорость, возникающая в нем при взаимном действии, чем в другом. Например, мы приписываем Солнцу в 319 000 раз большую массу, чем Земле, потому что в рультате взаимного притяжения этих двух центров действия Солнце за одну секунду приобретает в 319 000 раз меньшую скорость, чем Земля. То, что справедливо для общей массы крупнейших атомных комплексов, естественно, справедливо и для массы отдельного атома.
Таким образом, если проследить путь естествознания с материалистической точки зрения до его конечного рультата, то мы увидим, как столь массивный на первый взгляд материальный мир превращается в систему абсолютно чистых геометрических линий, меняющих в течение времени свое взаимное расположение по нерушимым законам. Не остается ничего качественного, что имело бы самостоятельное значение. Каждая из них имеет смысл только по отношению к другой, в последнюю очередь к воспринимающему субъекту. Фактически все оставшиеся определения – это лишь взаимные расстояния точек, изменяющиеся по закону, так как определение силы и массы равносильно определению скорости изменения этих самых расстояний.
Очевидно, что распознанный таким образом материальный мир уже нельзя принимать за то, за что он принимался вначале, а именно за верный образ совместного существования реальных сущностей, которые продолжают существовать именно так, даже когда прекращается сознание, в котором этот образ рассматривается. Таким образом, досмотренный до дна, материальный мир предстает перед нами таким, каков он есть на самом деле, – как паутина нашего собственного интеллекта, закрученная в свои особые формы причинности, пространства и времени.
Конечный рультат наших наблюдений с двух сторон, а именно, что весь материальный мир есть не что иное, как наше воображение, никогда не был выражен более ясно и ярко, чем Хельмгольцем во введении к третьему разделу его «Физиологической оптики». Он сказал: «Наши представления и идеи – это эффекты, которые оказывают на нашу нервную систему и наше сознание увиденные и представленные объекты. Всякий эффект, по самой своей природе, обязательно зависит как от природы агента, так и от того, на что он действует. Требовать идею, которая воспроизводила бы неизменную природу воображаемого и, следовательно, была бы истинной в абсолютном смысле, означало бы требовать эффекта, который был бы совершенно нависим от природы объекта воздействия, что было бы явным противоречием. Таковы, стало быть, наши человеческие представления и таковы будут все представления разумного существа, которые мы можем себе представить, – образы предметов, природа которых существенно зависит от природы воображающего сознания и обусловливается его особенностями.
«Я думаю поэтому, что вообще не может иметь никакого смысла говорить о какой-либо иной истине наших представлений, кроме практической. Наши представления о вещах могут быть не чем иным, как символами, естественно данными знаками для вещей, которыми мы учимся пользоваться для регулирования наших движений и действий. Когда мы научимся правильно читать эти символы, мы сможем с их помощью организовать свои действия так, чтобы они имели желаемый успех, т.е. чтобы возникали ожидаемые новые ощущения. Другое сравнение между идеями и вещами не только не существует в реальности – с этим согласны все школы, – но и вообще не мыслимо и не имеет смысла. Именно последнее обстоятельство важно и необходимо осознать, чтобы выбраться из лабиринта противоречивых мнений. Спрашивать, является ли представление о столе, его форме, прочности, цвете, весе и т. д. истинным само по себе, вне связи с практическим использованием этого представления, и совпадает ли оно с реальной вещью, или же оно ложно и основано на обмане, имеет столько же смысла, сколько спрашивать, является ли тот или иной тон красным, желтым или синим. Воображение и воображаемое, очевидно, принадлежат к двум совершенно разным мирам, которые допускают не больше сравнений друг с другом, чем цвета и звуки или буквы книги со звуком слова, которое они обозначают».