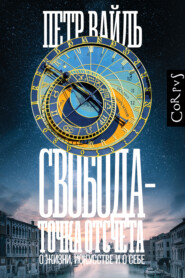скачать книгу бесплатно
В поисках Бродского
История нашего знакомства с Иосифом Бродским начинается в декабре 1977 года. Я в это время жил в Риме, ожидая оформления документов для переезда в Америку. И вот однажды в русской газете прочитал, что в Венеции проходит биеннале инакомыслия. Сел на поезд и отправился в Венецию. И здесь имел удовольствие и счастье познакомиться с Синявским, с Бродским и с Галичем, который умер через две недели в Париже. Так вот, приехал на венецианскую биеннале как нормальный советский человек: мне казалось, что для участия в этом мероприятии нужны специальные аккредитации, пропуска и тому подобное. На деле оказалось все иначе. Я пришел в оргкомитет и стал что-то объяснять девушке на своем тогда чудовищном английском, и она отвечала мне примерно на таком же. Но в какой-то момент, взглянув в свои списки, стала сама приветливость и предупредительность: вам, господин Вайль, сказала она, предоставляется отель с полным пансионом на три дня за счет оргкомитета. Это потом выяснилось, что несчастная девица перепутала меня с известным диссидентом Борисом Вайлем, который после выезда из СССР жил в Копенгагене, числился в приглашенных гостях биеннале и по стечению обстоятельств не смог приехать в Венецию. Но я-то этого не знал. И, что характерно, все произошедшее представлялось мне тогда совершенно естественным: мол, на Западе к людям и должны относиться именно так. Короче говоря, проживая на халяву в Венеции, я активно участвовал в мероприятиях биеннале, ходил на «круглые столы», посещал экспозиции и выставки.
В один из дней моего счастливого пребывания здесь, в кулуарах биеннале, я увидел, что какой-то человек пытается пройти, а служитель его не пускает. Служитель говорил по-итальянски, а посетитель – только по-английски. К тому времени я жил уже четыре месяца в Италии и довольно много про себя воображал. Поэтому посчитал себя достаточно знающим язык, чтобы помочь человеку. И, что характерно, помог, о чем-то мы там со служителем договорились. Во всяком случае, человека пропустили. Мы познакомились. Его звали Иосиф Бродский. Стихи его я, разумеется, знал, но откуда ж мог знать, как он выглядит! Поговорили. Бродский сказал тогда, что русскому человеку лучше жить если не в России, то в Америке. Потом я много раз вспоминал эти его слова. Вероятно, он имел в виду и многонациональность, и масштаб территории – то, что было похоже на СССР…
А примерно через день Бродский читал свои стихи в какой-то из аудиторий биеннале. Я впервые слушал его неподражаемое литургическое пение стихов…
Он жил тогда в «Лондре» – отеле на главной набережной Венеции, а его приятельница, американская эссеистка Сьюзан Зонтаг, – в отеле «Гритти». Там неподалеку знаменитый «Харрис-бар», где бывала куча знаменитостей, в частности Хемингуэй, а вот теперь и Бродский. Во всяком случае, по его же свидетельству, именно в этом баре он встретил Рождество 77-го года вместе с Сьюзан Зонтаг. Наверняка они пили коктейль «Беллини» – фирменное изобретение «Харрис-бара»: умелая смесь шампанского и натурального сока белого персика. Хотя Бродский любил и кое-что покрепче – граппу, например. Не исключено, что они ели еще одно изобретение «Харрис-бара», а точнее его хозяина, синьора Чиприани, владельца самого роскошного отеля в Венеции. Там останавливаются голливудские звезды, приезжающие на Венецианские кинофестивали. Так вот, однажды знакомая Чиприани, знаменитая актриса, пожаловалась ему на то, что доктор запретил ей есть любое приготовленное мясо. И великодушный Чиприани специально для нее изобрел блюдо, ставшее потом очень популярным. Это тончайше нарезанные листы сырой говядины под оливковым маслом с лимоном и пармезаном. Блюдо получило имя великого венецианского художника Карпаччо. Не исключено, что в Рождество 1977 года Бродский, очень любивший мясо в любых видах, и Сьюзан Зонтаг ели карпаччо здесь, в «Харрис-баре».
Вот что известно точно: в один из этих дней она позвонила ему и пригласила посетить вдову известного поэта Эзры Паунда. Паунд был субъектом фашиствующим, сотрудничал с Муссолини. Бродский относился к нему неприязненно, однако на встречу со вдовой, известной итальянской скрипачкой Ольгой Радж, пошел. Я говорю об этом визите только потому, что благодаря ему возникло это легендарное название знаменитого эссе Иосифа – Fondamenta degli Incurabili – «Набережная Неисцелимых». Вот как у него написано: «С фашистами – молодыми или старыми – я, по-моему, никогда не сталкивался, зато со старыми коммунистами имел дело не раз и в доме Ольги Радж, с этим бюстом Эзры на полу, почуял тот самый дух. От дома мы пошли налево и через две минуты очутились на Fondamenta degli Incurabili».
С этой набережной связана одна загадка. Многие считают, что ее не существует. Действительно, вы нигде не найдете этого названия. И все-таки это неправильно. Посмотрите вот сюда. Видите полустертую надпись на облупившейся стене? Второе слово относительно понятно – Инкурабили. А первое почти стерто. Остался фрагмент, что-то вроде «атаре». Что бы это значило? Давайте спросим у местных жителей. Вон видите, старик выходит из дома как раз на набережную…
Ага! Он говорит, что «атаре» – это часть слова «затаре», на венецианском диалекте «дзаттере» – «набережная». Но вы послушайте, как он сам называет это место! Именно «Фондамента дельи Инкурабили». Стало быть, у Бродского все правильно.
Знаете, в Нью-Йорке он дал мне почитать это эссе в рукописи – по-английски. Заглавие же было по-итальянски: Fondamenta degli Incurabili. В разговоре Бродский сказал: по-русски будет «Набережная Неизлечимых». (Это потому, что в этом месте когда-то существовал госпиталь, где содержались неизлечимые сифилитики.) Я тогда сказал, что «неисцелимых» звучит лучше «неизлечимых». Он тут же согласился: да, так лучше. Американские издатели попросили его изменить итальянское название, и в английском варианте эссе стало называться Watermark (марка глубины). У меня хранится экземпляр этой книги с дарственной надписью: «От неисцелимого Иосифа».
А вот и еще одна достопримечательность. Видите, буквально в ста метрах от набережной Неисцелимых дом под номером 923. Здесь и по сей день живет Роберт Морган, друг Бродского, которому посвящено это эссе, американский художник, однажды приехавший в Венецию да так и оставшийся здесь. Он и сейчас пишет свои работы и удачно их продает. Они сошлись с Бродским, как ни странно, на общем интересе к истории мировых войн и работе спецслужб. Почему-то Иосифа это интересовало. Короче, с Морганом им было о чем поговорить. Постепенно они подружились и часто встречались здесь, в кафе «Нико», рядом с подъездом дома Роберта. Кстати, он же привел Иосифа и в ресторанчик «Локанда Монтин», где висит его картина. Это в пяти минутах от дома 923. Вскоре «Монтин» стал одним из любимых заведений Бродского.
Когда я в очередной раз уезжал в Венецию, он спросил меня, где я обычно обедаю. И со свойственным ему вниманием и дотошностью дал три любимых адреса, среди которых был и этот. Еще один – траттория «Алла Риветта» – неподалеку от Сан-Марко, где подают чикетти – маленькие бутербродики, которые Иосиф обожал. А последний адрес понравился лично мне больше других – харчевня «Маскарон», неподалеку от церкви Санта-Мария-Формоза. Там на простых деревянных столах бумажные скатерти, с потолка свисают лампочки на плетеных проводах, а в меню всего три-четыре блюда. Не хочешь – не ешь. Зато если захочешь – не пожалеешь. Иосифу нравилась эта непритязательность и отсутствие помпы, мне тоже.
Ну вот, пожалуй, и все о набережной Неисцелимых. Посмотрите напоследок через пролив на соседний остров Джудекку. Это, пожалуй, единственное место в Венеции, которое напоминает Неву. Может быть, поэтому оно было дорого ему. Не знаю, он ничего не говорил об этом.
В первый раз Иосиф приехал в Венецию тридцать пять лет назад, зимой 1973 года. Его встретили и отвезли в его первое венецианское пристанище – пансион «Академия». Об этом у него есть свидетельство в «Набережной Неисцелимых»: «Мы высадились на пристани Accademia, попав в плен твердой топографии и соответствующего морального кодекса. После недолгих блужданий по узким переулкам меня доставили в вестибюль отдававшего монастырем пансиона, поцеловали в щеку – скорее как Минотавра, мне показалось, чем как доблестного героя, – и пожелали спокойной ночи… Пару минут я разглядывал мебель, потом завалился спать».
Тридцать пять лет назад этому пансиону очень повезло: тут поселился человек, который написал в том же 73-м свою знаменитую «Лагуну»:
Три старухи с вязаньем в глубоких креслах
толкуют в холле о муках крестных;
пансион «Академия» вместе со
всей Вселенной плывет к Рождеству под рокот
телевизора…
В 93-м я останавливался здесь и послал Бродскому открытку из этого пансиона, чтобы ему было приятно.
Так же повезло отелю «Лондра» на набережной Скьявони: здесь в 77-м Иосиф написал стихотворение «Сан-Пьетро» об одноименном венецианском островке в районе Кастелло, который ему очень нравился. Там редко бывают туристы, это такие рабочие рыбацкие кварталы Венеции, чем-то напоминающие любимую им Малую Охту в Питере. Тут старые обшарпанные дома с высокими трубами «фумайоли», древний собор Сан-Пьетро с покосившейся колокольней. С половины пятнадцатого до начала девятнадцатого века он, а не Сан-Марко, был кафедральным собором города. Стихотворение Бродского о знаменитом венецианском тумане – «неббия»:
…Электричество
продолжает в полдень гореть в таверне.
Плитняк мостовой отливает желтой
жареной рыбой…
…………………………
За сигаретами вышедший постоялец
возвращается через десять минут к себе
по пробуравленному в тумане
его же туловищем туннелю…
Он любил бродить по этим улочкам, в отдаленной части Венеции, мимо северной стены «Арсенала», от которой виден остров Сан-Микеле, мимо длинной стены госпиталя к площади Сан-Джованни и Паоло:
…Держась больничной стены, почти задевая ее левым плечом и щурясь на солнце, я вдруг понял: я кот. Кот, съевший рыбу. Обратись ко мне кто-нибудь в этот момент, я бы мяукнул. Я был абсолютно, животно счастлив.
Венеция – кошачий город, символ ее – лев, семейство кошачьих. Иосиф сам обожал котов, а его жена Мария звала их домашнего кота Миссисипи и Иосифа – котами. Эй, коты, идите сюда! Что характерно, и тот и другой откликались немедленно. Он любил повторять вслед за Ахматовой, как можно определять людей: «Мандельштам – кошка – кофе» или «Пастернак – собака – чай». Сам он, конечно, был «Мандельштам – кошка – кофе». Да и я, честно говоря, тут ближе к нему. Как и во многом другом.
Нет, не могу сказать, что мы были с Иосифом друзьями. Ведь дружба – это отношение равных. Вот с Довлатовым мы дружили. А в наших отношениях с Иосифом я всегда смотрел снизу вверх. Невозможно было утратить ощущение, что рядом с тобой гениальный человек. Однажды девушка из нашей компании, с которой Бродский был едва знаком, пригласила его на свой день рождения. Это было еще до нобелевки. И он совершенно неожиданно приехал. Человек двадцать толпились в одной двадцатиметровой комнате. Причем девятнадцать человек в одной половине и один – Иосиф – в другой. Там, на его половине, был какой-то круг от света лампы на полу, и он задумчиво чертил по нему ногой. Понимаете, никто не решался к нему подойти и заговорить. Потом я набрался смелости, подошел, и мы заговорили об античной поэзии. В любой компании, где он появлялся, мгновенно становилось ясно: произошло нечто значительное. Таков был масштаб этой личности. <…>
Думаю, что и Мария в полной мере понимала, что ее муж – гениальный поэт. Она увидела и услышала его впервые на его публичном выступлении в Париже. Потом написала ему письмо. И они долгое время переписывались. Не по электронке (тогда еще это не было распространено), а на бумаге, при помощи конверта, адреса, написанного от руки, и почтового ящика. (Кстати, Иосиф так и не освоил компьютер, пользовался пишущей машинкой до конца жизни.) И вот, когда после этой длительной переписки они встретились, Иосиф влюбился сразу же. Он увез ее в Швецию, и через два месяца они поженились в Стокгольме. Она потрясающе красива, такая мадонна Беллини с великолепными тяжелыми волосами. Дома они с Иосифом говорили на английском, хотя Мария знала русский (мать ее из рода Трубецких-Барятинских, а отец – итальянец; Винченцо Соццани был высокопоставленным управляющим в компании «Пирелли»). Когда у Бродских бывали гости из России, они говорили по-русски. И только если разговор касался сложных тем, Мария извинялась и переходила на английский, так ей было легче. Она прекрасно образованна, окончила Венецианскую консерваторию, хорошо знает музыку. Однажды мы заговорили об Альбане Берге, и я упомянул, между прочим, даты его рождения и смерти. Иосиф переспросил: вы что, хотите сказать, что знаете даты жизни Альбана Берга? Этого просто не может быть! Мария, ты слышишь, он утверждает, что помнит даты рождения и смерти Альбана Берга. Проверь, пожалуйста!
Это было для него характерно. Он не хотел мириться с тем, что кто-то может знать то, чего он не знает. Сам-то Иосиф был феноменально образованным и осведомленным человеком, не чета мне. Но с ним бывало такое: не любил, если кто-то о чем-то знал больше. Однажды мы поспорили о Чарли Паркере. Бродский утверждал, что Паркер играл на тенор-саксофоне, но я-то знал точно, что на альте. Короче, поспорили на бутылку хорошего вина. Через некоторое время я принес ему доказательства, но бутылку хрен получил. Понятное дело, он не проигрыша пожалел: вообще был очень щедрым и широким человеком… Но ту историю он как-то замотал: не любил проигрывать.
Этот дворец на Рио де Верона принадлежит графу Джироламо Марчелло, представителю одного из самых видных патрицианских родов Венеции. У него в предках дож и два композитора, именем одного из которых – Бенедетто Марчелло – названа Венецианская консерватория. Здесь Иосиф Бродский останавливался в последние годы своих приездов в Венецию. С Марчелло его познакомила Мария, они подружились. Судя по всему, Иосифу было хорошо здесь. По его рекомендации и мы с женой однажды встретились с графом и были званы в гости. Это было сильным впечатлением, поскольку мы оказались внутри настоящего венецианского палаццо. На первом этаже – он нежилой – стояла кабина для гондолы, «фельце». По венецианской традиции, самой лодкой владеет гондольер, а знатному человеку принадлежит вот эта кабинка, на которой изображены геральдические знаки семьи и рода.
Марчелло указал нам на портрет своего далекого предка на стене: это, мол, копия, а подлинник – в галерее Уффици, поскольку автор – Тициан. Одна комната на верхних этажах расписана фресками. Он махнул рукой: чепуха, всего лишь восемнадцатый век. В библиотеке полки с архивами разделены на две части: те, что «до Наполеона», и те, что «после». Я держал в руках «Божественную комедию» 1484 года издания и «Декамерон» 1527 года. Там были пометки марчелловского предка, читателя восемнадцатого века.
Одно из последних стихотворений Бродского – «С натуры» – написано здесь и посвящено владельцу дома Джироламо Марчелло:
Здесь, где столько
пролито семени, слез восторга
и вина, в переулке земного рая
вечером я стою, вбирая
сильно скукожившейся резиной
легких чистый, осенне-зимний,
розовый от черепичных кровель
местный воздух, которым вдоволь
не надышаться, особенно – напоследок!
пахнущий освобожденьем клеток
от времени.
Это уже не просто предчувствие смерти, это знание о ней. Все говорят, что он не жалел себя: две операции на сердце, а курить не бросил и от крепкого кофе не отказался. У меня на этот счет есть свое соображение. Понимаете, человек, который позволил себе быть зависимым только от своего дарования и ни от кого и ни от чего больше; человек с действительно редчайшим чувством свободы – такой человек не хотел и не мог себе позволить зависеть даже от собственного тела, от его недугов и немощей. Он предпочел не подчиниться и тут.
Место для захоронения Иосифа выбрала Мария. Я имею в виду не только кладбище на острове Сан-Микеле, но и саму географическую точку – Венецию. Это как раз на полпути между Россией, родиной (Бродский всегда говорил «отечество»), и Америкой, давшей ему приют, когда родина прогнала. Ну и потом, он действительно любил этот город. Больше всех городов на земле.
Он ведь не был по-настоящему захоронен в Нью-Йорке, где умер 28 января 1996 года. На кладбище в Верхнем Манхэттене была ниша в стене, куда вдвинули гроб и закрыли плитой. Через полтора года гроб опустили в землю здесь, на Сан-Микеле. У Иосифа тут замечательное соседство, через ограду – Дягилев, Стравинский. На табличке с указателями направления к их могилам я тогда от руки написал фломастером и имя Бродского. Эту надпись все время подновляют приходящие к его могиле.
К церемонии перезахоронения Иосифа на Сан-Микеле съехалось много народу, его друзей, близких. Президент Ельцин прислал роскошный венок. Правда, какой-то идиот из совсем уж перегретых антисоветчиков переложил этот венок на могилу Эзры Паунда.
В тот вечер в июне 97-го мы все собрались в палаццо Мочениго на Большом канале, которое тогда арендовали американские друзья Марии. И это был замечательный вечер, поскольку боль потери уже успела приглушиться, и все просто общались, выпивали, вели себя так, словно он вышел в соседнюю комнату. Кстати о комнатах. Этот вечер проходил как раз в тех апартаментах, где жил когда-то Байрон.
Через два дня мы с Лосевым, Алешковским и Барышниковым приехали на Сан-Микеле к его могиле. Еще раз помянули его, выпили… Миша взял метлу и аккуратно все подмел вокруг. Такая картинка: Барышников с метлой у могилы Бродского…
А надгробие сделал хороший знакомый Иосифа еще по Нью-Йорку, художник Володя Радунский, они жили по соседству, их дети играли вместе (сейчас Володя живет в Риме). Получилось скромное, изящное, в античном стиле надгробие с короткой надписью на лицевой стороне на русском и английском: «Иосиф Бродский Joseph Brodsky 24 мая 1940 г. – 28 января 1996 г.». Правда, на обратной стороне есть еще одна надпись по-латыни – цитата из его любимого Проперция: Letum non omnia finit – со смертью все не кончается.
…А если так, то что же остается? Остается чистый, розовый от здешних черепичных крыш воздух, несущий запах мерзлых водорослей, чешуйчатая рябь водички в лагуне перед палаццо Дукале, бирюзовый отсвет каналов в тихом Канареджо, теплый мрамор стен, помнящий тысячи прикосновений, колокольный звон, который будит вас по утрам…
Вы хотели бы встретиться с Бродским? Извольте. Он здесь. Сделайте только шаг.
2008
Как поэты спасли мир
Заметки на полях Нобелевской лекции Иосифа Бродского
Нобелевское выступление Бродского уже функционирует в общественной жизни Америки. Мы имеем в виду, например, высказывание: «Потенциального властителя наших судеб следовало бы спрашивать прежде всего не о том, как он представляет себе курс иностранной политики, а о том, как он относится к Стендалю, Диккенсу, Достоевскому». Мы смотрели по телевидению, как журналист спрашивал, ссылаясь на Бродского, у одного из демократических кандидатов в президенты – что он читает, какие книги и каких писателей больше всего любит. Кандидат, надо сказать, бормотал что-то про обилие газет и недостаток времени. Мы начисто забыли его фамилию, но узнаем в лицо, если его выберут президентом, и тогда посмотрим – насколько Бродский прав.
В том, что он не прав, уверены многие. Утверждение «Эстетика – мать этики» шокировало тех, кто убежден в существовании идеи прогресса. Бродский как бы поставил под сомнение ценность нравственных табу, тяжким трудом взваленных на себя цивилизацией в течение веков истории. Он действительно с простотой гения отвлекся от этих священных столетий и взглянул в основу: «…понятия «хорошо» и «плохо» – понятия прежде всего эстетические, предваряющие категории «добра» и «зла»… Несмышленый младенец, с плачем отвергающий незнакомца или, наоборот, к нему тянущийся, отвергает его или тянется к нему, инстинктивно совершая выбор эстетический, а не нравственный».
Бродский опровергает догмат, распространенный отнюдь не только среди марксистов, о том, что эстетика есть лишь надстройка над базисом, составленным из чего-то более существенного (в зависимости от убеждений – экономики, религии, морали). По Бродскому, эстетика (в его случае – конкретно литература) и есть основа человека. Такая эзотерическая позиция непопулярна по обе стороны океана.
Четверть века назад в Ленинграде судья Савельева ни на йоту не сомневалась в том, что поэзия не может считаться заслуживающей уважения деятельностью, а поэт – полезным членом общества. Жизнь блестяще подтвердила концепцию Бродского: ни один пространный рассказ о нобелевском лауреате не обходится без упоминания о судье Савельевой, которая теперь уже окончательно вошла в историю, и можно считать, что отчасти Нобелевская премия была присуждена ей.
Через четверть века один из виднейших интеллектуалов Америки – редактор журнала «Комментери» Норман Подгорец выступил со статьей «Поэты не спасут мир», в которой подверг критике точку зрения Бродского о примате эстетики. По сути дела, Подгорец отвел поэтам примерно то же место в жизни, что и судья Савельева. То есть – в надстройке, где-то рядом с прочими развлечениями вроде спорта или гастрономии.
Поразительным и парадоксальным образом ситуация повторилась (разумеется, без практических последствий). Бродский снова остался один перед судом общественности: нет сомнения, что Савельева и Подгорец выражают мнение подавляющего большинства. Нельзя сказать, что Бродский этого не предвидел. Десять лет назад он написал: «Поэт наживает себе неприятности в силу своего лингвистического и, стало быть, психологического превосходства, а не по политическим причинам. Песнь есть форма лингвистического неповиновения, и ее звуки ставят под сомнение не только политическую систему, но весь существующий порядок вещей». И еще, два года назад: «…оседлые народы не выносят кочевников: помимо чисто физической угрозы, кочевник компрометирует концепцию границы».
То есть поэт – кочевник, изгнанник, чужой, другой – всегда враждебен любому порядку, любой норме. В том числе и общепринятой морали («Поэзия выше нравственности – или по крайней мере совсем иное дело», А. Пушкин), что и возбудило Подгореца – не меньше, чем судью Савельеву. Оба – представители «оседлых народов» – стремятся ввести жизнь в некие рамки, что в одном случае может нас возмутить, а в другом вполне устроить. Все зависит от точки зрения и ширины рамок. Но в принципе мотивы обоих идентичны. Утверждение примата эстетики неизбежно вызывает массовый протест – возможно, потому, что это кажется слишком очевидным, слишком легко доступным. Общественные и государственные институты (в случае Савельевой), религия и мораль (в случае Подгореца) – суть категории, возникшие на многовековом пути цивилизации. Попросту говоря, подчиняться им – тяжелый труд, самоограничение, жертва. Что и вызывает естественное чувство почтения. Труд самоограничения – повсеместно признан подвигом, разница лишь в критериях, принятых в разных системах ценностей: «не убий», когда хочется, или «око за око», когда желания нет. Эстет же оперирует категориями примитивными: «нравится – не нравится», «красиво – некрасиво», не требующими не только жертвы, но и лежащими на поверхности, доступными всем и каждому.
На деле, однако, труд самоограничения эстета гораздо более тяжел. Ему приходится преодолевать собственную свободу воли, потому что на пути ее громоздятся поистине непреодолимые препятствия: унизительная двумерность холста, замкнутость сцены, количественная ничтожность октавы, ограниченность алфавита. Можно себе представить, как приходилось смирять себя Моцарту, у которого было всего семь нот!
Барьеры, стоящие перед художником, – от рифмы до силы земного притяжения – наряду с их принципиальной непреодолимостью и составляют самую суть творческого процесса. Трагические коллизии самоограничения происходят, естественно, внутри. И на общественную поверхность художник является более закаленным, чем иные представители человеческого рода, что и позволяет ему в известной степени пренебречь самоограничением внешним. И – прийти к выводам новым, неожиданным, странным, парадоксальным. Возмутительным.
Однако так ли уж странны аргументы Бродского? Когда после Нобелевской лекции ему стали задавать вопросы, они оказались таковы, что поэт вынужден был ответить: «Думаю, что вы меня плохо прочитали». Заметим – и здесь он остался верен себе, выделив проблему чисто литературную: адекватное прочтение текста.
Текст Нобелевской лекции – последовательная теория (или, если угодно, гипотеза), философский монолог о метафизике литературы.
Как рассказывают очевидцы, Бродский читал свою лекцию так же, как стихи. То есть нараспев, литургически. Это еще более наводит на мысль, что Нобелевская лекция есть не что иное, как очередное стихотворение Бродского. Учитывая размер – поэма, которая была бы на месте в сборнике «Урания». Обычная стихотворная единица Бродского – не строка, даже не строфа, а часто все стихотворение в целом. Точно так же и Нобелевскую лекцию следует рассматривать как цельное художественное произведение, и любые попытки отрывочного цитирования представляются недобросовестными – во всяком случае, строить умозрительные концепции на отдельных, вне контекста, отрывках невозможно, неправомерно.
Например, неоднократно и недоуменно приводился следующий пассаж из Нобелевской лекции: «Я полагаю, что для человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи затруднительнее, чем для человека, Диккенса не читавшего».
Подгореца и других критиков этот отрывок приводит в удивление и негодование. Действительно, перечень образованных злодеев, палачей и тиранов велик. Но в контексте всего монолога Бродского совершенно ясно, что речь идет не о примитивном противопоставлении Диккенса пистолету в духе ранних просветителей, не о том, что книжки учат добру. Речь идет о масштабах личности. Вобравший ценности культуры человек как личность выше, значительнее и больше того, кто культуре внеположен. Речь снова идет о психологических безднах, в которые сумел заглянуть человек культуры внутри себя, не выходя на социальную поверхность. В известной мере Диккенс (а уж тем более Достоевский) уже успел заменить ему пистолет.
Подгорец снабдил свое заглавие – «Поэты не спасут мир» – подзаголовком: «Бог не даст». Имеется в виду, что мир, управляемый поэтами, неизбежно тоталитарен. Действительно, если воспринимать мир как текст и доводить его до совершенства – тоже как текст, получим то, что уже известно нашему веку: коммунизм или фашизм. Но вся концепция Бродского решительно восстает именно против перевода поэзии из личного в социальный план. Поэт не несет ответственности за трактовку своих текстов. Катастрофа назревает тогда, когда стихи становятся программой. Но это дело рук не поэта, а толпы. Именно человек культуры, в отличие от человека массы, «менее восприимчив к повторам и ритмическим заклинаниям, свойственным любой форме политической демагогии». Поэзия – занятие прежде всего сугубо личное, решающее проблемы индивидуума, а не социума.
В другом месте, раньше, Бродский высказался таким образом, что это можно счесть комментарием к вышеизложенному: «Если у литературы и есть общественная функция, то она, по-видимому, состоит в том, чтобы показать человеку его оптимальные параметры, его духовный максимум… Как бы парадоксально это ни звучало, подлинному эстету не пришло бы в голову задумываться о проблеме выбора при виде иностранных танков, ползущих по улице; подлинный эстет способен предвидеть – или предугадать заранее – вещи такого рода (тем более в нашем столетии)».
Именно поэтому эстет (художник, человек культуры вообще) более подготовлен к коловращению жизни. Продолжая разговор о пистолете – более подготовлен как к прикосновению его рукояти, так и ко взгляду в дуло: «Я твердо убежден, что человека, читающего стихи, труднее одолеть, чем того, кто их не читает».
«Человек, читающий стихи» – в устах Бродского это почти термин, научное определение. Возникает некий знак тождества между «человеком, читающим стихи» и homo sapiens, потому что – по Бродскому – sapiens’ом человека делает язык и литература: «…вещи более древние, неизбежные и долговечные, чем любая форма общественной организации». Бродского интересует именно до-общественный (а на самом деле послеобщественный) человек, человек как вид. Антропологический, условно говоря, подход Бродского резко отличается от сугубо социальной позиции его критиков. Поэтому полемические высказывания, к примеру Подгореца, скользят по касательной, лишь уводя разговор, точнее, сводя к расхожим клише. Философские построения Бродского Подгорец парирует простым соображением: ему известны люди тонкого вкуса и широкого эстетического диапазона, и часто их моральные качества были ниже, чем у его малограмотных знакомых. Такой «народнический» подход, возможно, и заслуживает обсуждения, но Нобелевская лекция не об этом. Бродский трактует жизнь как трагедию, в которой оценок нет – разве что количественные параметры: «В настоящей трагедии гибнет не герой – гибнет хор». Бродский говорит о том, что язык и литература лежат в основе метафизики личности и чем полнее осознание и освоение этого обстоятельства, тем личность полнее. Не лучше, подчеркнем, не хуже – а полнее. Ибо «искусство… в частности литература – не побочный продукт видового развития, а ровно наоборот».
Искусство, породившее человеческую личность, есть средство восстановления личности. И здесь Бродский – в который раз! – преподносит новый мощный парадокс: искусство разъединяет человеческую общность.
Не стоит, вероятно, и пояснять, насколько это противоречит утверждениям сотен мыслителей, уповавших как раз на литературу и искусство как средство интеграции человечества. Тезис Бродского резко полемичен вообще, но мы хотели бы выделить получившуюся частную полемику – с Нобелевской лекцией Солженицына, русского предшественника Бродского по высшей литературной награде.
Начав с прославления самоценности литературы, Солженицын затем переходит к ее общественной роли, более всего выделяя именно объединительную функцию. Для него мировая литература – «единое большое сердце, колотящееся о заботах и бедах нашего мира», «общее тело и общий дух, живое сердечное единство, в котором отражается растущее духовное единство человечества».
В данном случае Солженицын традиционен: он верит в поступательное движение прогресса, превратившего дикаря-одиночку в высокоорганизованное общественное существо. Этот прогресс, согласно традиционной (и солженицынской) точке зрения, продолжается, несмотря на психологические и социальные катастрофы, потрясающие мир – и в особенности мир современный. И искусство, литература есть главное орудие этого прогресса, ведущего к «духовному единству».
Бродский резко отталкивается от такой концепции. Он поворачивает проблему на 180 градусов. «Если искусство чему-то и учит (и художника – в первую голову), то именно частности человеческого существования. Будучи наиболее древней – и наиболее буквальной – формой частного предпринимательства, оно вольно или невольно поощряет в человеке именно его ощущение индивидуальности, уникальности, отдельности – превращая его из общественного животного в личность. Многое можно разделить: хлеб, ложе, убеждения, возлюбленную – но не стихотворение, скажем, Райнера Марии Рильке».
По Бродскому, человеческая личность не прогрессировала за века. Скорее наоборот. В этом убеждении – истоки пристального внимания поэта к античности. Для него человек древности более целен и полон, чем современный человек, который в большей степени является порождением цивилизации, прогресса и всего того, что достигается сообща. Бродского интересуют не изменения в условиях человеческого существования, а развитие личности. Точнее, не развитие, а – состояние. В этом смысле современный человек сильно проигрывает древнему. В интервью семилетней давности Бродский говорил: «Что касется качественных изменений в человеческом сознании, то речь идет во всяком случае не о накоплении, но о потере – определенных понятий, идей, даже, если угодно, знаний, перекладываемых современником из головы в компьютер». И далее: «Античности присущ прямой – без посредников – взгляд на мир: взгляд, никакой оптикой не вооруженный, когда единственная призма, в которой мир преломляется, – ваш собственный хрусталик… Двадцатый век настал только с точки зрения календаря; с точки зрения сознания, чем человек современнее, тем он древнее».
О возврате к личности написана Нобелевская лекция Иосифа Бродского. Инструмент этого обратного прогресса – разъединяющее человечество и возвышающее человека искусство.
Заглавие статьи Нормана Подгореца – «Поэты не спасут мир» – ошибка, недоразумение. Дело в том, что поэты уже спасли мир – и спасают его ежедневно. Мало что служит более убедительным доказательством этого тезиса, чем Бродский и то, что он пишет. Но и – Солженицын. И Булгаков. И Платонов. И Мандельштам. И – если двинуться в прошлое – все остальные, среди которых ярче других спасительное сияние Пушкина. Только то, что попадало в их ореол, получало право на жизнь, а значит – на спасение. Только это оставалось – жить. И может быть, тут нагляднее всех – блистательные судьбы Жоржа Дантеса и судьи Савельевой. В трагедии жизни нет оценок, но есть право на существование. Дают это право – поэты.
Иван Алексеевич Бунин – первый русский «нобель» – прибывает в Стокгольм в декабре 1933 года. Примечательно, что на банкете-чествовании первый и последний наши лауреаты произносили речи не на родном языке – по-французски Бунин и по-английски Бродский. Не из галантности, вероятно, а из-за невнятности ситуации. Об этом Бунин и говорил – о премии, впервые присужденной изгнаннику, и о «свободе мысли и совести» – аксиомы для писателя.
Борис Леонидович Пастернак речей не произносил и в Стокгольм не приезжал. Его поздравил в Переделкине Чуковский. Он стал – в 1958 году – одним из двух (наряду с Сартром) лауреатов Нобелевской премии, отказавшихся от этой чести. Мотивы Сартра и Пастернака были, как известно, различны, но главное: один отказался добровольно, другой – нет. К счастью, Нобелевский комитет, а за ним и весь мир пренебрегают такой условностью, как личное мнение избранника.
Михаил Александрович Шолохов – единственный русский «нобель», сполна собравший урожай славы: его в 1965 году славили по обе стороны границы. Рассказав в Стокгольме о социалистическом реализме, Шолохов заявил, что видит «свою задачу как писателя в том, чтобы отдать поклон народу-труженику, народу-строителю, народу-герою, который ни на кого не нападал». Твердо можно сказать, что из всех пяти русских лауреатов он произнес самую оригинальную речь.
Александр Исаевич Солженицын был прав, когда сказал в Стокгольме: «Наверно, ни с кем не досталось Шведской академии и Нобелевскому фонду столько хлопот, сколько со мной». Премию он принял через четыре года после того, как она была присуждена, – в 1974 году, когда наконец смог приехать «не в свою очередь занимать лишний стул». Солженицын продолжил невольно экстравагантную традицию русских «нобелей» – первый изгнанник, первый отказ, первый перенос вручения.
Иосиф Александрович Бродский в 1987 году завершил (на данный момент) пентаграмму русских лауреатов. Через пятьдесят четыре года русская нобелиана замкнулась. Однако за полвека изменилась тема: если изгнанник Бунин говорил о судьбе писателя, то изгнанник Бродский озабочен судьбой литературы, полагая самым тяжким преступлением против словесности «пренебрежение книгами, их не-чтение». Общественный прогресс налицо, судьба культуры проблематична.
2003
Покрой языка
Иосиф Бродский: роман самовоспитания
Как ни странно, только сейчас книга Иосифа Бродского «Меньше единицы» выпущена по-русски. По-английски (Less Than One) она вышла в Нью-Йорке в 1986 году, произвела большое впечатление, сразу была переведена на многие языки и, как принято считать, легла козырем на стол Нобелевского комитета.
Состав книги – восемнадцать эссе, написанных за десятилетие с середины 70-х до середины 80-х. Три по-русски: «Поэт и проза» (о Цветаевой), «Об одном стихотворении» («Новогоднее» Цветаевой) и «Путешествие в Стамбул», остальные – по-английски. Восемь человек перевели пятнадцать эссе: больше всех Л. Лосев – четыре, а кроме него – В. Голышев, Г. Дашевский, Е. Касаткина, А. Сергеев, А. Сумеркин, М. Темкина, Д. Чекалов. Все переводы хороши, ощущения стилевого разнобоя не возникает. Это важно, потому что до сих пор входящие в книгу эссе существовали по-русски врозь, собранные же вместе – как в авторском оригинале – звучат куда более сильно, чем по отдельности.
«Меньше единицы» – именно книга, а не сборник. Бродский не раз, особенно в последние годы, говорил о первостатейной важности композиции: что за чем важнее, чем что. Взглянем на оглавление. Первое и последнее эссе – «Меньше единицы» и «Полторы комнаты» – сугубо биографические. Внутри – преимущественно литература. Как, собственно, и должно быть: словесность в человеческой оболочке, что есть писатель. Два наиболее публицистических эссе книги – «Актовая речь» (о неизбежности зла и готовности ко злу) и «Путешествие в Стамбул» (упрощая: об исторической судьбе России) – соответственно, предпред— и предпоследнее. Финал книги, таким образом, драматичен.
Сначала кажется странным, что Бродский придает такое значение биографии: по страницам разбросаны фразы, принижающие ее роль. Допустим, признание вроде «я немногое помню из своей жизни, и то, что помню, – не слишком существенно» – можно считать продолжением провозглашенного уже в заглавии и всегдашнего авторского understatement’а – в прозе и в стихах («Я глуховат, я, Боже, слеповат» и т. п.). Но и о других писателях – то же самое: «Бессобытийность его жизни обрадовала бы наиболее придирчивого из «новых критиков» (о Кавафисе); «Слава Богу, что его жизнь была так небогата событиями» (о Монтале). Бродский настаивает: «Биография писателя – в покрое его языка». Единственная ценность дотошно воспроизведенных подробностей ленинградского детства – многообразие ликов вождя, бесконечность протянутой через страну филенки, страсти по пятой графе, неизбежность серого забора – в том, что все это превращается в материал словесности. Образы становятся словами, память – языком.
В известной степени вся книга есть иллюстрация к авторскому тезису: «Как правило, заканчивающий стихотворение поэт значительно старше, чем он был, за него принимаясь». Эссе «Меньше единицы» написано в 76-м, «Полторы комнаты» – в 85-м. Между ними наглядно доступное «стихотворение»: в данном случае это растянутые на десятилетие шестнадцать эссе, завершив которые автор стал «значительно старше». Можно было бы добавить и другие сравнительные степени: глубже, тоньше, мудрее.
Человеческий опыт писателя определяется его литературным опытом. В этом смысле поэт – как женщина, которой столько лет, на сколько она выглядит. Обращение с рифмой говорит больше о мировоззрении, чем прямой манифест. Поэтические размеры сами по себе – духовные величины, утверждает Бродский. Здесь несомненный отсыл к его любимой, многократно варьируемой мысли: язык является самотворящей силой, за которой более или менее осознанно, более или менее беспомощно движется поэт. Но здесь и разъяснение фразы о том, что биография – «в покрое языка», и объяснение, почему книга «Меньше единицы» построена именно таким образом, что биографические эссе окаймляют литературные, образуя единое целое.
Литературная самостоятельность и жизненное самостояние переплетаются в книге Бродского, и к концу ее делается ясно, что это и есть сквозная линия, основная тема – индивидуализм как единственный путь к свободе.
Едва ли не самое осудительное у Бродского слово – «тавтология». Применительно вовсе не только к словесности: пагубная склонность к повтору в жизни, к общему месту в поведении, к пошлости в этикете неизбежно отражается на любых занятиях, сочинительских тоже.
Страх тавтологии одушевляет книгу «Меньше единицы», и кажется удивительным, что с такой почти болезненной настойчивостью об этом говорит взрослый человек и признанный литератор, чьим отличительным достоинством как раз и была непохожесть во всем, что он сделал и написал. Понятно, когда Бродский через тридцать лет трактует свой «первый свободный поступок» – пятнадцатилетний мальчик встал посреди урока и покинул школу, чтобы никогда больше туда не вернуться – и вообще свою страсть к уходам: «Ты должен либо драться за место, либо оставить его. Я предпочитал второе. Вовсе не потому, что не способен драться, а скорее из отвращения к себе: если ты выбрал нечто, привлекающее других, это означает определенную вульгарность вкуса». Но и дальше, снова и снова, он, словно заклинания, повторяет на все лады: «Чем яснее голос, тем резче диссонанс»; «Верный признак опасности – число разделяющих ваши взгляды»; «Надежнейшая защита от Зла – это предельный индивидуализм». И даже такое: «Это гнусная ложь, что великому искусству необходимо страдание. Страдание ослепляет, оглушает, разрушает, зачастую оно убивает», – в контексте книги понятно, что речь идет о том, как страдание сводит индивидуума к общему знаменателю.
Две приведенные выше цитаты – о признаке опасности и о защите от зла – из актовой речи перед выпускниками Уильямс-колледжа. Но ровно та же дидактика и тот же пафос звучат на протяжении пяти сотен страниц, побуждая либо отмести дидактические намерения автора, либо переадресовать их: Бродский обращается в первую очередь к себе.
Так – множественными вариациями на одну тему, подобно обыгрышу основной мелодии в любимом Бродским джазе, – выявляется еще одно содержание книги «Меньше единицы». Это роман воспитания, точнее – самовоспитания: исповедь сына века, без всяких кавычек. Оставаться собой – работа, тяжелый непрерывный труд.
2000