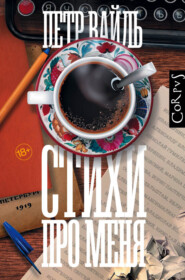скачать книгу бесплатно
Стихи про меня
Петр Львович Вайль
Петр Вайль – блестящий эссеист, путешественник и гурман, автор «Гения места» и «Карты родины», соавтор «Русской кухни в изгнании», «Родной речи» и других книг, хорошо знакомых нашему читателю, написал книгу в необычном жанре, суть которого определить непросто. Он выстроил события своей жизни по русским стихам XX века: тем, которые когда?то оказали на него влияние, «становились участниками драматических или комических жизненных эпизодов, поражали, радовали, учили». То есть обращались, по словам автора, к нему напрямую. Отсюда и вынесенный в заглавие книги принцип составления этой удивительной антологии: «Стихи про меня».
Содержит нецензурную брань!
Петр Вайль
Стихи про меня
© П. Вайль, наследники, 2006
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2021
© ООО “Издательство ACT”, 2021
Издательство CORPUS ®
От автора
“Быть может, все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов” – тезис несомненный. Но столь же убедительно и обратное: стихи – средство для жизни. Шире – литература вообще, просто поэзия легче запоминается, потому стихи, написанные и прочитанные на родном языке, действуют раньше и прямее. Как музыка – внутривенно.
По вторгавшимся в тебя стихам можно выстроить свою жизнь – нагляднее, чем по событиям биографии: пульсирующие в крови, тикающие в голове строчки задевают и подсознание, выводят его на твое обозрение. “Почему Цветаева” больше скажет о человеке, чем “почему на филфак”; пронесенная до старости юношеская преданность Маяковскому психологически важнее, чем многолетняя супружеская верность.
Разумеется, нужно честно говорить только о тех стихах, которые про тебя. Которые попадают в соответствие с твоими мыслями и чувствами, с твоим ритмом, связываются с событиями жизни, становятся участниками драматических или комических ее эпизодов, поражают, радуют, учат. И главное: безошибочно прямо обращаются к тебе. Вот критерий, выношенный годами: отбрасывая тонны прочитанного и узнанного, возврат едва ли не к детскому “нравится – не нравится”. Лишь это и оказывается существенно – недоказуемое, необъяснимое, личное, только твое, свое у каждого: “про меня – не про меня”.
Были поэты, которые интересовали, которыми увлекался, зачитывался, но в первую очередь надо сказать о тех, через которых прошел. Осознанно началось это лет в четырнадцать, одни из тех прежних отошли, другие остались, но благодарность, во всяком случае, при мне: всё в точности так, как с любовными увлечениями. Имена в хронологии появления в моей жизни: Лермонтов, Блок, Есенин, Пастернак, Пушкин, Заболоцкий, Баратынский, Бродский, Мандельштам, Лосев, Гандлевский, Георгий Иванов. Но и других еще много, ведь не представить своих юных лет без Тютчева, Гумилева, Северянина, взрослых – без Державина, Олейникова, Цветкова.
Задача охватить всё – пожалуй, непосильная. Решил ограничиться русским XX веком, к которому принадлежу сам. Смешное слово – “ограничиться”, когда там гении шли погодками. Даты рождения: 1885 – Хлебников, 1886 – Гумилев, Ходасевич, 1887 – Северянин, 1889 – Ахматова, 1890 – Пастернак, 1891 – Мандельштам, 1892 – Цветаева, 1893 – Маяковский, 1894 – Г. Иванов, 1895 – Есенин… Что за сбой в 88-м?
Стал выбирать, руководствуясь вот этим критерием: про меня или нет. За сто лет в хронологическом порядке: от Анненского 1901 года до Гандлевского 2001-го. После долгого мучительного отбора остались пятьдесят пять стихотворений. Хорошее число 55: возможность выставить две пятерки стихам, без которых жизнь была бы иной – скучнее, беднее, тусклее. Хуже.
Не понять
Иннокентий Анненский 1855-1909
Среди миров
Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя…
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.
И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной молю ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.
1901
Поэзия – то, что не переводится. Есть такое определение. Можно и расширить: стихи – то, что до конца не понять. Можно только догадаться и попасть в резонанс. Сколько лет повторяю строчки Анненского, но так и не знаю, кто эта звезда. Бог? Женщина? По всем первичным признакам – женщина. Но Анненский был человек глубокой традиции и тонкого вкуса, да еще и преподаватель, директор Е(арскосельской гимназии, входил в ученый совет министерства просвещения. Не расставлял прописные буквы зря. О женщине, причем женщине любимой, он мог написать: “Господи, я и не знал, до чего ? Она некрасива… ” Горько, безжалостно. Он сказал, будто занес в графу отчета: “Сердце – счетчик муки”.
Это – не вполне метафора, скорее именно констатация факта, медицинская справка. У Анненского был порок сердца, он стоически готовился к внезапной кончине (внезапно и умер на ступенях вокзала), шутил на эту тему. Кажется неслучайным, что псевдоним для первых публикаций избрал какой-то несуществующий: “Ник. Т-о”, вслед за Одиссеем в пещере Полифема.
О смерти Анненский писал часто и безбоязненно, почему Ходасевич и назвал его Иваном Ильичем русской поэзии. Неоднократно впрямую описывал похороны, даже удваивая впечатления, сталкивая погребение человека с уходом времени года: “Но ничего печальней нет, ? Как встреча двух смертей”. Об умершем – фотографически бесстрастно: “И, жутко задран, восковой ? Глядел из гроба нос”. О вагонах поезда у него сказано: “Влачатся тяжкие гробы, ? Скрипя и лязгая цепями”. Не эшелон ведь с зэками, а обычный пассажирский. О городе: “И не все ли равно вам: ? Камни там или люди?” В самом деле, все равно для человека, которому была доступна точка зрения осколка статуи: “Я на дне, я печальный обломок, ? Надо мной зеленеет вода”. За полвека до погребального “Августа” Пастернака и почти за век до предсмертного “Августа” Бродского он написал свой “Август”: “Дрожат и говорят: “А ты? Когда же ты?” ? На медном языке истомы похоронной”.
В отношении к смерти, вероятно, сказывалась закалка античника: Анненский перевел и прокомментировал всего Еврипида, сам писал драмы на античные сюжеты. Древние воспринимали смерть не так, как люди Нового времени. Для нас смерть – прежде всего то, что случается с другими. Во-вторых – то, что вынесено за скобки жизни: сначала идет одно, потом приходит другое. Смерть – это не мы. Для них – всё неразрывно вместе: а чем же еще может оканчиваться бытие?
Обрести бы этот взгляд на собственную жизнь со стоических вершин – как у Марка Аврелия: “Сел, поплыл, приехал, вылезай”.
Восходящая к античным образцам трезвость придавала остроты взору Анненского. Он видел торчащий из гроба нос, замечал перепад стилей и эпох в привычной эклектике ресторанного интерьера: “Вкруг белеющей Психеи ? Те же фикусы торчат, ? Те же грустные лакеи, ? Тот же гам и тот же чад”. (Потом Блок этот “Трактир жизни” перенес в кабак “Незнакомки”: “Лакеи сонные торчат”.)
Поэты-современники относились к Анненскому с почтением, но на дистанции: он был гораздо старше поэтической компании, с которой водился, крупный чиновник, штатский генерал, держался очень прямо, поворачиваясь всем корпусом, не все же знали, что это дефект шейных позвонков. Анненский даже изощренных деятелей Серебряного века удивлял эстетством, которое у него было внутренним, личным, греческим. Маковский, редактор “Аполлона”, вспоминает, как не нравилась Анненскому фонетика собственного имени: “У вас, Сергей Маковский, хоть – ей-ий, а у меня – ий-ий!” При тогдашнем массовом (в том числе и массовом для элиты) увлечении всяческой трансцендентностью Анненского отличала античная рациональность. Называя его “очарователем ума” и “иронистом”, Маковский пишет: “Я бы назвал “мистическим безбожием” это состояние духа, отрицающего себя во имя рассудка и вечно настороженного к мирам иным”. Сам Анненский подтверждает: “В небе ли меркнет звезда, ? Пытка ль земная все длится: ? Я не молюсь никогда, ? Я не умею молиться”.
Для человека, который тоже не умеет (или еще не научился) молиться, – утешение. Благодарное чувство солидарности. Но все-таки – это та же звезда? Или другая, потому что та с прописной?
И снова – Бог? женщина? Сходно у Мандельштама: “Господи!” – сказал я по ошибке…”, но в первой строке “Образ твой, мучительный и зыбкий… ” – “твой” со строчной буквы. Чей образ?
Возникает острое ощущение – даже не непонимания, а полной и безнадежной невозможности понять. Похоже, это все-таки заблуждение – что искусство доступно вполне. Не только то, что принципиально не переводится, но и то, что может казаться внятным и простым. Уходят предметы и понятия, и главное – не восстановить контекст.
Так бесплодны, хоть и благородны, попытки исполнения музыки на старинных инструментах. Как будто если мы заменим фортепиано клавесином, а виолончель – виолой да гамба, Бах станет понятнее. Но Бах сочинял, не зная ни Бетховена, ни Шостаковича, а мы их слышали, наше понятие о гармонии иное, и сам слух иной. И вообще, на концерт мы приехали в автомобиле, в зале работает кондиционер, и горят электрические лампы, позади стоит телекамера, так как идет прямая трансляция, одеты мы иначе. Бах тот же, мы – другие.
С литературой вроде бы проще – передается без посредников. Слова – они и есть слова. Но вот натыкаешься у того же Анненского на слово “свеча” – раз, другой, третий. Да они по всей поэзии, эти свечи: кто без них обходился, вплоть до самой знаменитой в XX веке свечи, пастернаковской. Но не зря ведь Лосев написал: “Мело весь вечер в феврале, свеча горела в шевроле”, это же не просто шутка. Автомобильная свеча нам знакома, знаем и другую, вставляется известно куда. Но ту, ту свечу мы уже не понимаем – так, как они. Мы втыкаем нечто в именинный торт, можем зажечь, когда перегорят пробки, или по рекомендации глянцевых журналов за интимным ужином – но для них это была живая метафора жизни.
Тут равно важны оба слова: и “метафора”, и “живая”. Повседневная, бытовая, близкая, наглядная метафора. И потому, что горит-догорает, и что оплывает-обрастает, как суть подробностями, а главное, что свет свечи – зыбкий и уязвимый, и так же зыбок и уязвим возникающий в получившемся свете мир. Это правда – правда вообще, но нам такой мир надо вообразить, а они с ним были каждый вечер. (Кстати, еще и потому, может, от нашего всепроникающего электричества мы попроще, попрямолинейнее, потому, может, не ловим оттенков и поражаемся тонкости их проникновения и чуткости их взгляда.) Как читалось при свече, как писалось – еще можно специально попробовать, поставить опыт, можно и посмотреть на любимую женщину в свете свечи. Но уже не узнать, как ежедневно переходили сумерки в ночь через свечу, какой был запах в бальном зале, освещенном сотнями канделябров, как двигались тени, как они росли мимолетно и мимолетно исчезали. Свеча перемещается в раздел осознаваемого, но неощутимого, туда же, где доспехи, дилижанс, купальня. Не понять.
Бездомность
Иван Бунин 1870-1953
Одиночество
И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.
Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.
Я на даче один. Мне темно
За мольбертом, и дует в окно.
Вчера ты была у меня,
Но тебе уж тоскливо со мной.
Под вечер ненастного дня
Ты мне стала казаться женой…
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны
Проживу и один – без жены…
Сегодня идут без конца
Те же тучи – гряда за грядой.
Твой след под дождем у крыльца
Расплылся, налился водой.
И мне грустно смотреть одному
В предвечернюю серую тьму.
Мне крикнуть хотелось вослед:
“Воротись, я сроднился с тобой!”
Но у женщины прошлого нет:
Разлюбила – и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить…
Хорошо бы собаку купить.
[1903]
Прочел лет в пятнадцать, и сразу понравилось все. Больше всего – проза стиха. Такое, как и положено откровению, является на ровном пути без предупреждения. Бунин пишет, что его писательское сознание началось с картинки, которую он увидел в книге: “Дикие горы, белый холст водопада и какого-то приземистого, толстого мужика, карлика с бабьим лицом, с раздутым горлом… а под картинкой прочел надпись, поразившую меня своим последним словом, тогда еще, к счастью, неизвестным мне: “Встреча в горах с кретином”. Кретин!.. В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное!.. Не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства?” Мой-то кретин отражался в зеркале: я впервые понял, что стихи могут быть такими. До того уже любил и знал Лермонтова и Блока (помимо того, чему напрасно учили в школе) – в общем, гладкопись. А тут интонация сбивчивой неторопливости, чуть нарочитая неуклюжесть, повторы “что ж” – как у нынешних телеведущих.
Можно по-разному. Это очень важное открытие – можно по-разному! – и его нельзя позаимствовать, его нужно сделать самому. А толчок – уж какой случится. “Встреча в горах с… ” (нужное вставить).
Еще “Одиночество” было похоже на обожаемого в ту пору Хемингуэя с его подтекстом – при чем тут собака? Бунинская собака в залитой ливнем усадьбе выходила не хуже импортной “Кошки под дождем”.
Еще: хотелось такого же отношения к женщинам и душевным бедам вообще, как раз начинался романный возраст. Очень нравились эти формулировки, которые потом обернулись фальшивкой. У женщины прошлого нет. А у мужчины? Разлюбила, стал чужой. А если он разлюбил? Обобщения хороши в молодости, когда искренне рассчитываешь на то, что жизнь можно свести к формуле.
У Бунина есть еще одно “Одиночество”, написанное на двенадцать лет позже и совсем другое: некая фантазия на тему чеховской “Дочери Альбиона” – о купающейся иностранке и подглядывающем писателе. Не случайно ведь он назвал стихотворение так же: холодный цинизм второго “Одиночества” – саркастический укор самому себе за сентиментальную элегичность первого.
Это, разумеется, любовное стихотворение. Но со временем, по мере перечитывания, стало казаться, что самые интересные и важные строки – последние: “Что ж! Камин затоплю, буду пить… Хорошо бы собаку купить”. Камин, собака, выпивка, можно догадываться, приличная. Уют. Дом. Идея дома.
Вздох в конце стихотворения вырывается как вызов. Кому это брошено: “Что ж!”? Да себе, конечно, – писателю Бунину, всегда, во всю свою жизнь, по сути, бездомному. В 1933-м он сказал журналистам: “Впервые Нобелевская премия присуждена… ” – все ожидали продолжения “… русскому”, но Бунин произнес “… изгнаннику”. Но не мог же он знать за тридцать лет до этого своей будущей скитальческой судьбы. Судьбы не мог, но знал себя и предчувствовал российскую бездомность XX века.
Мой отец в середине 50-х отказался от дачи на Рижском взморье. Ему, советскому офицеру, отдавали за баснословные гроши дом на станции Лиелупе, в двадцати минутах от Риги, в сосновом лесу, рядом и море, и река. Узнав об этом только в 70-е, я спрашивал отца, что он имел в виду. Он отвечал: “Знаешь, как-то не принято было в моем кругу, я и вообразить не мог”. В 70-е уже мог и, похоже, жалел. Тогда юный бунтарь в исполнении прелестного Олега Табакова, который в раннешестидесятническом фильме “Шумный день” дедовской шашкой рубил родительские шкафы и серванты, уже воспринимался безумцем и дураком: зачем портить дорогие хорошие вещи?
Идея дома в России со времен бунинской усадьбы претерпела поразительные приключения, к началу следующего столетия вернувшись к той же теплой идиллии – камин, бокал, собака.
Хотя камин – затея не русская. Открытый огонь не для холодной северной страны, где прижился другой европейский очаг – печка-голландка. У нас в рижской квартире две такие, в изысканных монохромных изразцах, раздолбали с появлением центрального отопления, а узорчатые чугунные дверцы еще год стояли в коридоре, пока их не забрал к себе на дачу капитан Евсеев из третьей квартиры. Не одни голландки, весь идеал городского домашнего уклада пришел из Европы – поздневикторианский уют: основательная тяжелая мебель, много мягких поверхностей, плотные портьеры, кружевные занавеси и абажуры, обилие мелких предметов обстановки и украшений.
С этой “буржуазной” моделью почти весь XX век боролась модель “пролетарская”. Выросшая из революции, Гражданской войны и военного коммунизма, она была за аскезу и минимализм. Комфорт – помеха в труде и бою. Быт вспомогателен, дом – времянка. Как у героев романа “Как закалялась сталь”: “Смастерили койки, матрацы из мешков набили в парке кленовыми листьями… Между двумя окнами полочка с горкой книг. Два ящика, обитые картоном, – это стулья. Ящик побольше – шкаф”.
Эстетика военной бедности провозглашалась и тогда, когда не было войны, или она шла всегда? В конце 50-х книга “Домоводство” предлагала, чтобы в собственном доме “на каждого члена семьи приходилось 9 квадратных метров… Вполне достаточно иметь высоту помещений в 2,4–2,6 метра… Вещи в комнате только необходимые и удобные. Если же комната перегружена мебелью, даже дорогой и красивой, и различными безделушками, она всегда будет казаться пыльной, тесной и захламленной”. Тезис повторяется и через двадцать лет (в книге “Твой дом, твой быт”): “Всегда следует придерживаться “золотого правила”: чем меньше мебели, тем лучше”.
Ранние – условно платоновские, из “Котлована” и “Чевенгура”, – коммунисты были гностиками, для многих из них действительно в одежде, еде и мебели воплощался антагонизм материального и духовного. Тем более не очень-то ясно было, что делать с деньгами, если б они и появились. Зощенковский герой 20-х, выигравший большую сумму, размышляет: “Вот дров, конечно, куплю. Кастрюли, конечно, нужны новые для хозяйства… Штаны, конечно”. Хрестоматией случай неприкаянного миллионера 30-х в “Золотом теленке”. Можно еще верить в искренность физика из культового фильма 60-х “Девять дней одного года”: “Зачем мне квартира?” Но тем не менее все это время параллельно воспроизводился мало менявшийся с десятилетиями викторианский быт, устоявший против страшных ударов по мещанству и в конце концов победивший.
Мещанством было все, что не соответствовало идеологическим правилам: и стяжательство, и ханжество, и общественная пассивность, и пристрастие к любовным или детективным романам. Но более всего – в силу заметности – излишества в одежде и внимание к быту. Граммофон, плюшевый диван, клетка с канарейкой проходили по разряду улик. В фадеевской “Молодой гвардии” предатель засвечивается еще до перехода на службу к немецким оккупантам: “Втайне он завидовал заграничным галстукам и зубным щеткам своих товарищей до того, что его малиновая лысина вся покрывалась потом”. А герой-коммунист из той же книги, напротив, “не променял своего советского первородства на галантерею”. Павка Корчагин окончательно развенчивает свою первую любовь, когда она предстает в бытовом антураже: “Бросились в глаза два изящных кожаных чемодана в сетках, небрежно брошенное на диван меховое манто, флакон духов и крошечная малахитовая пудреница на столике у окна”. А вот девушка, которую он все-таки потом вырывает из мещанской среды, живет на грани: с одной стороны – “комод, уставленный разными безделушками… на стене десятка три фотографий и открыток… кисейная занавеска”, но с другой – “узкая железная кровать” в “крошечной комнате”. Есть шанс.
Огромное множество сатирических вариаций на тему Людоедки Эллочки само говорит о том, как соблазнительна и распространена была “буржуазная” модель быта. Через сорок лет после Ильфа и Петрова Володька Силин из заготовительного цеха пришел в нашу бытовку грузчиков и отвел меня в сторону: “Банкет у меня сегодня, двадцать пять лет. Всех не зову, сам понимаешь. Держи адрес. В семь часов, а я побежал, мне на Матвеевском сардельки отложили”. На столе были не только сардельки, но даже сардины. На кровати с никелированными спинками – пирамида подушек под кисейным покрывалом. Над настенным ковром с бегущим оленем – гитара с голубым бантом. На покрытой кружевной салфеткой радиоле “Рига” – усатый скрипач из немецкого фаянса. Кактусы на подоконнике в консервных банках, обернутых гофрированной бумагой. На двери – “Шоколадница” из “Огонька”. Как перехватывало тогда, так и теперь перехватывает горло. Сколько я их видел, сколько их было, клонированных от Карпат до Камчатки подушек, скрипачей, кисеи, “Шоколадниц”. Сколько есть.
Пролетарское городское жилье мало отличалось от сельского. Коммуналка побуждала к деревенской организации пространства: все в одной комнате, которая разом и гостиная, и столовая, и спальня для нескольких человек, и мастерская для побочного промысла и домашних поделок. Внутренняя скученность при этом сочеталась с внешней открытостью и проницаемостью. В коммуналке дивным образом сошлись крестьянская изба и дворянская анфилада: очень тесно и все нараспашку.
Коммуналку пытались вписать в народную традицию: во-первых, в какой-то особый демократический коллективизм, во-вторых – в климатическое почвенничество (у нас холодно, потому живем тесно). Наша семья переехала в отдельную квартиру, когда мне было девятнадцать лет, и я знаю, что была даже правда в слезливых газетных очерках о том, как не хотят расселяться многолетние соседи. Не только коммунальная дружба, но и коммунальная вражда становилась сутью и стилем жизни – своего рода стокгольмский синдром.
Однако на длинной дистанции всегда побеждает норма, она и победила, когда в годы позднего сталинизма “буржуазная” модель стала законной. Фильм “Весна”, поставленный в 1947 году, я впервые увидел лет на тридцать позже, но сразу узнал то, что увидел. В пятом классе Сашка Козельский пригласил на день рождения, и когда мы вышли, физкультурник Колька Бокатый злобно сказал: “Вот же богато живут, гады”. Козельский, сын академика, существовал в пышных декорациях “Весны”. Советский голливудец Александров воспроизвел в обиходе советской научно-художественной элиты миллионерскую роскошь, с прислугой и лимузинами. Идея была проста, но на идеологической поверхности страны нова: верно служишь – много получаешь. Иерархия ценностей в системе наград и привилегий оставалась всемирно общепринятой: главное – просторное добротное жилье. Важно, что роль советской аристократки в “Весне” исполняла любимица зрителей Любовь Орлова, та самая, которая прочно запечатлелась простой девушкой из “Веселых ребят” и “Светлого пути”, боровшейся с мещанами. Те же герои помещались в новый антураж.
Лучшим подтверждением, что Россия, при всей своей изоляции, все же была частью мира, служат 60-е. Странно и удивительно, но в СССР в эти годы шла такая же социальная (молодежная, сексуальная, музыкальная) революция, как в Штатах или Франции, с понятными поправками, конечно. Решающим стало открытие Запада.
Дом преобразился решительно. Хлынул поток вещей с клеймом “Made in…”: бытовая техника, плитка для облицовки ванной, посуда, как минимум – заграничная бутылка с пробкой на винте. В воспоминаниях певицы Галины Вишневской – история о том, как выдающийся музыкант со своей прославленной женой везут через всю Европу кафельную плитку на крыше автомобиля, преодолевая кордоны и заслоны. Самое примечательное – и через годы ощущение гордости, а не унижения.
С другой стороны, “буржуазность” позднего сталинизма трактовалась как тяжесть и застой. Уютный быт мог удержать человека от духовных стремлений, как Корчагина – от строительства узкоколейки. Тогда-то и рубил Олег Табаков мебель буденновской шашкой. В сиротском алюминиево-пластмассовом интерьере органично оралось под гитару (без банта): “Ледорубом, бабка, ледорубом, Любка, ледорубом, ты моя сизая голубка”. Дальние дороги, “милая моя, солнышко лесное”. Из “Огонька” вырезали импрессионистов: что “Огонек” публиковал – то и вырезали.
С третьей же стороны, немедленно – как всегда бывает с одновременно разными обличиями свободы – усилились поиски народных корней. Квартиры украсились иконами, прялками, лубком. В “Июльском дожде” Марианна Вертинская очаровательно танцует твист в лаптях. Грибоедов за полтораста лет до этого потешался над смесью французского с нижегородским – и зря потешался: только так, шатаясь из стороны в сторону, прихватывая на ходу и по ходу отбрасывая, развивается любая культура.
При всей пестроте 60-х квартиры истинных шестидесятников походили одна на другую: инженера, артиста, физика, журналиста – потому прежде всего, что человека определяла не профессия, а хобби. Вовсе не оттого, что на первый план выходила частная жизнь, явленная в личных склонностях, а потому, что человек обязан был быть гармоничным. У тебя профессия, тебя научили, а умеешь ли ты разжечь костер с одной спички, а играешь ли ты на гитаре, и вообще, где твой ледоруб?
Установка на отдельные квартиры была хороша, но сами квартиры в “хрущобах” – очень плохи. (Аналогично – со всеми другими соотношениями слова и дела, до сих пор, от Конституции начиная.) Почему-то особенно огорчали совмещенные санузлы, что несомненно удобно, когда в квартире два-три человека, но если больше, то неловко сидеть, когда рядом лежат.
Проблема гигиены находилась в небрежении, хотя прогрессивная книга “Твой дом, твой быт” рекомендовала “ежедневно мыть теплой водой с мылом все места, где может застаиваться пот”. Но уж вопрос физиологических отправлений воспринимался досадной помехой. На российскую целомудренность наложилась общеевропейская викторианская. Меня в детстве озадачивал “Таинственный остров” Жюля Верна: при дотошном описании устройства жилья в пещере – ни слова о сортире. Зощенко упоминает характерно: “Раз, говорит, такое международное положение и вообще труба, то, говорит, можно, к примеру, уборную не отапливать”. Повышенное внимание к этому делу было знаком чуждости: в “Молодой гвардии” для оккупанта “была сделана отдельная уборная, которую бабушка Вера должна была ежедневно мыть, чтобы генерал мог совершать свои дела, не становясь на корточки”. На корточки в те времена становилось подавляющее большинство населения страны. Не раз ходивший в первый год срочной службы “мыть толчки”, досконально знаю, что в армии уборные строились в расчете 1 очко на 20–25 солдат. Нам хватало. Городские туалеты служили убежищем зимой: здесь выпивали и закусывали, в женских – торговали косметикой и одеждой, так что пользоваться сортиром по прямому назначению делалось неловко.
Домашний санузел – совмещенный или нет – украшался, для чего везли технику из соц- и желательно из капстран. Известный писатель-сатирик рассказывал, как долго объяснял сантехнику, что привез из Финляндии биде и оно только похоже на унитаз, но назначение другое. Выслушав, мастер веско сказал: “Ты чего мне тут говоришь? Мы что, пиздомоек не ставили? Да я их наизусть знаю”. Успокоенный писатель ушел, а когда вернулся вечером, увидел, что биде аккуратно вмонтировано заподлицо с полом.
Позитивистское мышление требовало “научного” обоснования и гигиены и эстетики. Инструктивные книги обосновывали то, что было, кажется, и так ясно: “Недостаток солнечного света может способствовать появлению таких заболеваний, как малокровие, рахит у детей и пр… Грязные, запыленные стекла задерживают половину солнечных лучей”, “Портьеры не только защищают помещение от любопытных взглядов, но и служат хорошей тепловой и звуковой изоляцией”, “Цветы в комнате украшают жилище. Кроме того, они в течение дня активно поглощают углекислоту и выделяют много кислорода”.
Понадобился брежневский застой, когда общественная безнадежность обратила человека к насущным личным нуждам – быт негласно, но необратимо реабилитировался. К тому же шестидесятники довели до пародии и обессмыслили атаки на мещан, объявив их источником всех социальных бед, в том числе фашизма и сталинизма. Обыватель, обставляющий квартиру, вписывался в цивилизованную норму, которой теперь можно было не стесняться. И, что очень важно, – не бояться. Не то чтобы люди переменились – разложилась власть. Разложилась она давно, уже в 30-е революционеры стали бюрократами и обросли привилегиями, но сейчас этого, по сути, не скрывали. В “холодной войне” победили не ракеты, а ручки “паркер”, зажигалки “ронсон”, джинсы “ли”, машины – не “жигули”, а “тойота”, а лучше “мерседес”, добротная мебель, просторная квартира, дача. Победила идея жизни, то есть идею победила жизнь.
На широчайшем уровне – от зажиточного колхозника до городского интеллигента и провинциального партбюрократа – предметами вожделения были хрусталь, большой ковер (или безворсовый “палас”), мебельный гарнитур югославского или румынского производства. На высоком столичном уровне появлялись вещи из Западной Европы и Штатов: электроника, кухонная техника. Невыездных по мере сил обслуживала Прибалтика: транзисторы, магнитофоны, а также подсвечники, вазы, пепельницы, вешалки – вообще мелкие бытовые предметы, обилие которых подтверждало полный отказ от аскетической модели дома. Среди элиты выше “фирменной” мебели ценилась антикварная, само наличие павловского инкрустированного столика было пропуском в высший круг. В таких домах на стенах висели живописные подлинники: русских академистов конца XIX века либо современных художников, которым уже было принято заказывать портреты членов семьи.
Человек на всех уровнях полюбил жить богато и нарядно – попросту полюбил жить! Как писал по сходному поводу Зощенко: “Получилось довольно красиво. Не безобразно, одним словом. Морда инстинктивно не отворачивается”.
За прошедшие годы переменилось многое: психика, эстетика, акустика, оптика. Как-то я шел в районе московских новостроек. Красная неоновая вывеска прочитывалась издалека: “Тигровый центр”. И только через полсотни метров сообразил, что все-таки “Торговый центр”. Другая пошла жизнь: в конце концов, почему бы и нет, отчего бы тиграм не иметь своего центра?
В свое время Галич пел: “Мы поехали за город, а за городом дожди, а за городом заборы, за заборами вожди”. Сейчас заборов стало еще больше, вокруг той же Москвы, но это уже иное.
Дома под Москвой, Питером, Екатеринбургом, Нижним – особое российское явление: гибрид старой русской усадьбы с американским пригородом. Ведь это не уединенная бунинская Орловщина, а каких-нибудь полчаса-час от центра. Стилистический ориентир – начало XX века, но психология обитателей иная. Они жмутся друг к другу, потому что своя собственная надежная охрана по карману очень немногим, и они собираются вместе, неуютно ставя дома тесным рядком: сообща обороняться. Миллионерская коммуналка. Дачные поселки обнесены крепостными стенами, у ворот шлагбаумы, псы, автоматчики. Красивая жизнь куплена, но за нее страшно. Не помещичьи усадьбы, а феодальные замки среди крестьянских полей. Там, за заборами, воссоздается жизнь, о которой надолго забыли, но Бунин все-таки писал о той собаке, которая лежит у камина, а не рвется у шлагбаума с поводка.
Песня о памяти
Александр Блок 1880-1921
«Девушка пела в церковном хоре…»
Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.
Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.
И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,