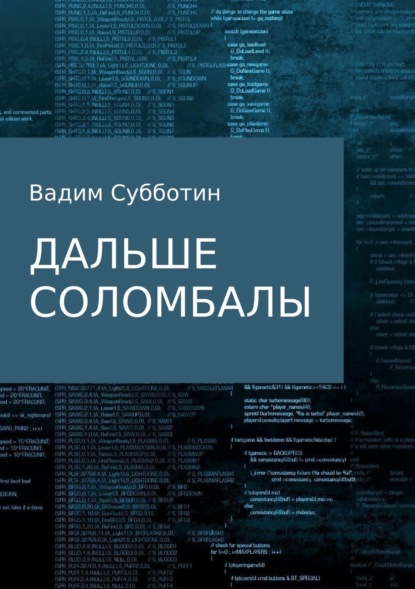 Полная версия
Полная версияДальше Соломбалы
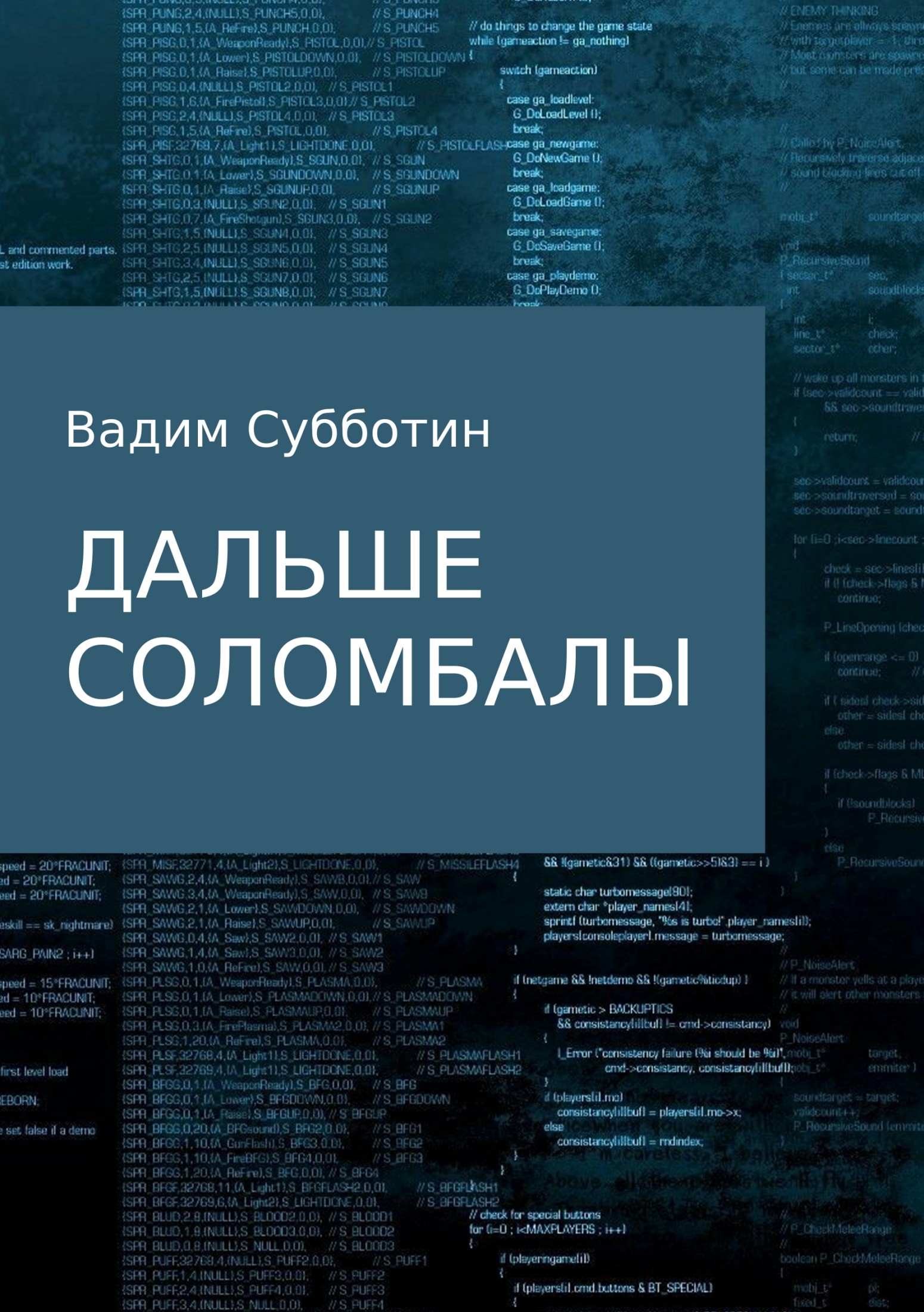
В ноябре рассветает к одиннадцати, смеркается к трём.
Скоро уже у Красной пристани и на Кузнечихе засверлят лунки – на ершей, сорожку.
День короток, со смены в клуб бегу. Дядька машет калечной рукой, завидев: народу набилось, место у входа держит. Вьётся нить табачная – не промахнусь.
– Что там? – задыхаюсь.
– Окружают, – скалится он сквозь дым.
…
Живём справно, грех жаловаться: в лесу – красноголовик, на Мхах – морошка, крупы, картошки не считаем, электричество на час каждый вечер – редко пропустят.
Дядька – бригадиром в потребкооперации на левом берегу. Уважают его сильно: «За Илью себя положим», – говорят. Вагон со спиртом под надзором экспедиторским разгружают – проценты бригаде, бой железной дороге. А новичку он и ватник под ящик подложит, и как другому мешок на плечи налить покажет.
Придёт вечером, на кухне фыркает: моется. Сядет за стол – несу графин да уху. На шум сосед выйдет: старый он, восемьдесят пятого. Спорят часто.
Рядом устроюсь, ноги подожму, слушаю.
– Да фотографий этих, – горячится дед Семён, – полный интернет был. И в рюшках, и в слюнявчиках, в фейсбуке, ватсапе, бог знает где ещё!
– Бог – знает, – улыбается в ответ Илья. – А только у нас в тридцатых уже ребятишек до года не то что снимать, срисовывать не давали. А где и вовсе зеркало малышу не казали.
Так и не сойдутся, отправятся спать на полуслове.
…
Утро гудком позовёт, так я привычная. Щепы наколоть, кашу на завтрак затеять. И на смену бегом.
В цехе бесконечно крутятся сушильные барабаны, накалываются штабельные карточки.
– Зольность один и три! – крякает мастер. Молотковые мельницы принимают опилки. Будем с премией.
Полдникаем чаем с беляшом, моем косточки лаборантам. Их у нас по брони двое: хлипкие, мало на что по мужскому делу годные.
– Такого рядом положу да задавлю спросонок, – хохочет Нинка Рожкова, напарница моя: кость широкая, кровь с молоком.
Отпрашиваюсь на час раньше, на почту забежать. Выстаиваю молчаливую очередь и за два человека до окошка налетаю на мель в глазах сортировщицы Нади.
– Вы проходите вперёд, – говорю женщине позади, – я не буду стоять, после зайду.
К шести на Воскресенскую в клуб поспеваю. Народу поменьше сегодня, места на скамейках проплешинами. Дядьку не вижу: верно состав с цинком достался, а пацаны напороли и теперь габарит чистят.
Экран оживает, встаём, льётся гимн: иные лишь губами шевелят, я – в полный голос.
Новости с рубежей всегда похожи. Ловлю себя на том, что почти не слушаю, а только смотрю на лица наших ребят – бравых, ладных в этих синих кителях с двумя рядами золотистых пуговиц.
Кончается журнал и пускают кино. Не остаюсь: электричество по домам скоро дадут, а стирки подсобралось.
На полуночной кухне дрожит жёлтый свет керосинки, Илья с Семёном в споре заходятся.
– Тротуарам каменными быть положено. Мостки твои, дед, – по зиме на дрова идут, едва снег сойдёт – перестилаем.
– Так за то по рукам и по паспорту бить надо, – горячится Семён. – Камней тебе, Гордеев, подавай – не в столице! Пока окружному до воровства дела нет, так и будете по весне латать.
Я мою чашки и думаю о том, что дед прав, да не прав. Угля всё меньше, а дров не всем посильно впрок запасти. Мебель какую лишнюю да книги с развалов давно пожгли, вот и редят тротуары, как приспичит.
Засыпаю долго, всё слушаю их сплетающиеся голоса.
…
В полдень сушильный цех замирает. Руки в воде с карболкой полощем, достаём из рюкзаков нехитрую снедь.
– А ну в города, девчата! – бросает Нина, управившись с бутербродом да холодным чаем. Я подхватываю.
На правилах сходимся таких: города – только наши, повтор или заминка на три счёта – выбыл.
И мечется эхо промеж мельниц:
– Петрозаводск! – Кострома! – Азов! – Вологда!
Олеся сдаёт быстро, после Клинцов. Настя за Керчью Чернигов ставит и выходит, краснея, под общий топот.
– Усолье! – Екатеринбург! – Гвардейск!..
После смены нас с Ниной подзывает Андреич, ведёт за собой вглубь цеха. За прессом снимает очки и, глядя мимо, говорит куда-то в пол:
– Другие игры выбирайте, Рожкова и Гордеева. Очень прошу. Не всё вам бегать – флюгера смотреть. Когда-нибудь, бог даст, и дальше Соломбалы пойдёте. Или дети ваши. Дожить вам надо.
Нинка испуганно гвоздит, оправдываясь. А я смотрю мастеру в лицо, но вижу почему-то лишь дрожащую фиолетовую жилку ниже седого виска.
…
За полночь щёлкает камешек в стекло.
Прихватываю кочергу поудобнее – дядька в ночную, а на Семёна какая надёжа? – отдёргиваю занавеску, всматриваюсь.
Маячит за окном Володька, за ним Максим с Дениской под ношей гнутся – мальчишки из бригады.
– Что шарашитесь?
– Тише ты! Илья прислал, мешки прими.
Заносят, сопя. Спрашивают попить. Выношу ковш тёплой воды – и с керосинкой к трафаретам: буряковый сахар да мука обдирная. Ох, дядька.
…
– Медали те, дед, за взятие городов давали. Берлин наши брали? Брали. Кёнигсберг брали? По сию пору наш.
Илья подмигивает мне и вдруг запевает: «А на груди его свети-илась медаль за го-ород Будапешт!» Голос у него сильный, зычный.
Я отвожу глаза и принимаюсь чистить картофелину: городов мне вчера на заводе с лихвой достало.
– Учителя у тебя были дрянь – упорствует Семён. – А то бы знал, что за освобождение те медали. Мы ж воины-освободители! За освобождение и возвращение!
Дядька закуривает, плещет спирт по стаканам, говорит примиряюще:
– Брось, Семён. Не видали мы с тобой тех наград, и спор наш пустой.
– А ты погоди, – дед поднимается, идёт, покачиваясь, на свою половину. Шарит, не зажигая света: гремят ящики, брызжет по полу стекло. Появляется в кухне, сжимая короткими толстыми пальцами неприметную коробку, в глазах – хмельное торжество. – Гляди!
Илья разнимает картонные створки, разворачивает тряпицу. Посверкивает металл, полыхает оранжевое с белым.
– За возвращение Крыма, – читает дядька вслух и уже одними только губами проговаривает даты.
Семён нависает над ним, исполненный победы.
…
…
На Рождество – выходной! Накануне мастер даёт расчёт и отпускает с полудня.
– С родными в сочельник побудьте, – напутствует, – а то пеллеты у вас за родню.
Шутка старая, как и сам Андреич, да мы смешливые.
На Поморской бреду мимо огромных двуручных корзин, мимо лавок в два створа с треской и палтусом – выгадываю. Прицениваюсь к глухарю да куропатке. Глазею на перстеньки с супирчиками. Выхожу с базара с ношей нетяжёлой, да не расстраиваюсь: будет с нас и пшеницы с мёдом.
На крыльцо поднимаюсь – незадача: заперта дверь изнутри. Не бывало такой надобности, стучу растерянно.
Открывает дядька, смотрит странно, будто оценивает, отступает, впуская.
Занавески задёрнуты, выхватываю в полумраке яркое пятно на столе, холодею, узнавая, пусть и видела только однажды.
– Зачем же это, а?
– Не пыли, – отвечает дядька. – Состав союзников сегодня приняли, заслал пацанов своих, махнули у экспедитора на дедову медаль.
Мне не хватает воздуха, и картинки перед глазами одна страшней другой. Персоналки – у особистов и советников от окружного и выше. Это даже не «Грач» или ТТ, за которые на укрепработы высылают.
Но вслух только спрашиваю:
– А если медали дед хватится?
– С чего бы? – режет Илья. – Он её лет двадцать поди не доставал, пока давеча не сцепились. А полезет, так верно потерял по пьяному делу – пособим, поищем.
– Поищем, – эхом отзываюсь я.
Смотрю на уверенные мосластые руки дядьки, задерживаюсь на трёхпалой; на тонкое полотно пыльного света, дрожащее в углу, где отошла занавеска; на точёные фигуры и невозможно чистые цвета, плывущие по экрану персоналки.
– Ты не дрейфь, племяшка. Узнаем, что там на самом деле, за рубежами, – и вернём игрушку. Тебе не хотелось разве?
Поют на крышах флюгера, крутятся в цеху барабаны, шагают мальчишки в синих кителях – где-то там, дальше Соломбалы.
Мотаю головой: нет, никогда, ни за какие обещания. И слышу свой голос:
– Вышка сотовая на морском вокзале есть. И на Троицком, за почтамтом.
– И в авиагородке, – добавляет дядька.
Если он и удивлён, то в голосе ни следа.
…
Назавтра благовест, колючий снег и карантин по гриппу.
…
Звук приходит из сна, прорастает в доме: стынет, зовёт.
Скатываюсь со взмокшей постели, бреду в горячечной дрёме, распахиваю дверь.
– Здравствуйте, Катя Гордеева, – произносит голос. И мимо скользят тени, пахнущие мокрым сукном.
…
Света здесь немного. Окно под потолком ловит его и, забавляясь, отпускает – то на угол стола, то на ручку сейфа. И никогда на пустое лицо напротив.
– Давайте по-простому, Катя. Вы же не хотите усложнять?
Я молчу. Не хочу усложнять. Вот только не знаю что.
– Вы же всё понимаете. Илья Михайлович был завербован иностранными агентами. Не бригада у него – подпольная ячейка национал-предателей: расхищали народную собственность, передавали чужим разведкам секретные сведенья, – на стол ложится затянутая в плёнку персоналка. – Наверняка, теракты готовили…
Голос течёт ровно, сожалеет.
Я смотрю в одну точку, сквозь лицо без единой приметы, в дальний угол, где блестит давно покинутая паутина и тоскуют следы протечек.
– Подпишите вот это, Катя. Знаете же, как говорят? Сын за отца не отвечает. А уж племянница за дядьку…
Свет моргает, сомневаясь, но тут же начинает по новой: угол стола, ручка сейфа.
– Вы бы не молчали, Катя.
Угол. Ручка.
– Что ж, давайте я помогу.
Свет замирает. «Поможете?»
– Извольте, – соглашается голос. – Афанасьев Яков Андреевич, семьдесят девятого. Потворство сомнительным играм, призывы к посягательству на целостность и суверенитет страны – от семи до двенадцати с поражением в правах.
Флюгера в моей голове начинают бешено вращаться под порывами шквального ветра, падающего с гор.
– Нина. Рожкова. Двадцать седьмого. Вот неувязка – Рожкова она по матери. Отец – кто бы подумал? – Бергман. Связь с иностранным агентом, пусть и давняя, – от трёх до пяти при смягчающих.
Пурга визжит, наливается силой: можно лечь грудью на стену ветра. Снег облепляет лицо и медленно душит.
– Митя. Восточный рубеж. Писем давно не было, правда? Может и вовсе больше не быть.
Ветер высасывает воду из озёр, сносит с моренных холмов валуны, срывает печные трубы и крыши. Волна подламывает береговой припай, тащит огромные куски льда во вздыбившееся море.
И нет просвета.
…
…
…
Нинка находит меня на набережной, подсаживается.
Май безумствует: тонет в белых ночах, в снежном яблоневом цвете.
– Отчего не прочтёшь? – кивает на конверт, зажатый в моей руке. Мятый, уставший от штемпелей, вскрытый и наспех заклеенный анонимным военным цензором.
– Боюсь, – отвечаю. – Если нет его больше, пусть ещё немного побудет живым.
Закат окрашивает далёкий берег. Нина резким движением откидывает волосы назад, затягивает:
Корабли у нас будут сосновы,
нашёсточки, лавочки еловы,
весёлышки яровые,
гребцы – молодцы удалые…
Солнце выжидает положенные минуты и вновь лукаво выглядывает из-за края.

