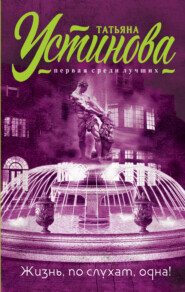скачать книгу бесплатно
Однажды он сказал ей об этом, а она засмеялась.
– Ты, оказывается, романтик, – сказала Ася низким голосом, рассматривая его удивленными, слегка раскосыми глазами. – А я и не знала, что романтики еще остались…
Генка смотрел ей в лицо не отрываясь и точно знал, что именно эта женщина с ее детской серьезностью и удивительными глазами послана ему в утешение, чтобы обратить его и спасти. А он так запутался, что распутаться невозможно, только разом покончить со всем, разрубить узлы и начать жить заново, с чистого листа, так, чтобы все было понятно, просто и правильно!..
Как именно он станет разрубать эти самые узлы, Генка представлял себе не слишком отчетливо.
– Все из-за баб, – как-то сказала его мать и пальцем постучала ему в лоб, – все твои беды, сыночек, только из-за них!..
Палец был холодный и твердый, будто алюминиевый, и вбивал Генке в мозг ее слова. Генка кривился, сопел, как маленький, и точно знал, что мать… права!
Абсолютно права.
Он рассматривал в мониторе компьютера макет какого-то постера или плаката, который ему прислали утром из рекламного отдела, и решительно не мог сообразить, что такое там нарисовано и хорошо это или плохо. Он рассматривал и думал, что Ася – его последний, самый главный шанс выбраться из всей этой чехарды, которая творилась с ним в последние годы. Выбраться и задышать полной грудью, начать жить в полную силу, а не так… вперевалочку, как сейчас.
– Геночка!
Он молчал и рассматривал постер. Или плакат.
– Ген, ты слышишь? Обрати уже на меня внимание!
– А?!
Маленькая, хорошенькая, похожая на мышку, Анечка Миллер из соседнего отдела постучала ему по голове свернутым в трубку плакатом и засмеялась, когда он поднялся. Генка был примерно вдвое выше ее.
– Але?! Есть кто дома? Что это тебя не дозовешься?!
– Я просто… занят, – пробормотал Генка.
– Ты просто сидишь и смотришь в компьютер уже сорок минут, – насмешливая Анечка тем же плакатом постучала по монитору, как только что им же по Генкиной голове. – Я к тебе заходила, постояла, посмотрела и ушла. Ты меня даже не заметил!
– Я же говорю, что занят!
– Ничем ты не занят, – заявила Анечка и опять потрясла своим плакатом. – Это тебе. Генеральный велел передать. Это распечатка того же макета. Ты должен посмотреть и на совещании высказать свое веское слово.
– Это генеральный так сказал?
– Он! И плакат велел распечатать.
– Что это ему неймется? – с тоской спросил Генка сам у себя и развернул на столе плакат. – Ты не знаешь?
Плакат был ужасен, и на бумаге это было особенно понятно. На черном фоне красные прямоугольники, а в прямоугольниках зеленый готический шрифт. Как известно, если по-русски писать готическим шрифтом, разобрать, что именно написано, вообще невозможно.
– Ого, – издалека сказал Дима Савченко, не имевший к плакату никакого отношения и по этой причине абсолютно уверенный в себе. – Это кто ваял? Ты, Генк?..
И народ, обрадовавшись развлечению, стал подтягиваться из-за своих столов, вооруженный кофейными кружками, сигаретами и пепельницами.
– А что? По крайней мере, броско!..
– Нет, вот здесь надо написать «Нигде кроме, как в МОССЕЛЬПРОМЕ», и тогда будет отлично!
– А это чего реклама-то? И вообще это – реклама?..
– А кто макет утверждал? Первый раз вижу, чтоб генеральный такой макет подписал!..
– Да он не видел! Он только сегодня увидел, потому что это должно завтра в расклейку пойти, а у нас… видите что? – Это вступила Анечка Миллер, которой хотелось дать пояснения. Она была немного влюблена в Генку, отчасти ему сочувствовала и слегка злорадствовала, ибо Генка за все время ее работы в конторе ни разу не обратил на нее внимания.
Анечку раздирали противоречия – с одной стороны, ей хотелось, чтобы генеральный Генке навалял, а с другой стороны, ее тянуло каким-то образом его спасти. Может, если она спасет, Генка обратит на нее внимание?!
– Как завтра в расклейку? А печатать когда?!
– Да сегодня должны были печатать, о том и речь!..
Генке надоело представление, в котором он исполнял роль дрессированного медведя, причем дрессированного не слишком хорошо. Одним движением он смахнул со стола плакат, так что все отшатнулись, и грозно спросил у Анечки, что именно просил передать ему генеральный.
Анечка испуганно выкатила черные мышиные глазки.
– Ну, только то, что на совещании ты должен всем объяснить, в чем именно креатив и смысл подхода… и все.
– Отлично! – Генка скатал плакат туго-туго, глянцевая бумага неприятно поскрипывала у него в руке. – В таком случае все свободны! Я никого не задерживаю!
Кто-то из девиц непочтительно фыркнул, Савченко сообщил, что он такой красоты век не видывал, и все разошлись. Анечка порывалась что-то сказать, но Генка отвернулся от нее. Она постояла-постояла и тоже ушла.
Генка кинул скатанный в трубку плакат на пол, где он тут же развернулся с медленным шорохом. Генка подвинул кресло так, чтобы не видеть плаката. Лучше всего было бы к совещанию придумать что-нибудь абсолютно новое и совершенно гениальное, такое, от чего генеральный пришел бы в экстаз, а все остальные художники, вроде придурка Савченко, осознали, как они мелки и бесталанны по сравнению с Геннадием Зосимовым, но было совершенно ясно, что ничего не придумается.
Он просто не мог думать о плакате, генеральном, полноцветке и кегеле! Жизнь рухнула, а тут какие-то плакаты и кегели!..
Впрочем, рухнула она не вчера, жизнь-то.
Геннадий Зосимов считал, что все рухнуло, когда он столь необдуманно женился на Кате Мухиной. Впрочем, тогда он ни о чем не задумывался. Он был влюблен, молод, слегка безумен от молодости, любви и сознания того, что его полюбила «такая девушка».
Катя Мухина училась на филфаке и была малость не от мира сего, то есть точно знала, кто такие «малые голландцы», чем именно знаменит Джованни Пиранези и что лестницу во внутреннем университетском дворе сработал Валлен-Деламот. Девушки с филфака питерского университета котировались высоко!.. Сюда не попасть «просто так», «с улицы», и у него репутация не хуже, чем у столичного, а филфаковское девичье сообщество было совсем особого рода.
Парни чрезвычайно гордились, если им удавалось заполучить такую девушку, и, представляя в компании Машу или Дашу, непременно уточняли, что «она с филфака».
Катя Мухина была не просто утонченная интеллектуалка. Она была дочерью очень большого человека, и романтическому Генке Зосимову Катина родословная немного прибавляла энтузиазма. Да и мать, обычно относившаяся к его романам с бурным неодобрением, на этот раз притихла, наблюдая за развитием событий.
– Упустишь ее, – сказала она ему, после того как Генка первый раз привел Катю на «чай с вареньем», – из дому выставлю и обратно не пущу!.. Бог дурака, поваля, кормит!.. Тебе счастье само в руки плывет, ты это хоть понимаешь?! Умная, тихая, да с таким отцом!
И постучала его по лбу алюминиевым холодным пальцем.
И Генка уверовал в свое счастье, само плывущее в руки, и водил Катю на модные выставки, и знакомил с модными художниками, и однажды написал на асфальте под ее окнами розовым мелком «Гена любит Катю» и нарисовал сердце, пронзенное стрелой. Он караулил, когда она выйдет на балкон, и она вышла, и тогда он бросил ей охапку рыжих осенних бархатцев, привезенных с бабушкиной дачи. Они не долетали до второго этажа, рассыпались и валились на асфальт, прямо на пронзенное розовой стрелой сердце, с тихим сухим шелестом, а Катя, растерявшаяся от счастья, пыталась их ловить, а Генка собирал и снова подбрасывал, и наконец она поймала один цветок и прижала к груди!.. Когда они целовались на лестнице, рыжий цветок все время лез им в щеки и губы, как будто хотел остановить их безудержные поцелуи, помешать, разлучить, и Генка швырнул его на лестницу, но Катя подобрала и сказала, что засушит его и будет рассказывать внукам, как дедушка Гена когда-то ее любил!..
Она очень быстро ему надоела.
Столичной барышни из нее никак не получалось, хоть она и была «с филфака». Книжки интересовали ее больше, чем тусовки, в современном искусстве, которым так восхищался Генка, она ничего не понимала, этнический джаз ее почему-то смешил, а про модного художника Кулебяку, писавшего исключительно автопортреты, Катька однажды тихонько выразилась, что он «с приветом».
– Да это же у Алексея Толстого описано, – оправдывалась она, когда Генка заорал, что она деревенская дура и ничего не понимает в искусстве, – в первой части «Хождения по мукам»! Как же ты не помнишь?! У Ивана Ильича в квартире была «Центральная станция по борьбе с бытом», и они все там собирались – Сергей Сергеевич Сапожков, Антошка Арнольдов и художник Валет. У Валета на щеках были нарисованы зигзаги, он этим очень гордился и писал исключительно автопортреты! И они все были «с приветом», просто от молодости и от духа свободы. Им казалось, что автопортреты и зигзаги – это и есть свобода.
Генка ничего не знал ни про какого Валета, зато точно знал, что по Кулебяке весь Питер сходит с ума, что попасть к нему в мастерскую на «первый показ» удается единицам, что, по слухам, он «пошел на Западе» и его дружбы добивается сам Тимоти фон Давыдович, исключительно уважаемый в узких кругах художник, оформлявший самые модные клубы, вроде «7roub-лей» и «ТосКа На!..»!
Приезжая белоярская курица, Генкина жена, понятия не имела, как важно тусоваться с этими великими людьми, находиться в орбите их внимания, при случае упомянуть о знакомстве, и люди знающие, понимающие, продвинутые сразу начинают по-другому относиться к тебе, уважать начинают, ценить!..
Вот Илона все понимала.
Илону Генка подцепил в каком-то «лофте», где была презентация очередного кулебякинского автопортрета.
Кирпичные стены «лофта» подсвечивались синим огнем, кирпичные потолки тонули в клубах подозрительного дыма, кирпичные полы были застелены коричневыми клеенками, а в углу почему-то стояла новогодняя елка, несмотря на то что за окнами был июль и Питер, непривычный к азиатской жарище, изнемогал от зноя. Елка была украшена лампочками, а также засохшими окровавленными бинтами и использованными дамскими тампонами. За елкой стоял вентилятор и дул изо всех сил, так что тампоны и бинты шевелились и качались на ветках.
Кулебяка рядышком давал интервью трем околохудожественным барышням и одному недокормленному юноше в пыльных белых брюках. Околохудожественные барышни, несмотря на бравый вид, были явно смущены, да и сам Кулебяка казался не совсем равнодушным к шевелению тампонов в непосредственной от себя близости, искоса поглядывал на них и время от времени делал некое антраша ногами, с каждым разом оказываясь все дальше от елки. Вся остальная компания, вытянувшая руки с диктофонами, перемещалась следом за ним.
– Символом нашей цивилизации, – давал пояснения Кулебяка, – стало соединение крови и грязи, выродившегося мужского и женского начал! Словно огромная вагина, цивилизация исторгает из себя только кровь и грязь, и больше ничего! Только страдающие половым бессилием или старческим слабоумием еще надеются на то, что взбесившийся мир вернется на круги своя!
Какая-то девушка, очень яркая, сверкающая блестками в волосах, на веках, на груди и на джинсах, подошла и тоже стала слушать. Генке девушка понравилась – тем, что не обратила никакого внимания на тампоны. По правде говоря, Генку они тоже сильно смущали.
– Он гений, – сказала девушка про Кулебяку, когда Генка подошел познакомиться, – а им все можно. Вы ведь согласны, что им можно все?
Генке был согласен. Он много бы дал за то, чтобы стать гением и чтобы ему тоже было можно… все. Вешать в середине жаркого лета тампоны на новогоднюю елку, к примеру. Получать любых женщин, даже таких ярких, как Илона. Писать собственные автопортреты, очень странные и не похожие на автопортреты, посмотреть на которые, однако, съезжаются журналисты не только отечественного, но и иностранного производства.
Трудно жить, когда ты не гений, а обычный человек и тебе ничего нельзя!..
Сиди весь век со своей деревенской дурищей, которая только и умеет, что рыться в книжках и смотреть отсутствующим взглядом, работай свою скучную работу, принимай подачки от тестя, делай вид, что тебе приятно!..
Подвыпив на вечеринке, Генка все это выложил Илоне, которая никак не уходила из «лофта», все рассматривала автопортрет, и глаза у нее смеялись.
– А что такое? – весело спросила Илона, когда Генка в пятый раз завел речь о том, как ему надоела жена. – Вы не можете послать ее к чертовой бабушке? У вас династический брак?
– Да в том-то и дело! – воскликнул Генка. У него шумело в ушах, и казалось, что в голове плещется весь выпитый виски со льдом и льдинки острыми краями колют его мозг. – Не могу! Куда я пойду?! Ее папашка нам квартиру купил, и у меня на эту квартиру никаких прав нет, как будто я собака! Ну правда как собака!.. Она единственная дочь, королевишна, а я никто! Куда я пойду?! К матери в коммуналку на Лиговку?! А я не хо-ччу! Не хо-ччу, понятно?!
– Да мне-то понятно, – задумчиво рассматривая его, сказала Илона. – А вот ей ты об этом говорил?
– Кому? – не понял Генка. Желтые пары виски сгустились под самым черепом и застилали глаза.
– Да жене своей, кому! О том, что ты ее не любишь и живешь с ней только ради квартиры?
Генка попытался вспомнить, говорил или нет, и сказал на всякий случай:
– Сто раз говорил!..
Илона с насмешливой нежностью взяла его под руку, и ее усеянная блестками грудь оказалась в непосредственной близости от Генки.
– Я не понимаю таких женщин. – Илона повела его мимо автопортрета, под которым на матрасике спал безмятежным сном художественный гений Кулебяка.
– Ка… каких женщин? Разве она женщина?! Она… она…
Илона тащила Генку под руку, перед глазами у него все сверкало и искрилось от ее блесток, а может, от того, что в голове произошло короткое замыкание.
– Она не женщина, – бормотал Генка среди сыпавшихся на него со всех сторон блесток и искр, – она… она… Она выдра и выпь!
– Кто-о-о?!
– Выдра и выпь! – гордо повторил Генка. – Ты мне верь, я знаю, что говорю!..
Кажется, эта, которая в блестках, – Генка вдруг позабыл, как ее зовут, – над ним смеялась, а может, наоборот, жалела, и все куда-то его тащила. Он поначалу шел, а потом стал вырываться, но она все равно тащила, и он сел на ступеньки – там были какие-то ступеньки – и заплакал.
Ему казалось, что он плакал очень долго, звезды и искры куда-то подевались, зато появился огонь, который жег ему глаза, казавшиеся очень сухими, и в голове гудел набат, и ужас подкатывал к горлу, и невозможно было разлепить ссохшиеся веки, и…
…И вдруг оказалось, что уже утро. Нет никакого огня. Солнце светит ему в лицо, жаркое, летнее, веселое солнце, и окно странным образом переехало на другую сторону, и второе окно за ночь кто-то заложил кирпичом!
Постепенно выяснилось, что никто ничего не заложил. Просто он, Генка Зосимов, спит вовсе не в собственной спальне, а в чьей-то чужой, и там всего одно окно!..
Потом припомнились блестки в волосах, на груди и на веках, потом тампоны на елке – тут Генку чуть не вырвало, – кулебякинский гений, умные разговоры, странное имя, которое он вчера под вечер никак не мог выговорить, и еще то, что выдра и выпь не знает, где он, и наверняка подняла на ноги всю городскую милиция, с нее станется!..
Потом пришла Илона и принесла ему чаю с лимоном и две таблетки аспирина, почему-то на блюдечке. Блюдечко было не слишком чистым, с мутными засаленными краями, как будто много лет у него мыли только серединку.
Их роман был бурным и великолепным. Илона оказалась художницей, то есть натурой утонченной и понимающей, не чуждой этническому джазу и современному искусству. Со всеми она была знакома, с Тимоти фон Давыдовичем даже на «ты», а сам Кулебяка однажды похвалил ее инсталляцию под названием «Будильник». Инсталляцию Илона сооружала часа два, не меньше. На ободранной колченогой табуретке стоял разваленный на две части школьный глобус. К одной его части клеем «Момент» были приклеены старые наручные часы, давно остановившиеся. А к другой – проволокой прикручена крышечка велосипедного звонка. Из наивного белого пластмассового брюха вскрытого глобуса торчала пустая банка из-под кока-колы. С этой банкой художнице пришлось повозиться, ибо она никак не хотела стоять, все время вываливалась из земного чрева с тихим жестяным звуком.
Кулебяка сказал про инсталляцию «Будильник», что она, конечно же, сыровата, но мысль… мысль есть!..
Генка тоже находил, что мысль есть, но до конца не понимал, какая именно. Но какая-то точно есть!
Все началось заново – как будто жизнь, описав круг, вышла на новую орбиту. Он встречал свою художницу у подъезда старого питерского дома, где она снимала студию, провожал домой, покупал цветы и смешного шагающего Винни-Пуха у торговки на Невском. Они ели мороженое и сидели на набережной, свесив босые ноги с гранитного парапета. Ноги не доставали до воды, но в их сидении была удивительная легкость, молодость, счастье! Солнце светило, чайка парила над свинцовой водой, по мосту в обе стороны шли машины и люди в летних легких одеждах. Ни люди, ни машины не знали, как хорошо Илоне и Генке вдвоем, как весело болтать, как они с полуслова понимают друг друга, и впереди у них целый вечер – в каком-нибудь «лофте» или клубе, где все так же отчаянно молоды и талантливы, так же понимают друг друга с полуслова или вообще без слов!..
Где-то на заднем плане маячила Генкина жена Катя – у Илоны ничего такого не было, в смысле семейными узами она не была обременена, – но какое это имело значение?! На наличие какой-то там жены Кати никто не обращал внимания, влюбленные о ней словно позабыли – стоит ли думать о чем-то или о ком-то, совершенно не имеющем к ним отношения?!
Так прошло лето, и осень минула, и зима накатила и отступила, освободив от морозных цепей застывший в судороге город. Началась весна, и вместе с ней проблемы.
Студия, в которой работала Илона, была, конечно, никакой не студией, а просто громадной комнатой в громадной питерской коммуналке на тринадцать жильцов, и в одночасье Илону оттуда выставили вместе со всеми инсталляциями, привезенными с выставок и сделанными просто так, для души. Какой-то нувориш, чуждый понимания прекрасного, коммуналку купил, расселил и вознамерился соорудить в ней уютное гнездышко, чтобы жить там с супругой и наследниками.
Перевозить инсталляции оказалось делом крайне неудобным, грязным и очень затяжным. Обливаясь потом, Генка таскал с четвертого этажа все эти табуретки, стулья, консервные банки, рулоны туалетной бумаги – слава богу, неиспользованной! – фанерные звезды, обтянутые фольгой, и даже остов пружинной кровати. Грузчикам невозможно было довериться, ибо все это был не просто хлам, а произведения искусства и образчики Илониного творчества.
Генка все таскал и таскал, а инсталляции все никак не заканчивались, и вообще в какой-то момент ему стало казаться, что конца им никогда не будет. Да еще унылый молодой водитель, наблюдавший за Генкиными мучениями, подлил масла в огонь.
Когда Генка бережно устанавливал в кузов кресло с выдранной обивкой и подтыкал поролоновые клочья, символизировавшие, если он правильно уловил, разоренное родительское гнездо, водитель подошел, облокотился на откинутый борт, засмолил папироску и осведомился, куда Генка намерен вывозить хлам.
Генка, пыхтя, отдуваясь и утирая кативший градом пот, выпрыгнул из кузова, спросил у водителя папиросу, закурил и назвал адрес.
– А то давай сразу на свалку, хозяин, – предложил тот сочувственно. – Чего туда-сюда круги наматывать! Все одно придется… того! За мост!
– За какой мост? – не понял Генка.
– Ты че, приезжий? – обидно спросил Генкин собеседник, сплюнул и объяснил: – Свалка городская тама! За мостом! – И показал небритым подбородком куда-то в сторону пыльных окон, облупленных стен и расхристанных дверей углового парадного. – Небось бабуся твоя и не обидится! Небось тоже ж понимает, что такому добру только на свалке и место! Вот жисть, а? Наживала, наживала, а теперь в помойку!..
– Какая бабуся? – опять не понял Генка.
– А ты разве не бабусю перевозишь? – удивился водитель. – Я из этого дома трех бабусь перевез! Эх, расселяют потихоньку коммуналочки-то! А у твоей рухлядишка совсем того… подкачала. У тех трех поприличней все же!..
В тот вечер впервые Генка с Илоной поссорились.