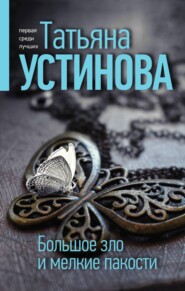скачать книгу бесплатно
– Я… не Борина, – заикаясь, пролепетала тетка, очевидно, плохо понимая, о чем именно она говорит, – я теперь Селезнева, а раньше была Уварова… – она оглянулась по сторонам, как бы ища поддержки и опоры в привычном окружающем мире, и наткнулась на насмешливый взгляд потаповского охранника. На охранника она уставилась почему-то с ужасом.
Потапов тоже оглянулся, чтобы посмотреть, что именно вызвало в ней такой небывалый эмоциональный подъем.
Ничего особенного он не увидел. Только охранника Сашу, за плечом которого открывался школьный вестибюль, залитый беспощадным электрическим светом и выкрашенный в скамеечный темно-голубой цвет. Сиротские зеркала без рам отражали лица и спины учеников, пришедших на «встречу друзей». Их было на удивление много. Потапов был уверен, что на эту самую встречу, кроме него, идиота, явятся еще два-три таких же придурка и классная руководительница Калерия Яковлевна. Но в зеркалах отражалось великое множество народу, и он вспомнил, какую бурю пришлось пережить школе, прежде чем директриса приняла решение повесить эти зеркала.
«Какие еще зеркала в школе?! Что вы хотите там рассматривать?! Вы приходите сюда за знаниями, а вовсе не за тем, чтобы любоваться на себя в зеркало! Или вы собираетесь перед ним красоту наводить?! Так здесь школа, а не салон красоты!»
«А почему тогда в учительской зеркало есть?! – кричал комсорг Вовка Сидорин. – Почему учителям можно красоту наводить, а нам нет?!» Потапов помалкивал. Его зеркала в вестибюле не слишком интересовали. Он читал Хемингуэя и весь был в той войне, в тех страданиях, смертях и любви.
– Господи, – пробормотала рядом Тамара Селезнева, бывшая Борина, бывшая Уварова, – Митя Потапов… это… ты?
– Я, – согласился Потапов, которому надоел этот разговор, – а ты не видела никого из… наших?
Он не слишком понимал, что имеет в виду под словом «наши» – одноклассников, наверное, – но ему хотелось поскорее отойти от Тамары Бориной-Уваровой-Селезневой – а просто так бросить ее ему было почему-то неловко.
– Разрешите ваше пальто, Дмитрий Юрьевич, – сказал из-за его плеча охранник, которого эта тетка развлекала, и он решил поддать пару.
– А? – переспросил Потапов и оглянулся. – А, да, конечно…
Он непочтительно выбрался из черного кашемира и кое-как сунул его Саше в руки.
– Все наши здесь, – пробормотала Тамара и неожиданно залилась краской, – мы вас никак не ждали, Дмитрий Юрьевич… Нам сказали, что вы не сможете быть на нашем вечере, и мы вас не ждали… Мы даже не подготовились… Как же это вы… приехали?
– Взял и приехал, – ответил он довольно грубо.
Почему-то ему не понравилось, что Тамара стала называть его на «вы». Он не на банкете в «Балчуге» и не на приеме в английском посольстве. Он же ясно объяснил ей, что сидел за ней на литературе, и Кузя списывал у нее, а сам Потапов у Сурковой. Интересно, Суркова стала такой же дурой, как эта?
Впрочем, наверное, и эта самая Тамара тоже не дура. Просто на нее такое впечатление производит нынешнее потаповское положение. Оно на всех производит одинаковое впечатление.
– Маргарита Степанна, Александр Андреич! – вдруг заголосила рядом с ним Тамара. – К нам приехал Дмитрий Юрьевич! К нам приехал Дмитрий Юрьевич Потапов!
«К нам приехал, к нам приехал Сергей Сергеич дорогой!» – уныло вспомнил Потапов фразу из величальной песни.
Хотел простых человеческих радостей, Сергей Сергеич, дорогой? На воспоминания тебя потянуло? «Школьные годы чудесные! С книжками, с чем-то там, с песнями»? Вот получи! Что теперь морду воротить! Поздно.
Лучше бы с крыльца развернулся и уехал. Ей-богу.
Со всех сторон к ним теперь лезли любопытные, и издалека приближался бессменный завуч Александр Андреич, и откуда-то должна была вынырнуть Маргарита Степанна, да еще о Калерии Яковлевне он позабыл, а она наверняка тоже была где-то поблизости.
– Сюда, сюда, – хлопотала оказавшаяся к нему ближе всех Тамара, – проходите, Дмитрий Юрьевич, пропустите нас, пожалуйста! А с кем это вы? Ах, это ваша охрана! Проходите, проходите! Видите, как много у нас сегодня народу, все откликнулись на призыв нашего комитета, а мы еще сомневались, стоило ли затевать все это! А ваша супруга не приедет? Нет?
Она стрекотала теперь, как из пулемета, и оглядывалась на толпу, теснившую их, и глаза у нее были дикие и восторженные.
Последний раз, поклялся себе Потапов, последний раз поддался всяким бредовым ностальгическим идеям. Первый и последний. Лучше бы к родителям съездил. Или на Российское телевидение. Давно бы надо, а он все тянет, все не знает, что именно станет там говорить, идиот!
Охранник, довольный таким неожиданным и сокрушительным успехом шефа, посапывал у плеча, и Потапов был совершенно уверен, что он думает, будто шеф все эти китайские церемонии затеял специально – для того чтобы выглядеть высокопоставленным и знаменитым, но простым и скромным. Конечно, профессионал в охраннике настойчиво шептал, что из толпы лучше бы выбраться поскорее, тем более площадка не подготавливалась и не разрабатывалась, и он ничего не знает – ни где двери и окна, ни как попасть на лестницу или к черному ходу, но Саша не особенно слушал свой внутренний профессиональный голос.
Вряд ли кто-то из бывших учеников этой районной московской школы сейчас бросится на шефа с ножом или стволом. Тем более шеф вовсе и не собирался сюда ехать. Да и не нужен он никому, по правде говоря…
Охранник не знал, что человек с пистолетом, надежно уложенным под луковыми перьями, уже пришел на заранее выбранное место и основательно приготовился к работе.
Маруся сидела очень неудобно – в середине актового зала, за чьей-то могучей спиной. Ей совсем ничего не было видно, кроме коричневого пиджачного плеча Мити Потапова, который в самом начале вечера был с такой помпой помещен в президиум, что Марусе стало смешно. Слева и справа от него примостилось высшее школьное начальство, а где-то в середине вечера подгребло еще и районное, очевидно, оповещенное школьным о том, что у них на вечере присутствует Дмитрий Потапов. Как его там?.. Иванович? Юрьевич? Районное начальство было встречено вконец потерявшейся от обилия высшей власти директрисой с подобострастными поклонами и приседаниями. Седенькие, кое-как завитые волосы у нее на макушке мелко дрожали. Марусе было ее жалко.
Бедная, бедная… Как пить дать, сделается у нее вечером гипертонический криз, и будет она принимать валокордин и капотен и жаловаться своему глухому мужу, что на нее в один вечер навалилось все сразу – выпускники, районо, федеральный министр – «сам Потапов»! – префект, супрефект, и прочая, и прочая, и прочая, как писалось раньше в царских манифестах.
Кроме суеты вокруг министра, из-за которой никто из выступавших не мог и двух слов толково связать, Марусю очень занимал вопрос присутствия Димочки Лазаренко.
Зря она изображала перед Алиной наплевательское лихое равнодушие.
Да, да, прошло много лет. Да, их больше ничего не связывает. Да и тогда, наверное, их тоже почти ничего не связывало, кроме Димочкиного непонятного желания заиметь Марусю в качестве боевого трофея и ее обморочной в него влюбленности.
Все правильно.
Только все равно она потащилась на этот вечер, чтобы посмотреть на него. Просто посмотреть. Вспомнить мужчину, с которым когда-то ей было так… необыкновенно. Нет, наверное, не самого мужчину – что там его вспоминать! – а то состояние души, которое она пережила с ним и больше не переживала никогда.
О, это было потрясающее, раз и навсегда изменившее всю ее жизнь и перевернувшее душу состояние. Господи, сколько всего намешано было в том, что в книжках и фильмах называлось затасканным словом «любовь». До Димочки Маруся тоже с легкостью произносила это слово, не придавая никакого значения его смыслу. То есть как и во все на свете, она вкладывала в это слово вполне обычный житейский смысл и не знала, не ведала, глупая, самоуверенная девчонка, в каком огне ей предстоит сгореть!
Поэтому Маруся вертелась в середине своего ряда, закрытая чьей-то могучей спиной, пытаясь определить, приехал Димочка или не приехал, так что в конце концов какая-то бывшая выпускница, сидевшая слева, больно ткнула ее локтем в бок.
– Спокойно нельзя посидеть? – прошипела она. – Слушать невозможно!
Слушать было, собственно, и нечего, но Маруся покорно притихла.
Слово предоставили Дмитрию Потапову, который оказался все-таки Юрьевичем, а не Ивановичем. Он быстро произнес какую-то довольно дружелюбную и связную ахинею, удивив Марусю, считавшую, что все как один государственные деятели его уровня косноязычны от природы. Однако Потапов со своей короткой речью справился просто блестяще. В нужных местах зал похохотал, потом грустно и сентиментально притих, а потом, как положено, разразился «бурными и продолжительными».
Маруся тоже похлопала.
Молодец Потапов. В люди выбился, говорит хорошо, выглядит приятно. Брюхо не отрастил, волосы не все растерял, научился носить костюмы и галстуки, охранника за плечом совершенно не замечает, как будто его там и нет, и на ритуальные танцы вокруг себя начальников рангом пониже, кажется, не слишком обращает внимание.
Хорошо бы с ним поговорить, все-таки много лет подряд он списывал у нее литературу, а она у него – алгебру и английский. Английский Потапову давался так легко, как никому из их класса, а Марусе в самых кошмарных снах до сих пор снились эти проклятые времена «паст перфект» и «герундий».
Впрочем, что зря мечтать. Вряд ли ей дадут с ним поговорить. Как только кончится действо и начнется застолье, кто-нибудь из местного начальства под ручку утащит его в «отдельный кабинет», или он сам удалится в «Мерседес», который Маруся видела у школьного крыльца, со скучающим, несколько утомленным, но вполне благожелательным видом, как и положено начальнику его уровня, посетившему такое ничтожное мероприятие, чтобы отдать дань милым детским воспоминаниям.
А жаль. Маруся могла бы попроситься к нему на работу.
Ей вдруг стало так неловко, что она покраснела и оглянулась на сердитую соседку слева – не услыхала ли она как-нибудь крамольных Марусиных мыслей.
Что это пришло ей в голову! Наверное, не только директрисе, но и ей, Марусе, придется на ночь тяпнуть чего-нибудь успокоительного! Что за ерунда! К Потапову теперь нельзя даже просто подойти, не говоря уж о том, чтобы просить об одолжении! Случайно получилось так, что когда-то они были знакомы, и теперь она вполне может похвастаться в компании, что лично знает «самого Потапова», но «сам Потапов» нынче вряд ли захочет даже плюнуть в ее сторону!..
И все-таки жаль. Вдруг это был бы ее шанс?
Маруся Суркова всегда старалась использовать все возможности до конца. Ради Федора и его спокойной жизни она готова была не только кинуться в ноги ставшему совсем чужим и взрослым бывшему однокласснику Потапову, она могла бы землю копать. Или бревна таскать. Да все что угодно.
А на работе у Маруси все было… не слишком хорошо, и это напрямую угрожало благополучию Федора и ее собственному. Вспомнив об этом, она внезапно перестала слышать и видеть, и ей стало все равно, приехал Димочка Лазаренко или нет.
Она не может потерять работу. Они не выживут, если она потеряет работу. Даже двух месяцев без работы она не протянет.
А начальник, между прочим, с каждым днем становился все холоднее и холоднее, и как-то странно морщился в ее присутствии, и что-то все отворачивался, и распоряжения отдавал напряженным высоким голосом, что – Маруся знала – являлось признаком высшей степени недовольства.
Она очень старалась. Она работала быстро и безупречно. Она выполняла его указания еще до того, как он договаривал их до конца. Она не обращала внимания на его хамство, раздражительность и перепады настроения. Она изо всех сил пыталась облегчить и организовать его работу как-нибудь так, чтобы эта работа хоть как-то делалась, поскольку он сам, личность высокого творческого полета, считал, что работать вовсе не должен, что он исключительно хорош уж тем, что просто существует на свете – в этой должности, в этом кабинете, среди богатой мебели, в окружении евроотремонтированных стен, изящных настольных безделушек, которые ему привозили со всего мира, среди люстр, искусственных и живых цветов, глухих дорогих ковров – всего этого нового блеска, появившегося так недавно и моментально вытеснившего из высоких кабинетов былую начальственную канцелярщину.
Маруся работала не за страх, а за совесть, не позволяя себе ни лишнего слова, ни необдуманного жеста, и была совершенно уверена, что еще немного – месяц, два, – и он ее уволит.
Жаль, что не придется поговорить с Потаповым. Терять ей все равно нечего, а он много лет списывал у нее литературу. Впрочем, она тоже много лет списывала у него английский.
Маруся усмехнулась, возвращаясь обратно – из тревожных, нервных и лихорадочных дум о работе в школьный актовый зал, где уже заканчивалась торжественная часть, и от сгустившейся парфюмерной духоты начинала побаливать голова, где в задних рядах уже умеренно шумели подуставшие от речей бывшие ученики, мечтая поскорее приступить к банкету, а седенькие завитки на макушке у директрисы тряслись все заметнее и заметнее.
Может, он и не приехал. Может, его не нашли, когда обзванивали выпускников восемьдесят пятого года. Или он не захотел приехать. Или не смог. Напрасно она мучилась бессонницей, и выслушивала Алинины колкости, и не проверила сегодня английский у Федора, потратив все время на изобретение какой-то необыкновенной прически. Он не приехал. Ну и черт с ним.
Пробежали хлипкие аплодисменты. Директриса все еще что-то говорила в микрофон, а по всему залу уже вставали с мест, хлопали по карманам в поисках сигарет, махали друг другу, и префект – а может, супрефект – в президиуме уже крепко взял под руку Потапова, намереваясь вести его в «отдельный кабинет». Маруся тяжело вздохнула и поднялась с места, ругая себя за то, что потащилась на этот вечер, и только время потеряла, и теперь чувствует себя так, как будто ей публично надавали по щекам. Соседка слева, стремясь поскорее выбраться из ряда цепляющих за колготки школьных стульев, уже вовсю на нее наседала, Маруся повернулась, чтобы идти, и нос к носу столкнулась с Димочкой Лазаренко.
Всю торжественную часть он просидел за Маней Сурковой. Маня понятия не имела, что он сидит прямо за ее спиной и слышит каждый ее вздох и видит каждое ее движение, и это его забавляло.
Когда-то он с ней спал, и она даже доставляла ему удовольствие. Такая была… свеженькая, глупенькая, неиспорченная совсем, как героиня фильма про деревню семидесятых. Дура, конечно, но тогда ему не было никакого дела до ее умственных способностей. Его привлекала ее свежесть, «подлинность», как он назвал бы это сейчас. Тогда, десять лет назад, это слово еще не было в таком ходу.
Как все изменилось за эти десять лет!
Из ученика художественного училища Димочка превратился в процветающего художника. Издательства наперебой заказывают ему иллюстрации, и гонорары вовсе не так уж скудны, и собственная мастерская уже не кажется пределом мечтаний, и на тусовках восторженные барышни от искусства провожают его горящими взглядами, и он принимает эти взгляды как должное, потому что знает – он хорош, молод, довольно известен, и со временем станет еще известнее, его картины покупают уже сейчас, и тот самый небольшой заказ от мэрии он выполнил просто блестяще, и совсем недавно его показали в крошечной программке на Третьем канале, посвященной столичной светской жизни. Программка была кем надо замечена, оценена, взята на учет, как и заказ от мэрии, и многое другое.
Успехи были налицо.
Правда, его немножко смущало, что тот самый заказ он получил через отца, на выставку в Манеж две его картины определил дядя Вася, друг семьи, бывший главный архитектор столицы, а программку на Третьем канале делала продвинутая дочь другого старинного отцовского приятеля, редактора какого-то литературного журнала.
Отец тоже был художником.
Вернее, это Димочка был художником тоже. Всю жизнь его отец занимал начальственные посты в Союзе художников и в разнообразных комитетах, подкомитетах, комиссиях, подкомиссиях и президиумах – кажется, «подпрезидиумов» все же никогда не существовало. Отец был «широко известен в узких кругах», и Димочка некоторым образом шел не то что по проторенной, а, можно сказать, по хорошо асфальтированной дорожке, оборудованной фонарями и автозаправочными станциями.
Это его смущало, да.
Лучше бы, конечно, все сделать самому. Лучше бы, конечно, он был «самородок» из глухой провинции, пришедший перевернуть мир, заставить планету искусства сойти с орбиты и начать вращаться в каком-то совсем другом направлении, чтобы штурмом взять столичных снобов, зажравшихся и давно оторвавшихся от истинных ценностей, но…
Но получилось так, что он сам и был этим столичным снобом.
Ну и что? Ему не пришлось никому ничего доказывать, и работать до кровавых мозолей тоже не пришлось, и голодать в нетопленых съемных развалюхах, экономя деньги на дорогие краски и холсты. Все это чрезвычайно романтично, конечно, но Димочка вполне понимал, что лучше так, как есть.
Пусть он не просто художник, а художник тоже. И нет никакой принципиальной разницы, откуда выплыл тот самый заказ от мэрии, самое главное, что он был. Ведь был? Был. И будет еще не один, в этом Димочка совершенно уверен. И иллюстрации его нисколько не хуже, чем у других. Может быть и… не лучше, но ведь и не хуже.
Все в его жизни было хорошо и правильно, и, если бы не ошибка, допущенная недавно, он был бы совершенно спокоен и счастлив, разглядывал бы тощую шейку дуры Сурковой и чувствовал бы себя гордым и уверенным победителем.
Да. Ошибка.
И как это он?.. Нет, ничего такого, он во всем разберется, ему только нужно время. Совсем немного времени, и он все уладит. Дернул его черт тогда! Следовало бы все проверить хорошенько и получше замести следы, а он понадеялся на свое обычное везение, и напрасно.
Самое главное, что она узнала об этом. Даже не сама ошибка, а именно то, что об этом знала она, тревожило его ужасно. Так, что в переполненном и душном школьном зале он вдруг почувствовал, как по спине холодным ужом прополз омерзительный влажный страх. Прополз от шеи вниз и замер где-то над брючным ремнем, на позвоночнике.
Никакой ты не гордый победитель, так прошипел ему этот страх, неизвестно как материализовавшийся еще и в голове, и рептилия на позвоночнике шевельнулась.
Никаких ошибок ты не совершал. Ты совершил преступление и будешь за него отвечать.
Отвечать, отвечать…
Ты слабый и хлипкий, зарвавшийся мальчишка. Чтобы не отвечать, тебе придется совершить еще одно преступление, и ты вполне к нему готов. И время тебе нужно вовсе не для того, чтобы «разобраться с ошибкой», а для того, чтобы как следует подготовиться ко второму действию. Ружье, висевшее на стене в первом акте, уже выстрелило. Ты сам выстрелил из него и теперь только изображаешь, что видишь его впервые. Во втором действии тебе придется стрелять снова, а дальше – посмотрим. Тобой ведь очень легко управлять, ты слишком любишь, чтобы в твоей жизни все было хорошо и правильно, чтобы всякие безмозглые серые мыши, вроде Маруси Сурковой, стадами паслись неподалеку от твоего царственного львиного ложа, трепеща и выжидая, которую ты предпочтешь на этот раз, и млели от восторга, и, как загипнотизированные, сами шли прямо в пасть…
Димочка дрогнул всем своим хорошо ухоженным, стройным и длинным телом – он всегда очень внимательно и придирчиво следил за ним, выбирал для него наряды и подходящие диеты, холил, пестовал и вполне заслуженно гордился, – подтянул безупречную складку на брюках и положил ногу на ногу, чего старался никогда не делать, считая это дурным тоном.
На сцене что-то говорил бывший одноклассник Потапов, почтивший своим высочайшим присутствием скромный школьный праздник. В другое время Димочка с удовольствием возобновил бы знакомство, тем более они с Потаповым явно выделялись на общем фоне серых посредственностей и полунеудачников, в которых превратились все одноклассники, даже подававшие самые большие надежды. Как раз Потапов никаких надежд в школе, помнится, не подавал, и семья у него была так себе: отец инженер, а мать то ли врач, то ли акушерка в роддоме. Димочка, наоборот, цену себе всегда знал, и дружбы с Потаповым никогда не водил, и, как выяснилось, напрасно.
Впрочем, еще не поздно. Дмитрий Лазаренко – человек известный, даже можно сказать, популярный, и Потапов, если он только не остался прежним дураком и хамом пролетарского происхождения, оценит Димочкино желание как-то… объединиться перед унылой, недалекой и серой толпой.
Обретая в этих приятных думах прежнюю уверенность в себе, Димочка наткнулся взглядом на шею Мани Сурковой, которая так вертелась на своем стуле, как будто сидела на муравейнике.
Что-то там было неприятное, в истории их бурного романа. Что-то неприятное, тяжелое, отвратительное, как последнее объяснение.
Ах, да. Ребенок.
Она забеременела и решила, что Димочка возжелает немедленно стать отцом. Она ни за что не соглашалась делать аборт, потому что, видите ли, хотела ребенка. Все было как в кино: он подлец, она святая, только Димочка, в отличие от киношных героев, виноватым себя совершенно не чувствовал и был уверен, что и двадцать, и тридцать, и сорок лет спустя ему будет совершенно наплевать на этого ребенка, каким бы он ни был. Его существование или несуществование не имело к нему никакого отношения и было ему неинтересно.
Тогда на прощанье Лазаренко поцеловал ее в макушку, потрепал по персиковой, «подлинной», не обезображенной никакой косметикой щечке, и больше никогда ее не видел.
Может, она даже и родила тогда сдуру, кто ее знает. Секунду он думал, не стоит ли ее спросить, когда кончится эта всем надоевшая волынка с речами и приветствиями, и решил, что спрашивать не станет. Еще ударится в воспоминания, слезы и сопли, что он тогда будет с ней делать?
Кроме того, он должен выполнить то, ради чего, собственно, и пришел сюда.
Он старался не думать об этом, задвигая мысли в самый темный угол сознания, и знал, что, когда ему все же придется заглянуть туда, он увидит все ту же отвратительную до дрожи рептилию страха.
Если бы она не узнала, у него было бы время все исправить. Он просто-напросто сделал ошибку. Он не хотел ничего дурного, он просто сделал ужасную ошибку и готов…
Нет.
Дмитрий Лазаренко, успешный, известный, талантливый, не может, не должен так унижаться. Он сделает все, как ему велели, а потом придумает что-нибудь, выйдет из-под ее контроля, не даст манипулировать собой только из-за того, что она узнала о его ошибке. Он всегда отлично находил выход из любого положения, виртуозно придумывал всякие ходы и точно знал, что нужно делать, чтобы выйти сухим из воды.
«Это не мои сигареты, мама! Ты что, мне не веришь?! Ты с ума сошла, разве я стал бы курить?! Я не брал никаких денег! Мама, мне нужно работать, а отец пристал с какими-то деньгами! А бабушка пусть купит другие очки, если ей кажется, что она видела меня среди бела дня на „Пушке“! Я ездил к литераторше в Марьину Рощу! Ну приехал в полдвенадцатого! Мне ведь нужно к экзаменам готовиться, вот я и…»
По совершенно непонятной для Димочки причине и родители, и бабушка верили ему безгранично и абсолютно. И в один прекрасный день он решил, что и сочинять ему совершенно незачем, достаточно просто послать их подальше, чтобы не приставали. Черт их знает – то ли они на самом деле были так непробиваемо тупы, то ли им слишком хотелось верить своему мальчику, то ли недосуг было проверять его слова, но доверять ему они не перестали. Это окончательно разрушило Димочкино к ним уважение, зато многократно облегчило ему жизнь. С годами он стал относиться к ним снисходительнее: все-таки родственники, можно сказать, «родная кровь», да и пользы от них больше, чем вреда, – заказ от мэрии, две картины в Манеже, а также мамины борщи и свеженькие денежные купюры, смущенно сунутые в Димочкин карман!
Надо им позвонить или даже наведаться, что ли! Правда, бабка опять пристанет с разговорами о том, что нужно «жить для других, а не только для себя», а также, что «в наше время работать ради денег считалось позорным!».
Позорным или не позорным, но бабка всю жизнь прожила с зятем, Димочкиным отцом, который только и делал, что работал ради денег, и она отлично пользовалась и этими позорными денежками, и его положением.
Принципиальная и непримиримая партячейка, наведываясь к бабке, всегда заседала в просторной и теплой гостиной, за круглым, орехового дерева столом, который когда-то сработал вечно пьяный самородок, пролетарий-краснодеревщик дядя Юра. Чай подавала домработница Люся. У нее был кружевной передничек и полные белые руки. Английский фарфор партячейке не полагался, поэтому пили из лубочных гжельских кружек, и ванильный кексик Люсиного изготовления отсвечивал желтым сытным краем на расписной тарелочке, и белый хлеб дышал в просторной плетенке, и докторская, тоже вполне пролетарская, колбаска прилагалась к этому хлебу… Партячейка любила обсудить свои насущные дела по обращению человечества в истинную марксистскую веру именно за этим столом, что юного Димочку чрезвычайно забавляло. Кажется, они до сих пор приходят, эти полоумные старики и старухи.
Он вновь шевельнулся на стуле и услышал, как отчетливо хрустнул в нагрудном кармане рубахи сложенный вчетверо листочек с инструкциями. Лазаренко показалось, что грянул гром и сверкнула молния, что этот хруст услыхали все, и все поняли, что он больше не тот Димочка Лазаренко, удачливый, успешный, великосветский и тонкий, а самый обыкновенный пошлый преступник, которому предстоит, обливаясь холодным трусливым потом, продолжить то, что он начал так бездарно.
Он справится. Он обязательно справится. Он выполнит то, что она хочет.
А там посмотрим, кто кого!..
Евгений Петрович Первушин пришел на вечер одним из последних. Прямо перед ним на школьный порожек взбежала запыхавшаяся Маруся Суркова, которая всегда и везде опаздывала, и вихрем промчалась прямо в раздевалку, на ходу стаскивая умеренно модное пальтецо.