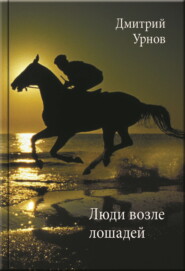скачать книгу бесплатно
Слово Бобылев сдержал, обещание исполнил, поговорил о Пушкине с Герцогом и, как ни трудно в это поверить, просьба была встречена обещанием дальнейшее обсудить. Принц Филипп ценил своего заместителя, который, кроме поддержки правящей супруги, союзничал с ним в сопротивлении советскому правительству. Это когда Олимпийские Игры проходили в Москве и наше государственное руководство решило изменить столетний порядок: вместо конного конкура (преодоление препятствий) завершить всемирное спортивное событие футболом – нам светило выиграть. «Тогда мы уйдем!» – заявил Герцог и поднялся из-за стола переговоров. Рядом с ним плечом к плечу встал завкафедрой коневодства Бобылев. Наследственная лояльность! Отец Игоря Федоровича поддержал коннозаводчика Бутовича, когда все от того отвернулись. А Игорь Федорович английскую королеву пристроил, не отступился от Герцога, пробил в печать «Ветер в гриве», конный фотоальбом Лешки Шторха, сына и внука отца и деда репрессированных, к тому же не комсомольца. И Пушкинские документы могли бы получить, но с распадом страны связи оборвались.
Кое-что восстановил генерал Исаков Николай Васильевич. В день расстрела Белого Дома он принял решение остановить колонну танков, чтобы не совершилось большое кровопролитие, а на пенсии начал заниматься лошадьми, конники его консультировали, среди них Алла Ползунова, наездница, недавно скончавшаяся, моя сверстница. Мы с ней одновременно пришли на ипподром, но я остался любителем, а Ползуниха прошла школу у наших высших мастеров, не пьющих. По их примеру Алла отказывалась от выпивки, хотя ей грозили: «Не будешь пить, не будешь и ездить» В смысле, на хороших лошадях. Но Алла нашла в себе силу воспротивиться корпоративному спаиванию и смелость ответить: «Не буду». Её сочли морально надежной и отправили за океан, где она стажировалась у Делла Миллера. За успехи Дед Миллер ей двухлетка подарил, из которого она, вернувшись, выработала рекордиста. «Что скажешь об этой лошади?» – Алла меня спрашивает. Я стыда еще не потерял и говорю: «Как я могу в твоем присутствии высказываться о лошадях?».
Эти трое, наездница мирового класса, генерал-танкист и с ними подводник, капитан 1-го ранга, в пору полного развала после упразднения Главконупра создали Российское Содружество рысистого коннозаводства, пользуется признанием всюду, где существуют бега. Ныне на планете каждые пять минут где-то принимают рысаки старт и устремляются к финишу. Трибуны нередко пустуют, однако по компьютеру игра идёт на дому или (что раньше было запрещено) в игорных конторах вне ипподрома. Ставки заключаются глобально, каждый, находясь в Москве, может делать ставки на ипподромах Мельбурна и Монреаля. Если раньше спрашивали, разве лошади ещё существуют, то теперь больше чем когда бы то ни было развелось лошадей, особенно в передовых странах, разница лишь в том, где какие крови и какие корма.
В Англию подарочных жеребцов, вместе с Бобылевым, сопровождал Главный ветврач Ипподрома Стогов. Но кто же мог подумать, что его слова, прямо из сердца вырвавшиеся, поймут как официальное приглашение? «Приезжайте! И не таких лошадей увидите!» – обещал королевскому коновалу советский конный доктор, и не успели оглянуться, из Лондона прямо на Московский ипподром поступает телеграмма:
«ВЫЛЕТАЮ ВСТРЕЧАЙТЕ УВАЖЕНИЕМ ФОРБС».
Ничего себе фокус! Нашему проговорившемуся лошадиному лекарю было велено срочно заболеть. Опасались, что гость захочет нанести ему ответный визит на дому, а главный конный врач обитал в перестроенной старой конюшне. Когда же мистер Форбс прилетел и мы с ним в Кремле стали обсуждать возможность у нас Реставрации, на ипподроме каждый из директорской ложи через потайную дверь тащил его в ресторан «Бега» и наливая стакан коньяка ему, говорил мне: «Переведи поточнее». Переводить приходилось одни и те же слова: «Плохого про меня не пишите!» Страх той поры: иностранец уедет, а там настрочит про тебя такое, что тебе крышка. В конце бегового дня английский гость, подозревая меня в неточности перевода, лепетал: «П-поч-чему я должен п-писать? P-разве я п-писатель? Я н-не п-писатель».
А написал-таки! Наше гостеприимство его и вдохновило. Статья была опубликована в лондонском журнале «Голос гончих». Тиграныч, плотно притворив дверь своего кабинета, велел мне переводить с листа, но скрывать было нечего: статья состояла из восторгов. «Молодец! Благодарю!» – было сказано, словно статью я сам и написал. Будто из текста можно было извлечь совсем не то, что в нем содержалось! Однако кто жил тогда, тому объяснять не надо: при желании могли прочесть между строк, в подтексте, оставшееся прямо невыраженным. «Если меня в министерство вызовут, – продолжал Тиграныч, – вместе пойдем, и ты им точно так же всё переведи».
В тот же день на тренотделение Грошева поступила Деловая записка: «Подателя сего (меня) к езде допускать в любое время дня и (подчеркнуто) суток». Из-за университетских экзаменов я не мог воспользоваться лицензией круглосуточной, ни днем, ни ночью на конюшне не бывал, пришел не раньше недели спустя. Первое, что услыхал: «Тиграныч застрелился».
Что же довело его до страшного конца? Ему пришлось восстанавливать трибуны ипподрома после пожара. Причиной пожара послужили газовые лампы, ими, взявшись за капитальный ремонт, пробовали сжигать старую краску со стен и занялось. Однако злые языки шипели: «Скрывали растрату доходов с тотализатора». Директора, при котором случился пожар, посадили, Тиграныча собирались сослать в Китай развивать там коневодство.
Однажды Долматов, преемник Калантара на директорском посту, при котором я остался в чине толмача, ждал звонка из-за границы, а ждать в те технически патриархальные времена приходилось долго, и новый директор предался воспоминаниям: «Раз мы с Тигранычем поехали к бабам…» Сделал паузу, строго взглянул на меня и решил не продолжать. Но воспоминания все же овладевали им, он со вздохом добавил: «Хорошие были бабы», – больше ни слова. Понятно, они себе позволяли. Оба – ранние жертвы уже начавшего распадаться режима, которому полностью принадлежали и верно служили. С режимом разделяли достижения и горести. Все были замешаны во зле, неустранимый дефект социально-политической конструкции, основанной на капитализме недоразвитом, как говорил (за что и загремел) князь-коммунист Святополк-Мирский. Но одни злом лишь для себя пользовались, у других и пороки шли в общее дело. Во имя борьбы за породу, не ради собственной выгоды, Тиграныч с Долматовым сумели расположить к себе воротил мирового ипподрома, а я им переводил.
Приехал из Америки Шеппард, обувной король и крупнейший коннозаводчик. Показали ему на пастбище подмосковного конзавода маточный табун. Чистопородные кобылицы, будто понимая, что требуется подать себя с почерком, красовались перед заморским гостем. Американец аж задрожал: «Лист писчей бумаги найдется?» У меня при себе ни клочка, кроме письма Чарльза Сноу в поддержку присуждения Шолохову Нобелевской премии, которое я не успел передать в Дирекцию ИМЛИ. «Тоже мне, научный сотрудник!» – у меня над ухом змеем шипит Долматов. К счастью, оборотная сторона письма пустая. Шеппард расправил письмо на седле табунщика, достал из кармана шариковую авторучку и принялся писать: «Обязуюсь двух кобыл из этого племенного гнезда взять с собой, случить с моими лучшими производителями и жеребыми доставить обратно».
Случка с любым из жеребцов в заводе у Шеппарда стоила сотни тысяч, а полностью принятое им на себя обязательство потянуло с доставкой и содержанием лошадей не меньше миллиона. И всё это просто так, от души. Закончил писать заокеанский заводчик и возвращает мне бумагу, а за спиной у меня Долматов тигром рычит: «Потеряешь – простись с ипподромом». Потерять письма я не потерял, но в Институте Мировой литературы, читая бесценную бумагу с обеих сторон, и про премию, и про кобыл, оценили яркость слога, однако не было уверенности, что написанное про кобыл поможет присуждению наивысшей литературной награды, а может и помешать. Оказался я под угрозой взыскания, но премию присудили и вышло в мою пользу (см. далее).
Шеппард, хотел он того или нет, способствовал решению задачи, поставленной советским руководством – догнать и перегнать Америку, ехать с резвостью по мировым стандартам. «У вас нет средств приобрести производителя, какой вам нужен ради повышения резвостных показаний» – такие слова зарубежных визитеров мне случалось переводить. Средства нашли силой душевности, приплод тех кобыл дал резвых метисов, наши рекорды стали приближаться к искомому уровню. Но двумя преданными делу специалистами решили пожертвовать спешившие разоблачить преступления режима как дело не их рук.
Мне было сказано: «К тебе вопросов нет». Сказал главный редактор журнала «Коневодство и конный спорт». Редактор некогда сопровождал на бега близкого к чекистам Бабеля. Мне дал понять: не был опасен я тем, кто убрал и Тиграныча, и Долматова. Кто? Тиграныч в предсмертном письме их перечислил, чтобы не приходили на его похороны. Долматов не оставил инструкций, скончался скоропостижно, однако на похоронах я не увидел его ближайших сотрудников.
С гибелью Тиграныча служебная записка, выданная им, оказалась окружена ореолом нетленности. После ухода Грошева на пенсию его тренотделение, где я продолжал числиться, принял Гриценко Петр Саввич. Он, если в судейской возникали сомнения, можно ли безрукого допускать к езде на призы, меня аттестовал: «Ему ещё при покойнику было разрешено за вожжи держаться динь-и-ничь». Когда же Мишка Яковлев от имени Твардовского обратился ко мне с просьбой обеспечить поэта удобрением, я пошел к завхозу, при котором застрелился Калантар.
Преданный друг директора Чернецов Борис Васильевич рассказал, как они хорошо сидели и отдыхали в кабинете, где довелось мне переводить статью из «Голоса гончих». Немного им не хватило. Чернецов посылает. Тут его вызвали к телефону, в другом кабинете на том же этаже: «Навоза, мать их, просили!» Это – слова Чернецова, а просила у него вся Москва, кому требовалось удобрять участок. Вдруг дверь настежь – на пороге Тиграныч: «Где же твои сатрапы?» «А я, – рассказывал Чернецов, – рукой махнул: дай договорить!» Хлопнула дверь. И грохнул выстрел. Из ружья.
Прежде чем хлопнуть дверью Калантар будто бы крикнул: «Я пошел к Мишталю!». Достойный доверия Чернецов едва ли мог услышать вопль отчаяния, был глуховат и занят деловым разговором. Думаю, контаминация ипподромных сказаний.
Георгий Мишталь, в просторечии Жора, считался лучшим в барьерных скачках. Друг его, мастер спорта Игорь Коврига, бросился под электричку, считая себя причиной гибели прекрасной амазонки, в которую был влюблен. Звали ее Римма Леута, она упала и разбилась, преодолевая препятствие. Входила Римма в команду ВВС, учрежденную Василием Сталиным. Верховая езда уже мало его интересовала, у него развилась алкогольная эпилепсия: садился в седло и начиналось головокружение. Вождь-Отец, по свидетельству наездника-троечника Кузьмича, который до посвящения в кучера был правительственным охранником, разгула не поощрял и стал сынка отчитывать, а тот ему (в передаче Кузьмича): «Батя, зачем переживаешь? Ведь ты же хозяин страны!» Вождь взорвался: «Но я порядков не нарушаю!».
Между тем Мишталь на коне Радамес продолжал с успехом брать барьеры. Но Василий его и Ковригу избрал себе в собутыльники: выпивка и закуска – от пуза. Необходимого веса Мишталь перед скачкой добивался потнением. Соконюшенники вспоминали: «Жоре пришлось сбросить разом не меньше пуда». Понятно – сердце не выдержало. Коврига со станции, где конбаза, названивал Калантару и наконец крикнул: «Идёт электричка, я иду к Мишталю!»
«Сколько поэту требуется навоза? – уточнил Чернецов. – Где у него дача?» И записал адрес в блокноте, что лежал перед ним, когда грохнул выстрел.
Словами лошади
«Лошадь заржала с такими разнообразными модуляциями, что я подумал, уж не разговаривает ли она на своем языке».
«Путешествие Гулливера в Лошадию, страну игогогов».
Перевод А. В. Франковского.
Стремился я на конюшню, чтобы забыть о книгах, а стал про конюшню писать. Это благодаря настояниям писателя Дмитрия Жукова и по указанию охраны дочери Брежнева.
Дмитрий Анатольевич Жуков служил резидентом на передовой идеологической борьбы, но книги у него о фигурах и делах прошлого. Мы с ним охраняли памятники старины и культуры, заседая в Обществе, которое так и называлось ВООПИК. Ему, я думал, будут интересны истории о прошлом ипподрома, но Димке надоедало слушать мои конюшенные разговоры: «Хватит воздух колебать, пиши!».
А Галина Леонидовна, журналистка, работала в Агентстве «Новости», у нас с ней были общие знакомые, просили показать им лошадей. Поехали на подмосковный конный завод, дорогой я рассказывал, что знал о лошадях. В конце поездки охранники, сопровождавшие Первую Дочь страны, велели: «Всё, о чем вы языком мололи, изложите в письменном виде».
Начал печататься в журнале «Коневодство и конный спорт». По издательствам меня бы затоптали, но в «Молодой Гвардии» редактором оказался бывший студент моего отца, Михаил Лаврик. Поставили меня в план.
«О путник, со мною страданья дели».
Из «Песни араба над могилой коня» в переводе В. А. Жуковского.
Машинопись «Жизнь замечательных лошадей» уже была подписана в набор, когда начальство спохватилось: спортивная редакция дверь в дверь с «Жизнью замечательных людей» – недопустимый намек! С Мишей нашли название «По словам лошади».
Тоже пришло из Англии: кому, кроме лошади, доподлинно известно, кто возьмет приз. «Словами лошади», конечно, лучше звучит, но Лешка уже сделал обложку.
По замыслу и заданию Лаврика, вышли одна за другой две мои книги «По словам лошади» и «Железный посыл». Всё имеет оборотную сторону. «Как может писать о лошадях в лошадях не понимающий?» – говорили конники. Критики не замечали – всего лишь про лошадей, не литература. Зато попреки конников помогли мне найти повествовательную лазейку – с позиций профана. Иначе не протиснуться.
Уровень этого рода литературы в самом деле недосягаемо высок, увенчан именами великих писателей-всадников, Толстого и Свифта. Толстой, по его подсчетам, семь лет жизни провёл в седле. Свифт на лошади держался настолько хорошо, что ему предлагали поступить в кавалерию. Куприн несравненным назвал «Холстомера», но и у него попадается шедевр лошадиного мышления – рысак, жуя сено, думает: «Сено…». Не зря, создавая «Изумруда», лошадь у себя в спальне держал. Узнал я об этом от его дочери: прихожу на работу в Институт литературы, стою у раздевалки, впереди с пожилой гардеробщицей беседует о погоде женщина средних лет, слышу её слова: «Мой отец так говорил [о погоде]». Решаюсь спросить: «А кто ваш отец?» Отвечает: «Куприн». Дочь после кончины отца вернулась из эмиграции на родину и в архиве Горького искала их переписку. Чехов, предпочитая собак, не брался за лошадей, однако создал извозчика, у которого скончался сын. Чтобы облегчить тоску, старик думает «На конюшню пойти – лошадь поглядеть» и доверяется ей: «На овес не наездили, сено есть будем».
Рядом с эмпатиией подобной выразительности поставить нечего. Доступна лишь на «страшной высоте Парнаса», если определять мерой пушкинской.
Следом за литературными гигантами, очеловечивающими лошадей, идут таланты в малых жанрах, создатели, что называется, просто хороших книг про лошадей. Дочь лесничего Ольга Перовская, приютившийся в Елани на конзаводе и прозванный Еланским немцем Лев Брандт, пропадавший на Московском ипподроме Петр Ширяев и ковбой Виль Джемс. «Чубарый» Ольги Перовской, по-моему, лучшая лошадиная история моего времени, заразительно выражено человеческое чувство лошади. К сожалению, нынешние читатели лишены возможности мое мнение проверить: рассказ не переиздают. Правда, переиздают повесть Брандта «Декрет 2-й». Повесть даже экранизировали, но испортили переименованием в «Браслета». Переименование, безделушка вместо приметы пламенных лет, устранило полемический намек и приглушило лейтмотив: в конечном счете порода сказывается.
«Внук Тальони» Петра Ширяева – живое и достоверное повествование о борьбе за породу, хотя автор конником не был, был игроком. Наездники так и аттестовали его – игрок. Сидят две мухи – бьётся об заклад, какая улетит первой. Жену, рассказывали, в карты проиграл, потом выиграл – другую. Легенда? С крупицей истины. В повести выведен коннозаводчик Бутович, пусть под выдуманным именем, но всё равно смелость требовалась: оригинал легко узнаваемый находился в тюрьме, куда попал за антисоветские взгляды на разведение лошадей. «Лучше ничего не читал» – о «Дымке» попался мне на Интернете отзыв, очевидное преувеличение в границах мировой литературы, но тоже хорошая, даже очень хорошая книга. Без лишних претензий в пределах дарования Виль Джемс, чех по происхождению, трансформировался в американского ковбоя и писал о лошадях так, что у Хемингуэя вызывал зависть.
В Америке познакомился я с издателем, его отец «Дымку» напечатал, сын видел автора, приходил к ним домой. «Каким он был?» – спрашиваю. «Простой ковбой, жевал табак, плевал прямо на пол». В «Дымке» это есть – опоэтизировано. Не плевки на пол – пот ковбойского труда. Перевод «Дымки», как я уже сказал, рецензировал мой отец. Сделал перевод Михаил Гершензон (переводчик сказок про «Братца Кролика», от ранений скончался в госпитале). В первом издании перевода сохранили авторскую обложку, при переиздании нынешний иллюстратор вопреки автору нарисовал озлобленную лошадиную морду, а у Джемса злобы не видно, даже если им нарисован дичок.
«Я видел коня твоего:
Четыре копыта и хвост у него».
Детская классика.
Меня спасла опечатка. В повести «Железный посыл» (см. далее) от лица жокея сказано «Поднимаю хлыст», а напечатали – хвост. Читатели подумали, что таков лошадиный язык. Издательство «Прогресс» выпустило «Железный посыл» на английском. Переводил молодой англичанин, корректор, стажировался в «Прогрессе», был неуверен в значении конных терминов и давал мне читать перевод главу за главой. Вдруг пропал, а сроки поджимают. Когда же наконец явился, объяснил – за время отсутствия стал женат. И сообщает: «Она черкешенка». Спрашиваю: «Толстого начитался?». Да, признает, начитался.
Благодаря переводу «Железный посыл» попал на международный рынок. Захожу, находясь в Лондоне, в огромный книжный магазин Foyles, которому подражает московский «Книжный мир», поднимаюсь на этаж, где спортивный отдел, вижу книгу и даже замечаю потенциального читателя – осматривает в английском варианте Life in the Saddle, «Жизнь в седле». Книга была выпущена покетбук (карманного формата), но формат выдержан в наших измерениях и, как нарочно, в английский карман чуть-чуть не влезает. Покупатель отложил мою книгу, а в карман без труда сунул очередной роман Дика Френсиса. Англичанин, отказавшийся от покупки моей книги, явился зачинщиком затеи, куда оказался я вовлечен. БиБиСи тогда готовила документальный сериал о Лестере Пигготе, знаменитом жокее, выступавшем всюду, кроме СССР. Было решено пропуск восполнить и заключить с Московским ипподромом договор о приглашении Пиггота, тем более, что у него вроде бы существовали в родословной российские предки, жили на Малой Дмитровке по соседству с Чеховым. Существовали или не существовали, жили или не жили, обратились ко мне, а всплыл я в памяти у того книголюба, который примеривал «Последний посыл», пытаясь положить нашу карманную книгу в свой английский карман. «Под седло Пигготу лошадь готовим!» – загудел Московский Ипподром, но затея не состоялась: Пиггота, как нарочно, за неуплату налогов привлекли к суду, затем и за решетку упрятали.
В другом случае лошади вывезли. Елене Сергеевне Булгаковой, вдове писателя, в печати попали на глаза мои суждения: Булгаков – слабый драматург, его успех создан Художественным театром. Настрадавшаяся писательская вдова собиралась организовать против меня компанию. Тогда же её подруга, сохранившаяся поэтесса Серебряного века, Надежда Александровна Павлович, со мной раззнакомилась: «Вы оскорбили моего друга». Имела она в виду ей сказанное о Блоке: мертвенный холод, холод, холод. Но в Прощеный день богобоязненные старушки вместе находились на отдыхе в Прибалтике, где закордонные «голоса» не глушили. На волнах «Радио Канады» прослушали наш разговор с Ливеном о лошадях и решили: «Ну, уж простим его». Это мне сообщено свидетелями.
Не всегда лошади вывозили. В советские времена, с началом у нас телевидения, включили меня в программу передачи, вроде круглого стола, за которым каждый должен был что-нибудь рассказать. Решил я говорить о лошадях в жизни и творчестве Шекспира. Передавали нас с Шаболовки в прямом эфире. Моя очередь выступать была за публицистом Александром Яновым, который вскоре после этой передачи выехал как еврей и диссидент, преследуемый за религиозные верования и политические взгляды. Речь его по сути была близка Раисе Максимовне Горбачёвой. Кто читал её диссертацию, те рассказывали, что диссертантка, философ и социолог, проводила мысль «о новых чертах быта колхозного крестьянства», новизна заключалась в желательности роспуска колхозов. В ту пору об этом нельзя было всем и каждому говорить прямо, поэтому, мой предшественник по передаче рассуждал на несомненно занимательный сюжет окольным путем и в то же время было вполне понятно, куда он гнул. А мне шепнули: «Молчите!». Предшественник мой, наговоривший, хотя и обиняками, но доходчиво об упразднении колхозов (что означало демонтаж советской власти), готов был принять вину на себя: «Возможно, я превысил свой лимит времени». Нет, не превысил. «Политически слишком рискованно ставить Шекспира в один ряд с лошадьми», – так решило начальство, а мне рассказал режиссер передачи.
Уже в постсоветскую пору предложили мне что-нибудь переиздать. Отнес им «Похищение белого коня» (см. далее), повесть в своё время к печати рекомендовал Секретарь Правления Союза писателей Лазарь Карелин. Обратил внимание на одного персонажа, по его словам, «фигуру зловещую», тип нашего раннего компрадора. С такими типами соприкоснулся я через Трумана. По поручению Папы Сайруса ковбой продавал бычков работникам Внешторга. Бычки, если их кормить, одновременно побуждая к движению и не позволяя жиры наживать, превращаются в ходячие бифштексы, что я видел у Трумана. Московским клиентам ковбой по поручению Папы Сайруса предлагал лучших, они же хотели худших, чтобы заплатить поменьше и заприходовать побольше, а разницу себе в карман положить. Труман с такими покупателями разругался, торг не состоялся и с той поры за фамилией Итон в наших деловых кругах осталась плохая слава. Пытаясь помочь сыну Итона восстановить с нами связь, я во всех инстанциях получал от ворот поворот, сталкиваясь с отсутствием у наших компрадоров личной заинтересованности иметь дело с Итонами. Повесть мою «Похищение белого коня», о сплошной преступности позднесоветского времени, вышедшую в двух государственных издательствах, завернули в частном издательстве. Издатель-хозяин, из товарищей перекрасившихся в господ, нашёл мой текст чересчур просоветским (см. и судите сами).
Поэт у врат ипподрома
«Фрост принял предложение Президента Кеннеди отправиться в Россию… С начала своего путешествия он готовился к беседе с Премьером Хрущевым».
Из биографии американского поэта.
Нужно ли объяснять, как управделами американского ипподрома попал в пристанище для государственных деятелей? Ипподром через дорогу от лимитной гостиницы, которая называлась «Советской», а работники бывшего Яра пропадали на бегах, имея программы помеченные, с гарантией выигрыша в тотошку.
Джо Каскарелла, у которого я был переводчиком, прибыл отбирать среди наших скакунов достойного участника Международного Кубка. Приз разыгрывался под Вашингтоном, а нам с иностранным гостем, спустя несколько дней, предстояло вылететь в Краснодарский край, из Краснодара – машиной до конного завода «Восход».
В первый же вечер, в ресторане гостиницы, за соседним столиком принимал пищу старичок, некрупный, как бы квадратненький, с крупными чертами лица и шапкой седых волос. Даже Джо, который кроме лошадей не интересовался ничем, узнал нашего соседа и произнес, словно удивляясь, кого же он видит: «Роберт Фрост».
До Фроста можно было дотянуться рукой, но докричаться нельзя. Уж такое невезение: собеседник, с которым хотелось бы поговорить об оттенках, плохо слышит. Не станешь же орать, чего и шепотом не всегда выговоришь? А я сомневался в достоинствах его
поэзии. Сомнения не означали нежелания признавать значения Фроста, просто другая шкала: современная поэзия, которая удивила и разочаровала меня с тех пор, когда ещё школьником нашёл я у своего отца антологию «Поэты Америки. XX век» и был озадачен: вместо рифмованных строк лишенное даже ритма нагромождение мудреных словес.
Как-то мы с Джо, возвращаясь с бегов, услышали крик. На всю гостиницу раздавался вопль на английском с очень сильным русским акцентом: «А истина?! Как же быть с истиной?!» На том же этаже в глубине коридора, на фоне окна, силуэтами виднелись двое. Одним из них был Фрост. По своему обыкновению он молчал, как молча сидел, питаясь. Вслушиваясь в истошный крик собеседника, поэт слегка раскачивался, словно читал про себя свои строки более или менее похожие на стихи:
«Деревья сплетены и гнут друг друга долу».
Стоявший рядом с ним человек кричал ему в ухо: «Как быть с истиной?!». Джо спросил: «Кто это орет?» Иван Александрович Кашкин, «огонь на ветру» – так, по рассказам моего отца, дружившего с И. А., называли этого крикуна: рыжий и непрестанный порыв. Это он, Кашкин, совместно с Михаилом Зенкевичем, составил ту антологию. Среди переводчиков Иван Александрович занимал место исключительное как творец советского Хемингуэя. Хем находился у нас под подозрением как антисемит, что случалось тогда среди американских и вообще зарубежных писателей, поэтому многих из них у нас не печатали. Кашкин же сумел пробиться к Горькому и заверить его, что предосудительный предрассудок в данном случае преходящая поза. Хемингуэй обессмертил Кашкина. В романе «По ком звонит колокол» он дал его имя персонажу еще до начала романа погибшему, истинному герою – не спецагент, как Карков, под именем которого изображен Михаил Кольцов. Кашкина Хемингуэй отблагодарил за все, что Иван Александрович предпринял ради его популярности в стране русских (Тургенев, Толстой, Достоевский, Чехов), четверых, зачисляемых в мировой канон наряду с тремя итальянцами (Данте, Леонардо, Рафаэль) и тремя французами (Бальзак, Флобер, Мопассан).
Хемингуэй, как известно, с молодых лет усиленно читал русских в переводах Констанции Гарнет. Эти переводы как источник вдохновения усвоило в странах английского языка целое поколение писателей, лучших среди них. «Нашим учителем долго был Бальзак, потом пришли русские», – признала Эдит Уортон, о которой, учитывая её талант, говорили: «Хорошо бы она написала романы Генри Джеймса». То есть на ту же тему одноплановости американского сознания, но занимательно, а романы Генри Джеймса нелегко читать, скучновато.
Подобный же случай – Гарнеты. Муж, русофил и редактор, претендовал на писательство, однако у него не получалось. Мученик творчества изнемогал, трудясь над отделкой каждой фразы, увы, безуспешно, А тем временем жена, с ребенком на коленях, строчила, создавая одну за другой страницы английского аналога русской прозы (нынешние переводы, хотя и преподносятся рекламно как усовершенствование, бездарны, в них нет чувства русского языка и неважный английский).
Встречаться Хемингуэй и Кашкин не встречались, даже их переписку задерживала цензура. Не дошедшие до Кашкина письма Хэмингуэя обнаружил в архивах Саша Николюкин, мой сотрудник по ИМЛИ, но ему, в силу групповых предубеждений, того в заслугу не зачли, а если бы нашел не Саша, слишком патриот, раздули бы, я думаю, сенсацию. В поэтическую антологию, составленную Кашкиным и Зенкевичем, вошли стихи Фроста и наконец один из составителей и поэт встретились. Тогда задрожали оконные стекла в гостинице «Советской» от кашкинского крика.
«Чего он надрывается?» – спросил Джо. «Спор об истине», – отвечаю. У зарубежных собеседников мои пояснения наших нравов и обстоятельств вызывали в глазах испуг не испуг, а всё же выражение чего-то такого, тревожного. Ирвинг Радд дрогнул, когда комнатушку, набитую бухгалтершами, ему я представил как наш суррогат Pari Mutuel. И Джо после моих слов, кажется, начинал опасаться, не свихнулся ли он
. С таким выражением лица он нередко меня выслушивал. По дороге в Краснодарский конзавод ему захотелось пить, и он спросил, нельзя ли достать воды со льдом. А ехали мы на машине через станицы, и было это в самом начале шестидесятых. Я ему говорю, что с него будет достаточно одной воды. То же ещё, со льдом! «Не хотите же вы сказать, будто в этих помещениях нет всех удобств?» – указывая на жилища вдоль дороги, поразился Джо. Подобный же обмен мнениями у нас с ним состоялся на ипподроме: возникла острая необходимость человеку куда-то пойти. В результате Джо испытал шок и лишь неделю спустя, глядя с лермонтовского утеса Бермамыт на Эльбрус и другие сияющие вершины Кавказа, пришел в себя и согласился со мной. Вот его собственные слова: «Перед лицом такой красоты можно обойтись и без туалетной бумаги».
Тревожный взгляд я поймал на себе, когда ехали мы из аэропорта Шереметево. Дело было ночью, в темноте возникали дорожные знаки, язык шоссе американец понимал без моей помощи. Над перечеркнутым «Р» потешался, узнав, что у нас эта буква читается как R, но не требовалось объяснять, что это «ноу паркинг». Без перевода иностранец истолковал перечеркнутую загогулину, запрещающую поворот в неположенном месте. Но у въезда в столицу поверх шоссе на полотнище колыхались слова из песни Шостаковича:
ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ К КОММУНИЗМУ
«Что это за знак?» – поинтересовался американец. А я и перевел, как на полотнище обозначено, без эмоций – без восклицательного знака и без точки. Деловым тоном довел до сведения моего спутника, куда все дороги ведут. Тут Джо и посмотрел на меня тем взглядом, что я поймал на себе, сообщая ему, что наш соотечественник у его соотечественника добивается, что есть истина. Фрост, слушая Кашкина, глядел в пол, словно сомневаясь, следует ли такими вопросами задаваться? Мудрил, думая, как мудренее об истине выразиться, и дождался: мудрёность оказалась принята за признак мудрости. На другое утро мы опять оказались рядом – у входа в гостиницу. Посланник доброй воли летел в Крым повидаться с Хрущевым, а мы – в Краснодар, до «Восхода».
Мировая литература в Управлении коннозаводства
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
объединение Тео и Гукона».
Вл. Маяковский. «Прозаседавшиеся».
В Институт мировой литературы попал я после Университета, переместившись по соседству с Моховой на Воровского. «Была Поварская, стала Воровская!» – говорили таксисты. Что-то теперь говорят, когда вернулась Поварская? Для меня перемещение явилось ещё одним фатальным совпадением: в том же здании некогда находилось Государственное Управление коннозаводства, ГУКОН, известный за пределами конного мира по строкам из «Прозаседавшихся», стихотворения Маяковского, заслужившего ленинское одобрение. В ИМЛИ заседания, конференции, учёные советы и гражданские панихиды проходили в зале, где восемьдесят лет тому назад хоронили покончившего собой пушкинского зятя, управляющего Коннозаводством генерала Гартунга. Привлеченный к суду за растрату и уверенный в своей невиновности Гартунг после обвинительного приговора не стал дожидаться пересмотра – застрелился. О приговоре, который был пересмотрен, Достоевский писал как либеральном легкомыслии, что обвинять, что защищать Гартунга, который и сам поторопился. Его вдова, Мария Александровна, урожденная Пушкина, подсказавшая Толстому «породистой» внешностью облик Анны Карениной, занимала квартиру в ИМЛИ, где поместили Архив.
Мои сослуживцы шутили: если совершится Реставрация и в Гагаринский особняк, занимаемый ИМЛИ, вернется ГУКОН, всех ученых литераторов выгонят, а меня оставят на какой-нибудь мелкой должности. Реставрация совершилась, но Институт остался, а меня в тех стенах давно нет.
«Роман “Тихий Дон” в совершенстве сочетает классический русский и социалистический реализм. Создан роман коммунистом, который во имя творческой цельности, ничем не пожертвовал. Следуя логике замысла, не нарушил, в толстовском смысле, всей правды».
Эрнест Дж. Симмонс.
Введение в русский реализм, Издательство Университета Индианы, 1966.
Директором, когда меня взяли в Институт Мировой литературы, был Иван Иванович Анисимов, ветеран литературно-политических побоищ, начиная с дискуссий в Комакадемии, где он смел возражать Луначарскому, и кончая схватками лингвистов, когда правых и виноватых в языкознании устанавливал Сталин. Согласно росту и общественному весу Анисимова с довоенной поры прозвали «Большим Иваном» (из детской сказки). При Большом Иване Институт посетил английский писатель и государственный деятель Чарльз Сноу, вошедший в современный словарь выражением коридоры власти. Мне выпало быть посредником в беседах влиятельного англичанина с нашим директором, который читал, но не говорил по-английски. Анисимов и Сноу, каждый со своей стороны пользовались поддержкой высших кругов. Взаимопонимание между двумя столпами конфликтующих идеологий укрепилось настолько, что Сноу попросил разрешения называть Ивана Ивановича – Ваней. Анисимов был согласен при условии, что он будет называть британского партнера – Чарли. Лорд вспыхнул: «Меня нельзя называть Чарли!» Директор насторожился: «Это почему же?» Сноу объяснил: «У нас так называют либо маленьких собачек, либо писатели, из молодых, перепьют и начинают меня Чарли называть». Взаимопонимание восстановилось и благодаря совместным усилиям двух влиятельных друзей состоялось присуждение Нобелевской премии Михаилу Шолохову.
Разве присуждают не за то, что пользуется успехом у читателей? Во времена, когда Нобелевский приз едва появился, обычно читали, подчас долго, даже слишком долго читали, и наконец решали присуждать или не присуждать. Так и не получил премии Грэм Грин, вроде бы кандидат бесспорный. Хемингуэй и Стейнбек удостоились «Нобеля» уже на вершине славы. А ныне об очередных лауреатах читатели, недоумевая, нередко спрашивают, кто это такой. Чем ближе к нашим временам, тем чаще присуждение премий стало подтверждать идею профессора Ливиса о заведомой организации мнений: сначала присуждают и заставляют читать даже неудобочитаемое.
Сноу написал Анисимову: «Высылайте требуемые для выдвижения на премию документы, а я подам независимый голос с Запада». Времени в обрез, Большой Иван приказывает, чтобы к завтраму представление к премии было готово. Изготовил я бумаги и отправил, а пакет вернулся обратно. Все побледнели, Иван почернел. В чём дело? Нет Нобелевского комитета, куда послал пакет. «Копенганен!» – в тот день у меня в голове был Копенгаген. После стажировки оттуда вернулась Эля, моя соученица в МГУ, и я спешил на встречу нашей университетской группы. Отправляю пакет, а предвкушаю: Копенгаген! И вернулся пакет… из Дании. Даю телеграмму в Стокгольм, секретарю Комитета Остерлингу: «Бумаги к представлению давно отправлены». Там бумаги приняли и премию дали, как было предложено: «За бескомпромиссную правдивость», о чем мы сообщили Шолохову, пояснив: премию дают за формулировку. Нобелевский Комитет передал бескомпромиссность словом integrity – у нас такого слова нет, как нет у англичан слова Истина в отличие от Правды. «Интегрити» по смыслу – честность и целостность.
Оказавшись в Стокгольме с лекциями по линии Общества «Знание», я первым делом попросил свидания с Остерлингом. Шведы насторожились: «Это вы хотите с ним о Солженицыне говорить?». Остерлинг, состоявший в переписке с Иваном Шмелевым как возможным кандидатом на премию, жавший руки лауреатам Бунину, Голсуорси, Элиоту, Фолкнеру и Шолохову, недавно пожал руку Солженицыну. «При чем тут Солженицын? – говорю. – Доктор меня выручил!». И пожал я руку, вручавшую премии, а меня спасшую от гражданской гибели. В шведской прессе появилось интервью со мной под заголовком «Солженицын – писатель не великий». Мнение мое было искренним. Не в силах я был понять, как в наших условиях, где за слова полагалось отвечать головой, требовательные критики, уровня Михаила Лифшица, могли считать Солженицына «большим художником» и говорить «писатель такого таланта, как Солженицын»? Это же без языка, без вдохновенья! Как могли всезнающие люди, подобные профессору Самарину, самообольщаться насчет солженицынского патриотизма? Психо-патологическая загадка. Пожалуй, я думаю, с мыслительно-творческой голодухи чего не померещится! В будущем литературные величины выровняются, Солженицын останется в примечаниях к Дмитрию Быстролетову, Юлию Марголину и Варламу Шаламову. Но пока, проскочив в первооткрыватели, он надолго своей прославленной на весь мир бесталанностью загубил злободневную и богатую содержанием тематику.
«Ты себе представить не можешь, в какую же ярость приходит Александр Исаевич, стоит тебя упомянуть», – уверили меня имевшие доступ к Солженицыну. Уж не знаю, интервью ли до него дошло или статья, где он был назван третьестепенной фигурой[8 - «Будем говорить прямо» – «Литературная учеба», 1982, № 5, С. 142–147/]. Несомненно, одной из причин неприязни была публикация в журнале «Вопросы литературы» при моем редакторстве воспоминаний внучки Леонида Андреева Ольги Вадимовны Андреевой-Карляйль. В этом я могу быть уверен: получил гневное письмо от верного оруженосца Солженицына Никиты Струве. Ольга Вадимовна в мемуарах рассказала, как они с мужем переправили за рубеж «Архипелаг ГУЛАГ» и затем оказались жертвами потребительского отношения Солженицына к людям: рискуя, помогали ему, потом ему же стали не нужны. Вот это Солженицына и возмутило. Пока шла журнальная публикация, Ольга Вадимовна исправно со мной переписывалась, тем более, что её дед, мечтавший стать летчиком, дружил с моим дедом-воздухоплавателем. Наша переписка прекратилась с окончанием печатания мемуаров О. В. При встрече она меня не замечает. Что же касается прагматизма (потребительства) в отношении самого Солженицына к людям, в том же духе о нем высказывалась Гучкова-Трейл. Слышал я и от его американского биографа, как он с ним намучился, добиваясь от него ответов об аресте и лагере, а Солженицын от вопросов увертывался, стараясь остаться в пределах мифа о себе им же и созданном.
Жавший руки Нобелевским лауреатам Остерлинг мне сказал: «Потоком шли письма из вашей страны – не давайте Шолохову, дайте Паустовскому». А за что? Доктор улыбнулся. «Разве в этом дело?» – так можно было истолковать улыбку. Остерлинг сказал: «Вы представить себе не можете, какие козни плетутся за кулисами премии. Говорю вам не для печати». Спрашивать, какие козни, я не спрашивал, он сам заговорил о кознях и, судя по тому, что читаю у него теперь, за долгие годы наболело, как у всякого, кто долго грешил, понимая – нехорошо, но не мог остановиться. А на исходе жизни всё-таки решил несколько замолить грехи. «И потом, – осторожно выговорил Остерлинг, – сами знаете, шум о плагиате…»
Шолохов ли написал «Тихий Дон», вопрос вроде «шекспировского», о чем мы с Петром Палиевским говорили свояку Шолохова, Константину Ивановичу Прийме, он удивлялся, что у нас, «желторотых», открывается рот о том говорить, сейчас сравнение принято. Ответ на шекспировский вопрос содержится в истории возникновения шекспировских пьес. Нет среди них ни одной полностью оригинальной, на собственно шекспировский сюжет. Для шекспировских времен – не исключение, так, заимствуя и переделывая, работали тогда драматурги. Шекспир заимствовал и перерабатывал лучше всех, им переработанное пережило свое время, а что он перерабатывал, осталось в прошлом.
«Тихий Дон» вобрал в себя множество книг и рукописей. Каких книг и что за рукописей, будет исследовано. Исследования, по моему убеждению, не изменят известный нам результат: творение Шолохова, чье авторство оспаривается в пользу Федора Крюкова. На подобную атрибуцию можно возразить словами Фаддея Зелинского. Крупнейший русский филолог польского происхождения сравнил оригинал Святого Писания с переводами на современные языки и пришел к выводу: оригинал носит совершенно другой характер. Если en regard, бок о бок, под одним переплетом издать шолоховский текст и прозу Крюкова, то разнохарактерность станет очевидной.
«Мелеховский двор – на самом краю хутора», – так начинается «Тихий Дон». Со времен Вальтера Скотта стало известно: можно взять свой клочок земли и сделать его вместительным как площадку, на которой разыгрывается драма всемирной истории. Такой сценой Вальтер Скотту служила его Шотландия. Но шотландец Вальтер Скотт – не шотландский писатель. Его «шотландские» романы столь же «шотландские», как его романы «французские» или «бельгийские». Через Шотландию, ставшую захолустьем, Вальтер Скотт ответил на всемирный вопрос его времени, послереволюционного: когда жилось лучше, тогда или теперь? Ни тогда, ни теперь – жили по-другому, таков был ответ исторического романиста.
В годы нашей Гражданской войны «клочком земли» всероссийского и даже вселенского значения стал Донской край. «Тихий Дон» создан с мыслью о таком значении. Это не донской и не казачий роман, иначе книга давно стала бы историческим документом, как стали добротные очерки Федора Крюкова. «Федор Крюков знает свой Тихий Дон», – в свое время судила критика, его сознание занято казачеством. А в шолоховском «Тихом Доне», при сочувствии казачеству, взгляд на казачество (как и на все остальное) – с точки зрения совершающегося в мире. Разделяющий казачью точку зрения должен это чувствовать. На казачьем вопросе разошлись Шолохов и художник Сергей Корольков, первый иллюстратор «Тихого Дона». «Разошлись», – со всей определенностью сказал мне живущий в Нью-Йорке сын Королькова, предупредив, что вникать в конфликт он никогда не вникал и вникать не склонен, но подчеркнул: мотив расхождения – казачество.
Сергей Корольков считается «Донским Роденом», Михаил Шолохов на Дону «пришлый». Между русскими и казаками – вражда глубокая, так и сказано в «Казаках» Толстого. Дед Борис решил изучить болезненную проблему, коснувшуюся его лично: казак чуть было не зарубил его именно как русского (повод – земля!). Дело в Ростове было, дед сотрудничал в «Донской правде» и с группой инженеров начинал строить в Александровске первый отечественный завод авиамоторов, процветающий по сию пору.
Добродушно о русских в «Тихом Доне» говорят казаки блаженно-пьяные. Мой старший друг Трофимыч, драгун, участник Первой Мировой, рассказывал: у них в кавалерии казаки не считались русскими. Старик подражал казачьему говору, подчеркивая отличие: «Трахимыч!».
Смешно думать, будто «Тихий Дон» написан Крюковым. Чтобы так думать, надо Крюкова не читать, либо лишиться критического чутья: всё равно, что говорить, будто «Герой нашего времени» написан Марлинским. Но написанное Крюковым послужило в числе источников «Тихого Дона» – в этом, мне кажется, едва ли нужно сомневаться. Если бы в «Тихом Доне» выделить шолоховское, то не потускнели бы ни слава романа, ни репутация автора: энергия в книге шолоховская. Шолохов – Стаханов советской литературы, а вместе со Стахановым, как известно, трудилась целая бригада, но слышал я от людей, достойных доверия: Стаханов и сам был орёл. О Шолохове говорили то же самое, добавляя: «Пленный орёл». На меня, хотя говорил я с ним лишь по телефону, он произвёл впечатление двух человек. Один – орлиного полёта, острый и полный энергии. Другой – смурной, трясина, но то были телефонные разговоры, откликнуться на приглашение Михаила Александровича и разделить с ним компанию я не решился: на руках у меня были иностранцы.
Проблема авторства «Тихого Дона», что называется, «закрыта»? Закрытым не считается и шекспировский вопрос. В каком смысле? Шекспиру принадлежит «Гамлет», но по словам современника, тогда было «полно Гамлетов». Это переработка другой пьесы и даже нескольких пьес, что считалось в порядке вещей. Проблема не в том, Шекспиром ли написан «Гамлет», проблема – как был написан. Шекспира написал Шекспир, ни один шекспировед сегодня не сомневается, однако никто из шекспироведов не повторит традиционного ответа: взял и написал, посетило вдохновение – излил на бумагу. Это устаревшее представление об индивидуальном творчестве разве что донашивала жрица себялюбия Айн Рэнд: её ходульные персонажи в подражание «Единственному» Штирнера будто бы создают все исключительно сами. Нет, чтобы вдохновение посетило и взялся за перо, еще много чего должно произойти, прежде чем кто-то напишет что бы то ни было. Творец не творит, а творится сообща, так можно обозначить современный подход.
Как сложился текст шолоховского романа, начинают исследовать. Близкий к Шолохову историк, с которым мы были друзьями, по ходу нашего разговора сказал: «Могу тебе рассказать, – и продолжил, – Серафимович…» Разговор происходил в редакции, его отвлекли, и к разговору мы не вернулись. Досказать мой осведомленный собеседник не успел, скончался в 2011 году. За него додумывать не стану.
«Тихий Дон» нам известный принадлежит Шолохову – вывод Ермолаева, американского эксперта русского происхождения. Давно я знал его, Германа Сергеевича, со времен холодной войны, когда с ним всё нас разделяло кроме убеждения в авторстве «Тихого Дона». Ермолаев представлялся мне всадником, летящем на коне с шашкой наголо: кто усомнится в шолоховском авторстве – голова долой! Прежде чем придти к такому убеждению, выучил Герман Сергеевич четыре тома наизусть, а мы, когда это стало возможным, опубликовали в журнале «Вопросы литературы» его статью, утверждающую: «Тихий Дон» написан Шолоховым.
Когда Шолохов пришёл в университет прочесть студентам отрывок из романа, он выбрал: «А что крови чужой пролили – счету нету… Черти кого только не рубили!» (IV, XVIII) Вся книга об этом – братоубийство, в котором Шолохов принимал участие. Братоубийство он и воплотил в меру дарованного ему таланта. Нет в мире неподсудных, Шолохова можно и нужно, так сказать, разоблачить, как разоблачили, то есть изучили Шекспира. «Донские рассказы» и «Тихий Дон» – одна рука, шолоховская. Филолог-финн это установил, прибегнув к помощи компьютера, а по-моему, и без компьютера видно по стилю и направлению мысли, по энергии и накалу страстей. Другое дело, в «Тихом Доне» охват и материал огромный, попадаются (я думаю) страницы, в которых дает себя знать другая, хлесткая литераторская рука.
Не разоблачители – апологеты нанесли удар по единоличному шолоховскому авторству, не найдя в романе размером с «Войну и мир» ни одной исторической ошибки! Не спутаны бесчисленные «выпушки, петлички», когда они путаются у отвоевавшего три войны Толстого. Откуда же такая безошибочность у не воевавшего двадцатипятилетнего автора? И в Шекспире сомневались: мог ли сын торговца кожами описывать быт королей? Разобрались, как описывал. Сказал об этом Луис Окинклосс, не шекспировед – писатель, профессионал литературы. В одном из его романов, действие которых развертывается среди богатых и начитанных, заходит разговор о Шекспире, и понимающий в литературе говорит: был в ту эпоху создан мощный стиль, под воздействием которого развилось гениальное природное дарование. Так Белинский, не читая Гегеля, однако находясь в окружении гегельянцев, изъяснявшихся на гегелевском жаргоне, тут же «смекнул, в чем дело».
Композиционно-стилистически «Тихий Дон» махина в духе после-толстовского времени, когда стали писать тяжеловато-орнаментально, исчезла пушкинская музыкальность, ещё сохранявшаяся у Тургенева и до Чехова. Чехов – Пушкин в прозе, определил Толстой. Он же признавал, что, читая Тургенева, начинает думать, будто у него самого нет таланта. После Пушкина не появлялось небесной воздушности стиха. Отличавшийся остротой ума парадоксалист Бернард Шоу говорил, что Шекспир вызывает у него неприязнь, когда ум шекспировский он сравнивает со своим умишком. Значит, бывали-таки и вероятно будут литературные явления неповторимые.
Но пусть не говорят мне, что иные эпизоды «Тихого Дона» кто-то способен был создать лет в двадцать пять. Это не означает, будто одарённый молодой прозаик у кого-то списывал. Даже при сверхгениальности что молодо, то зелено, как «Герой нашего времени». И это касается не войн и революций. Пуская людей в расход или раскулачивая, как это смолоду делали талантливейшие писатели советского времени, Михаил Шолохов и Аркадий Гайдар, всё равно некоторых мелочей в поведении тех же людей заметить не могли в силу той же молодости, скажем, как мать дает грудь ребенку, что в романе подмечено зрелым взглядом. Возрастной взгляд неподделен. Нужна житейская мудрость, которая до срока не наступает. Татьяна Ларина вышла замуж не раньше того, как поэт стал подумывать о том, не пора ли ему остепениться. Другое дело, что молодой талант способен оценить зрелый взгляд и удачно использовать, что, я думаю, в «Тихом Доне» и сделано. Если бы об источниках романа, вышедшего из-под пера Шолохова, было сказано в авторском предисловии, как предварял свои псевдо-исторические завораживающие «вымыслы»[9 - То есть «фикции» (fiction), как называли и называют художественную литературу: «Над вымыслом слезами обольюсь» (Пушкин), «забылся увлеченный волшебным вымыслом» (Лермонтов), речь идёт о романах.] Вальтер Скотт, то шолоховский вопрос оказался бы давно исчерпан: игра в открытую беспроигрышна. Никто не упрекал в плагиате Алексея Толстого, он сам рассказал, как на основе «Пиноккио» создал «Приключения Буратино» (мой первый кандидат в бессмертные), и даже итальянцы приняли русского деревянного мальчишку наряду с оригиналом, книгой Коллоди. Предисловие к «Тихому Дону» и сейчас не поздно написать, изложить известное и не изменится читательское восприятие кошмарной жуткости в повествовании, созданном шолоховской рукой.
«Надо было упомянуть лошадей у Шолохова».
Эрнест Симмонс.
Профессор Симмонс навёл критику на мою книжку «По словам лошади», указав, как и полагалось советологу, о чем я умолчал – о конях в «Тихом Доне». Отзыв удалось опубликовать в журнале «Коневодство», единственный текст идеологического врага, проскочивший в советской печати, и до чего же был враг доволен! Кроме «Коневодства» его не пропускали, даже слово на похоронах Гудзия, у которого он в молодости стажировался, не дали сказать. А почему? Глупость и тупость? Нет, страх. Коренная особенность времени – боязнь последствий. Предоставишь слово советологу и найдется благородный человек, свой брат, литературный критик, сообщит куда следует: На похоронах заслуженного советского ученого было проявлено примиренческое отношение к идеологическому противнику.
А критика Симмонса по моему адресу была справедливой: среди коней, которые проносятся по страницам «Тихого Дона», есть племенной дончак, этюд прописан умелой, набитой литераторской рукой. Литераторский профессионализм (ещё не могло быть у Шолохова) сочетается с чувством материала: взгляд знатока, выдержанная от начала и до конца «точка зрения», стилизованное под специальное описание. «У него маленькая сухая змеиная голова. Уши мелки и подвижны. Грудные мускулы развиты до предела. Ноги тонкие, сильные, бабки безупречны, копыта обточены, как речной голыш. Зад чуть висловат, хвост мочалист. Он кровный донец. Мало того: он очень высоких кровей, в жилах его ни капли иномеси, и порода видна во всем. Кличка его – Мальбрук» (кн. Третья, гл. VI).
Шурин мой, Петр Палиевский, которого Шолохов считал своим доверенным истолкователем, мне заметил, что в «Тихом Доне» есть ещё лошади. Есть, не так лихо написанные. Такого вот предостаточно: «Звякнули и загремели на конских зубах удила. Лошадь вздохнула всем нутром и пошла, сухо щелкая подковами по сухой и крепкой, как кремень, земле» (Кн. четвертая, гл. IX). Не бывает вздоха нутром, если лошадь под седлом и на ходу и удила на зубы не попадают, а если попадают, лошадь вскидывает головой и резко подает назад, удила не гремят. Описание неточно, набор деталей случаен и стандартно «как кремень». Не придираюсь, задаюсь вопросом: знание материала и тут же приблизительность и ошибки?
Умолчал же я о шолоховских конях, потому что не мог использовать яркие из доступных мне красок. Михаил Александрович говорил: «Н-ну, г-де жже т-ты? Жжжду». А тут из хрущевского секретариата звонок и приказывают очень любезным тоном: «Вас с иностранными гостями гордость нашей литературы ждет, уж, пожалуйста, расстройте встречу». Звоню Шолохову, слышу: «Г-где жжже ты? Что? Ну, хоть сам приходи. Ж-жду!». Дрогнул я, не решился. Слышал – рассказывали, будто мы с Шолоховым всю ночь пили и говорили о лошадях. К сожалению, не пили и не говорили. Жаль легенду разрушать. «Такому вранью грех не верить», – говорил Хемингуэй.
Разговора, как я уже сказал, было у нас два. Звучит в памяти голос полный энергии и силы, который настаивал, чтобы я назвал своё отчество. Довод: велика для меня честь по возрасту, был отвергнут. Шолохов спрашивал отчество неспроста. Спорил же он с Константином Симоновым, называя его «рыцарем с закрытым забралом». Откройся, кто ты есть? Чей сын? Когда отчество я назвал, приветливый голос произнёс: «Ну, вот, мы с тобой Михаил и Михайлович», – и установив связь между нами, продолжил: «Буду в Москве через месяц и увидимся: звони!». Через месяц: «Г-где-жже-ты? Ж-жду!»