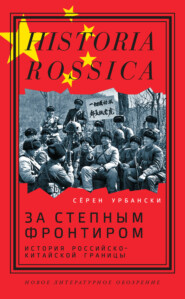скачать книгу бесплатно
После подписания договора в 1728 году на забайкальском фронтире был установлен тридцать один караульный пост, каждый из которых был обращен к монгольским и маньчжурским постам (калуням) на другой стороне границы[69 - На маньчжурском карун.]. Каждый караульный пост должен был насчитывать от пяти до десяти юрт и был укомплектован представителями коренных народов – хори-бурятами на западных участках фронтира и эвенками (тунгусами) – на востоке. Задача приграничного патрулирования была возложена на двух только что назначенных инспекторов: один для восточного участка, другой – для участка западнее Кяхты. Каждое лето оба инспектора должны были объезжать свои участки для поддержания демаркационных знаков в надлежащем состоянии, проверки работы местных караулов и поимки беглецов[70 - Foust C. M. Muscovite and Mandarin. P. 82–83; Васильев А. Забайкальские казаки. Т. 2. С. 20–24.].
Впоследствии были открыты дополнительные караулы, и к началу XIX века общее их число достигло семидесяти пяти, таким образом, расстояние между ними уменьшилось и составило примерно пятьдесят километров. Помимо пограничных постов были воздвигнуты укрепления – сначала вдоль западного участка и затем, между 1764 и 1773 годами, и вдоль восточного участка. Застава Новоцурухайтуй, расположенная на грунтовой дороге между Нерчинском и Цицикаром, например, была создана для защиты среднего течения Аргуни. Однако в условиях открытой степи такие укрепления с легкостью могли быть обойдены[71 - Васильев А. Забайкальские казаки. Т. 2. С. 170–171. Прил. 3.].
Пополняясь за счет местного набора среди коренных племен и привлечения сил из западного Забайкалья и других районов, казачьи полки росли медленно. Только начиная с 1770-х годов русские казаки начали переводиться из укрепленных застав на караульные посты вдоль фронтира, постепенно заменяя автохтонные отряды[72 - Численность казаков, служивших вдоль границы, оставалась неизменной до середины XIX века и составляла примерно 2400 бурятов, 500 тунгусов и 900 русских: Васильев А. Забайкальские казаки. Т. 2. С. 56–68, 106–111, 138–163, 255 в разных местах.]. Значительно позже, уже в последние годы цинского правления, на китайской стороне правительство заменило патрули из коренных жителей на хань-китайские войска. Доля казацкого населения, участвовавшего в непосредственном патрулировании фронтира, оставалась низкой. Только 446 русских и 499 тунгусских казаков в 1842 году служили на цурухайтуйском пограничном участке протяженностью в две тысячи километров. Казаки на этом участке были прикреплены к трем заставам и распределены между тридцатью четырьмя постоянными и тринадцатью временными караульными постами. В среднем население постоянных караульных постов насчитывало 285 человек. Непосредственно на посту в каждом из них находилось от восьми до тринадцати русских казаков и от десяти до четырнадцати тунгусских казаков[73 - Васильев А. Забайкальские казаки. Т. 2. Прил. 9, 14. Список караульных постов представлен в: Кашин Н. Несколько слов об Аргуни и об истинном истоке этой реки // Записки Сибирского отдела Императорского русского географического общества. Иркутск: Тип. штаба войск, 1863. Кн. 6. С. 102–103.].
Устав «Об управлении инородцев» 1822 года впервые в истории ввел верховенство закона в Сибири. Он кардинально изменил всю административную систему и закрепил за коренным населением подчиненный политический статус с ограниченным самоуправлением, в основе которого лежала родовая и территориальная принадлежность. Устав также изменил структуру управления казаков Забайкалья. Теперь, когда китайский сосед казался более предсказуемым, она приобрела скорее гражданский, а не военный характер[74 - Васильев А. Забайкальские казаки. Т. 2. С. 255–257. Краткое описание реформы, составленной графом Михаилом Михайловичем Сперанским, представлено в: Naumov I. V. The History of Siberia / Ed. D. N. Collins. London: Routledge, 2006. P. 95–98. Последствия реформы для местного коренного населения Забайкалья обсуждаются в главе 3.].
Обязанности и компенсации за службу казаков и китайских караульных были немного похожи. Русские рекруты, служившие 25 лет, получали шесть рублей в год, оружие и обеспечивались едой, однако экономика самообеспечения была основой их выживания. Государство способствовало самоснабжению, выделяя землю под казачьи станицы и селения. Таким образом, казаки в то время выполняли две государственные задачи: обеспечивали защиту фронтира и содержание дорог, а также занимались сельским хозяйством для пропитания. Неплодородная земля не позволяла казакам выращивать урожай на Забайкальском участке – здесь они промышляли засолкой рыбы или скотоводством.
Государственное обеспечение казаков из коренных народов было меньшим по сравнению с поддержкой, оказываемой этнически русским казакам, – они не обеспечивались продовольствием. Главным стимулом службы для всех автохтонных казаков было освобождение от выплаты ясака и получение земли, пригодной для сельского хозяйства и выпаса скота. Буряты, не состоявшие в казацких войсках, были вытеснены с этих зачастую плодородных земель, что вызывало их недовольство. Буряты-казаки были значительно богаче неслужилых бурят и относились к ним снисходительно. Казаки хори-буряты по сравнению с тунгусами находились в экономически более благоприятном положении. Буряты промышляли степным кочевым скотоводством на юге, тогда как эвенки полагались на охоту в лесах дальше на севере, а это было менее надежным источником пропитания[75 - Ясачные комиссии и другие государственные органы признавали негативные последствия этой политики для жизни коренного населения региона, но реформирование ее не осуществлялось: Васильев А. Забайкальские казаки. Т. 2. С. 255–267. Прил. 10–15.].
ПОВОРОТ РОССИИ НА ВОСТОК: ФРОНТИРНЫЙ ОБМЕН И ОПАСНОСТИ ОБШИРНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
Относительно мирное сосуществование, способствовавшее экономическому развитию имперского фронтира, завершилось в середине XIX века. Если эпоха Высокого Цина, продолжившаяся с середины XVII до конца XVIII века, ознаменовалась территориальной экспансией и политическими завоеваниями, сейчас маньчжуры столкнулись с серьезной внешней агрессией и внутренними противоречиями, которые включали финансовые трудности, разногласия между различными группами населения и вооруженные восстания. Российская империя в свою очередь, оправляясь от поражения в Крымской войне, продвинулась дальше в Центральную Азию и на Дальний Восток, создав тем самым необъятный фронтир с цинской империей, растянувшийся от Памира до Тихого океана.
В ходе российской экспансии на восток в 1847 году на должность генерал-губернатора Восточной Сибири был назначен Николай Николаевич Муравьев, который воспользовался столкновением маньчжуров с британскими и французскими войсками во время Второй опиумной войны и их борьбой с восставшими тайпинами и нянцзюнями. Занятость цинского правительства на других фронтах позволила осуществить Амурскую экспедицию (1849–1855), в результате которой Россия овладела крупными территориями севернее Амура и восточнее реки Уссури. Аннексия этих территорий была осуществлена на основании двух выгодных соглашений – Айгунского (1858) и Пекинского (1860), что привело к недолгой эйфории по поводу «российской Миссисипи» – реки Амур[76 - Paine S. C. M. Imperial Rivals. P. 28–106 passim; Границы Китая: история формирования. С. 95–118; Bassin M. Imperial Visions: Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840–1865. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.]. Границы на картах к середине XIX века казались установленными, однако структура власти на местах продолжала меняться.
Развернувшись на восток в середине XIX века, Россия значительно изменила организацию казаков на восточной границе империи. Согласно рекомендациям генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева, которые он сформулировал в попытке провести экспансию в Амурский бассейн, в марте 1851 года было учреждено Забайкальское казачье войско. Эта новообразованная армия насчитывала 48 169 человек и состояла из казаков, в основном местных русских крестьян, но также и представителей бурятских и тунгусских народов. Значительная доля новых казаков практически сразу была направлена к новым амурским и уссурийским границам для заселения новообретенных территорий лояльными подданными. Административный характер Забайкальской области также претерпел изменения. Территории к востоку от озера Байкал превратились в обычную российскую провинцию в Восточно-Сибирском генерал-губернаторстве, возглавляемом военным губернатором, который заведовал гражданскими и военными делами. Позднее, в 1884 году, Забайкальская область вошла в состав Приамурского генерал-губернаторства. Таким образом, область стала частью российского Дальнего Востока и до 1906 года оставалась административно обособленной от собственно Сибири. Читинская слобода еще в 1851 году получила статус областного города и стала административным центром округа[77 - Васильев А. Забайкальские казаки. Т. 3. С. 34–35; Энциклопедия Забайкалья: Читинская область. Т. 1. С. 159–160. О создании Приамурского генерал-губернаторства см. также: Matsuzato K. The Creation of the Priamur Governor Generalship in 1884 and the Reconfiguration of Asiatic Russia // Russian Review. 2012. Vol. 71. P. 365–390.].
Когда в Российской империи в 1874 году был введен всеобщий воинский призыв, казацкие войска сохранили самоуправление. Несмотря на то что многие характеристики службы напоминали регулярную военную службу, существовали некоторые особенности, в частности каждый казак обязательно владел лошадью, и служба в этих войсках была дольше. Казацкие станицы в 1871 году получили определенную долю автономности и собственную администрацию, станичного атамана, а также станичный суд. Реформы приравняли местную администрацию к российской низшей административной единице – волости[78 - Азиатская Россия: Издание переселенческого управления. С. 370–376; Эпов Н. И. Забайкальское казачье войско. С. 9–19; Васильев А. Забайкальские казаки. Т. 3. С. 169–175.].
Несмотря на эти реформы, традиционные способы управления фронтиром оставались по большому счету неизменными вплоть до конца XIX века. Еще в 1899 году русский военный топограф отметил, что «в былое время, назад тому лет 20, для обозначения границы собирали казаков со всех караулов и бороздили землю посредством угловатых камней: лошади гуськом в одиночку и попарно тащили по земле камни на ремнях, веревках, укрюках и получалась заметная пограничная межа. Еще и ныне местами сохранились следы таких борозд. Но главными пограничными знаками служат курганы, набросанные кучи камней выше роста человека, по две вместе, по сторонам пограничной межи»[79 - РГВИА. Ф. 404. Оп. 2. Д. 444. Л. 109–122, цитата на л. 121 об. – 122.]. Российское управление фронтиром на Аргуни изменилось мало, а китайский берег, возможно, изменился в еще меньшей степени. Несмотря на все это пополнение, войска были слишком сильно растянуты вдоль границы и не могли осуществлять контроль, необходимый для воспрепятствования кражам скота, контрабанде и другим нарушениям. Недостаточно укреплена была граница и для обеспечения соблюдения территориальных соглашений, которые препятствовали местным жителям и другим нарушителям переходить границу с целью выпаса скота, заготовки древесины и сенокоса на противоположном берегу реки.
Несмотря на то что, на первый взгляд, цинская и романовская политика пограничного контроля казалась достаточно похожей – обе стороны устанавливали караулы на интервалах примерно в 50 километров, можно отметить как минимум одно важное различие. Китайские караульные посты в Хулун-Буире к концу XIX века все еще были укомплектованы монгольскими знаменными войсками. Посты состояли только из юрт, где проживало и несколько гражданских лиц. Однако на забайкальской стороне караульные посты превратились в обычные казацкие селения, в основном населенные этническими русскими, говорившими на русском языке, крещеными и остававшимися проводниками русской культуры, даже несмотря на некоторое смешение с коренными народами и приспособление к жизни в степи. Граница была практически невидима и слабо соблюдалась, однако фактическое присутствие людей во фронтире явно говорило о российском превосходстве.
Территориальные приобретения на реках Амур и Уссури в 1850-х годах еще сильнее увеличили протяженность и без того обширной российско-китайской сухопутной границы, еще более усложнив контроль фронтира. Очевидная невозможность его полноценного осуществления заставила российское правительство реформировать таможенный надзор на востоке. В 1862 году главное таможенное управление Сибири было перенесено в Иркутск. Весь Дальний Восток (включая Забайкалье) был объявлен зоной свободной торговли. Импортные товары и продукты, произведенные на российском Дальнем Востоке, сейчас могли проходить таможню на озере Байкал. Основным российским приобретением в результате подписания Айгунского и Пекинского договоров стало получение русскими права торговать в цинской империи, что позволило им наконец вступить в конкуренцию с китайцами, в том числе с могущественными чайными компаниями. Русские торговцы в Монголии также могли теперь привозить в Сибирь большие караваны скота, мяса, шерсти и тому подобного. Региональная специфика отразилась в новой системе – обширная территория была малонаселена и экономически малозначима для метрополии. Новый финансовый режим еще сохранял элементы протекционизма, так как российское государство ввело некоторые ограничения на импорт таких товаров, как табак, чай и сахар, на которые существовал налоговый сбор. Импорт алкогольных напитков был вообще запрещен[80 - Беляева Н. А. От порто-франко к таможне: Очерк региональной истории российского протекционизма. Владивосток: Дальнаука, 2003. С. 9–37; Quested R. K. I. «Matey» Imperialists? The Tsarist Russians in Manchuria, 1895–1917. Hong Kong: Centre of Asian Studies, University of Hong Kong, 1982. P. 74–77.].
Староцурухайтуй – второй официальный торговый пункт во фронтире – обрел значение только после присоединения к России амурских и уссурийских территорий и объявления свободной торговли в регионе. Русские торговцы начали пересекать Хулун-Буир, горы Большого Хингана и Маньчжурскую равнину, больше не ограничивая торговлю с китайцами и монголами лишь приграничными территориями. Староцурухайтуй также превратился в начальный пункт перегонки скота из Забайкалья на амурские и уссурийские территории. Князь Петр Алексеевич Кропоткин – выдающийся русский географ, путешественник и теоретик анархизма – был одним из первых, кто проехал по этому новому маршруту, перегоняя скот через китайскую территорию. Когда его караван достиг Староцурухайтуя в мае 1864 года, монгольские караульные с другого берега реки проверили скот и товары на российской территории и запросили разрешения на проезд у амбаня в Хайларе. Кропоткин описал этот опыт: «Осмотр на китайской границе оказался снисходительнее европейского. Нам на слово поверили, что нет запрещенных товаров, записали число тюков, вписали все с возможною подробностью в наши билеты… и списали для себя копию, которая, как оказалось впоследствии, везде опережала нас по дороге»[81 - Кропоткин П. А. Две поездки в Маньчжурию в 1864 году князя П. Кропоткина // Записки сибирского отдела Императорского русского географического общества. Иркутск: Тип. штаба войск, 1865. Кн. 8. С. 2–6. Цитата на с. 6; Хилковский Н. Путевая записка о поездке в китайский город Хайлар // Записки сибирского отдела Императорского русского географического общества. Иркутск: Тип. штаба войск, 1865. Кн. 8. С. 149–150.]. Поголовье домашнего скота, перевозимого из Восточного Забайкалья в Дальневосточные районы России через китайскую территорию, постепенно увеличивалось. Другой русский путешественник во время визита в Староцурухайтуй в последние годы XIX века заметил на берегу реки баржу на сотню пассажиров, два плота вместимостью 20–30 человек и около пятнадцати лодок, каждая из которых была рассчитана примерно на десять человек[82 - Манакин М. Описание пути. С. 5.]. Несмотря на то что торговцы и сопровождающие лошадей и скот люди должны были иметь паспорта и разрешение китайских властей, обычно им позволялось пройти свободно[83 - Например: Бутин М. Д. Исторический очерк сношений русских с Китаем и описание пути с границы Нерчинского округа в Тянь-дзинь. Иркутск: Тип. Н. Н. Синицына, 1871. С. 40–45. Однако даже в конце 1880-х годов получению разрешения на пересечение китайской территории предшествовала продолжительная переписка между китайскими и российскими чиновниками. См., например: РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 1. Д. 695. Л. 2–5.].
Согласно новым правилам свободной торговли, введенным в 1862 году, внутри полосы, простиравшейся на пятьдесят верст вширь от обеих сторон границы, допускалась неофициальная приграничная торговля[84 - Верста – единица измерения длины, равная примерно 1,067 км.]. Только товары, вывозимые за пределы этой зоны, должны были регистрироваться на казацких постах. Три казацких селения в верховьях Аргуни составили ядро местной торговли внутри приграничной зоны: Абагайтуй, Староцурухайтуй и Новоцурухайтуй. Однако на деле значительная доля торговли осуществлялась за пределами этих караульных постов. Находящийся за пределами этой зоны маньчжурский гарнизонный город Хайлар был одним из тех мест, где местные русские обменивали скот на различные товары, например крупу и ткани. Оценить объем легально импортируемых товаров не представлялось возможным, так как казаки не предоставляли необходимой для этого документации. Свободная торговая зона, таким образом, создавала лазейку для бесконтрольной перевозки товаров через российско-китайскую границу[85 - РГИА ДВ. Ф. 704. Оп. 1. Д. 356. Л. 18–19; Таможенная политика России на Дальнем Востоке, 1858–1917 / Сост. Н. А. Беляева. Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2003. С. 13–17; Беляева Н. А. От порто-франко к таможне. С. 89–98; Описание Маньчжурии / Ред. Д. Позднеев. С. 550–552.]. Режим свободной торговли, установленный российским государством на азиатских границах, открыл для местных жителей большие возможности развития экономических сетей и позволил фронтиру жить собственной жизнью.
Существование такой традиционной фронтирной экономики становилось особенно очевидно на Ганьчжурской ярмарке – основном торговом центре кочевников. Ярмарка проводилась в 175 километрах от Хайлара на юго-западе Хулун-Буира, на единственной дороге, ведущей на север в Забайкалье. История ее восходит к началу XIX века, когда караваны китайских торговцев из Пекина и от озера Буйр-Нуур двигались через Внутреннюю Монголию в Хулун-Буир. Двигаясь от озера Буйр-Нуур в Хайлар, они проходили мимо важнейшего ламаистского храма и монастыря в Хулун-Буире. Построенный во время правления императора Цяньлуна в 1784 году Ганьчжурский монастырь постепенно приобретал значимость и, разрастаясь, вскоре мог разместить уже несколько сотен монахов.
Каждый год осенью степь оживала. Монголы оставляли свои летние пастбища и двигались тысячными колоннами по степным дорогам для совершения богослужения в Ганьчжурском монастыре. Духовный центр также стал местом получения прибыли для китайских торговцев. В сентябре в сезон паломничества они устанавливали свои лавки у монастыря – так появлялись оживленные базары. Кажущийся мир без границ позволял караванам из северного Китая и самых отдаленных уголков Монголии, а также Забайкалья, Амура и Приморья стекаться к «монастырю вечного мира» для участия в ярмарке, длящейся от пяти до семи дней. Это место становилось центром торговли между кочевниками из Халхи, Хулун-Буира и территорий восточнее Большого Хингана, и, хоть и в меньшей степени, между русскими и китайскими торговцами. Монастырь к 1870-м годам более не мог вместить все увеличивающееся число торговцев – участников ярмарки. Поэтому ярмарка была перенесена примерно на пять километров в сторону, создав обширный степной лагерь, который занял территорию диаметром до трех километров. Ярмарка была поделена на китайские и русские торговые ряды, включала рынок лошадей и была окружена юртами различных знамен, жильем ярмарочной администрации, столовыми и так далее[86 - Кормазов В. А. Барга. С. 95–103; Третьяк И. А. Дневник путешествия вокруг Хингана (результаты командировки в 1908 и 1909 гг.) // Записки Приамурского отдела Императорского русского географического общества. 1912. Т. 8. Вып. 1. С. 33–43. Очень насыщенное описание монастыря и ярмарки представлено в: Стрельбицкий И. И. Отчет о путешествии. С. 224–227.].
Рост межграничных экономических связей был заметен и на других участках российско-китайского фронтира, например в приаргунских селах примерно в 1900 году торговля осуществлялась во время ежегодных летних ярмарок подобных той, которую Агатон Гиллер описал еще в середине XIX века. Эти базары, как и ярмарка у Ганьчжурского монастыря, были зонами контакта между культурами. Жители Абагайтуя, например, общались с жителями другого берега реки и более отдаленных районов, осуществляя «порядочную торговлю скотом и сырьем с китайцами и дунганами, ежегодно съезжавшимися из Цицикара и Хайлара к русской границе и образовывавшими своими возами, палатками, юртами и шалашами довольно значительный табор-ярмарку»[87 - По реке Аргуни // Харбинский вестник. 1903. 14 окт. С. 2.].
Такой оживленный обмен был возможен, потому что порядок перехода границы через такие караульные посты, как Староцурухайтуй, не сильно изменился. Проверка документов и грузов жителей пятидесятиверстной зоны не проводилась. Путешественники издалека, если они вообще встречали караульных, проходили поверхностную проверку, которая при этом могла занимать много времени, как заметил один из путешественников – получение разрешения и назначенных проводников от амбаня в Хайларе потребовало пару дней[88 - Манакин М. Описание пути. С. 4–5.]. Таким образом, вплоть до ХX века система перехода границы оставалась неповоротливой, бюрократически громоздкой, а иногда и опасной. Пересечение фронтира до его модернизации было возможно только верхом на мулах, верблюдах, лошадях и с использованием других традиционных средств передвижения по грунтовым дорогам, построенным когда-то казаками. Три дороги на китайской территории связывали Хайлар и вели в Староцурухайтуй, Кайластуй и Абагайтуй[89 - Описание Маньчжурии / Ред. Д. Позднеев. С. 371–372; Стрельбицкий И. И. Отчет о путешествии. С. 227–230.]. Следующая глава продемонстрирует, как вскоре этот устаревший транспорт и система обмена товарами с наступлением эпохи железных дорог канут в лету.
ХАЙЛАР И АБАГАЙТУЙ: ДВА ОЧЕНЬ РАЗНЫХ СТЕПНЫХ ФРОНТИРНЫХ ПОСЕЛЕНИЯ
Различия в повседневной жизни на китайском и российском берегах реки Аргуни, отразившиеся в разнице экономического развития, этнической политики и содержания фронтира, наиболее ярко видны в сравнительных портретах поселений на общей границе. В последней части главы мы посетим Хайлар и Абагайтуй – два противоположных участка смежной зоны между империями.
Даже в конце XIX века сложно говорить о какой-либо форме оседлого сообщества в Хулун-Буире. Единственным значимым исключением был маньчжурский гарнизонный город Хайлар. Расположенный на реке Имин – притоке реки Хайлар, примерно в ста километрах на восток от аргунской границы, этот пыльный городок с населением от одной до полутора тысяч китайцев был единственным постоянным поселением между Цицикаром и Ургой (позднее Улан-Батор).
Когда Иван Иванович Стрельбицкий – офицер Российской армии и член Приамурского краевого отделения Русского географического общества, посетил эти места в 1894 году, городок произвел на него довольно удручающее впечатление:
Снаружи Хайлар представляет однообразно серую массу сырцовых лачуг, и хотя на двух выходах устроены большие ворота в китайском стиле с неизбежными павильонами наверху, но это нисколько не скрашивает общего, крайне унылого вида… Внутренний вид вполне отвечает тому впечатлению, которое слагается при первоначальном обзоре: ряд низких одноэтажных мазанок занимает обе стороны улицы, украшенной в двух местах деревянными арками. Эта улица образует, собственно говоря, базар: по обе стороны, из дверей, выдвинуты кверху длинные шесты, на которых качаются подвешенные всевозможные предметы, изображающие торговые атрибуты хозяина лавки и, как во всем Китае, заменяющие наши вывески… Гораздо привлекательнее вид загородной части Хайлара, между рекой и высотами левого, нагорного берега. В этом месте… кирпичная монгольская кумирня обыкновенной пестрой, затейливой китайско-тибетской архитектуры, далее – ямунь и, наконец, жилища амбаня и его служащих; кроме того, в версте от города, вниз по реке, расположена китайская пагода, окруженная кладбищем для временного упокоения тех китайцев, которые ожидают, пока близкие люди соберутся перевезти прах их на родину, в застенный Китай[90 - Стрельбицкий И. И. Отчет о путешествии. С. 211–216. Цитата на с. 214–215. Существуют данные, что население состояло в основном из хань-китайцев и насчитывало до двух тысяч человек, см.: Домбровский А., Ворошилов В. Маньчжурия. СПб.: Тип. Н. В. Васильева, 1897. С. 26.].
Более ранние описания Хайлара во многом созвучны. Конезаводчик Николай Александрович Хилковский по результатам посещения города в 1862 году оставил такое описание его жителей, которые состояли из «временных купцов (не имеющих при себе семейств), китайцев, живущих в 55 домах с товарными лавками, расположенными… в одну улицу»[91 - Хилковский Н. Путевая записка. С. 151–152. Цитата на с. 151. См. также: Описание Маньчжурии / Ред. Д. Позднеев. С. 303–304.]. Пусть даже заселенный регулярно выезжающими в родные места китайскими торговцами и ремесленниками, в преимущественно кочевом окружении Хулун-Буира Хайлар был единственным значимым населенным пунктом, в котором проживали этнические хань-китайцы.
Большее число поселений было на русской стороне аргунского фронтира, однако ни одно из них не было таким крупным, как Хайлар. Казацкое село Абагайтуй, расположенное на самой южной точке реки Аргунь, было основано вскоре после демаркации границы. В 1759 году в Абагайтуе в землянках и юртах проживали только тридцать пять тунгусов и двадцать две лошади. Число жителей увеличилось до 582 в 1883 году и в 1912 году достигло 959 человек. Оставаясь чисто казацким селением, половина населения которого была младше шестнадцати лет, оно быстро росло[92 - Васильев А. Забайкальские казаки. Т. 2. С. 146 (за 1759 год); Материалы для статистики населения в Забайкальском казачьем войске, собранные из данных, доставленных переписью произведенной 1-го января 1883 года. Чита: Забайкальск. обл. тип., 1884. С. 7 (за 1883 год); Отчет о состоянии Забайкальского казачьего войска за 1912. Чита: б. и., 1913. С. 132–133 (за 1912 год). Только 18 жителей в 1912 году не были отнесены к казакам.]. Степное население росло вплоть до революции 1917 года, что отчасти объясняется трансформацией казацких поселений на протяжении последней половины XIX века. Прежняя двойственная роль населения как караульных и крестьян с течением времени сместилась в пользу последней. Эта тенденция отразилась на впечатляющих показателях поголовья скота. Согласно статистическим данным, на 714 жителей Абагайтуя в 1895 году приходилось 3327 лошадей, 3762 единицы крупного рогатого скота, 10 254 овцы, 2122 козы и 94 верблюда[93 - Крюков Н. А. Восточное Забайкалье в сельскохозяйственном отношении. СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1895. С. 142–143.]