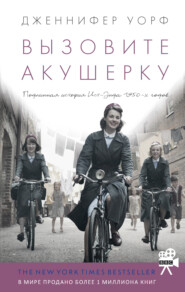скачать книгу бесплатно
– Молодец, Мюриэль, ты отлично справилась, осталось совсем чуть-чуть. Ещё одна схватка – и мы узнаем, мальчик у тебя или девочка.
Личико младенца синее и морщинистое, покрытое слизью и кровью. Проверяю сердцебиение. По-прежнему нормальное. Я слежу за поворотом головки на одну восьмую круга. Теперь из-под лонной дуги появилось плечико.
Ещё одна схватка.
– Вот так, Мюриэль, теперь можешь тужиться – изо всех сил.
Я направляю появившееся плечико вперёд и вверх. Следом идут другое плечико и рука, и ребёнок легко выскальзывает наружу.
– Ещё один мальчонка! – восклицает мать. – Слава богу! Сестра, он здоровенький?
Мюриэль заливается следами радости:
– О, благослови его Бог. Так, дайте-ка мне взглянуть. Ой, какой славненький.
Я почти так же ошеломлена, как и Мюриэль, столь сильно облегчение от благополучных родов. Зажимаю пуповину в двух местах и перерезаю посредине; беру младенца за лодыжки вверх тормашками – убедиться, что в лёгкие не попала слизь.
Он дышит. Теперь ребёнок – отдельное существо.
Я заворачиваю его в полотенца и передаю Мюриэль, которая убаюкивает сыночка, воркует над ним, целует и называет «прекрасным, милым, ангелом». По правде говоря, в первые минуты после рождения ребёнок – совсем не образец чистой красоты: измазан кровью, синюшный, сморщенный, с зажмуренными глазками. Но мать никогда не видит его таким. Для неё он – совершенство.
Однако моя работа не закончена. Надо удалить плаценту, целиком и полностью, не оставив ни кусочка в матке. Если оставить, у женщины возникнут серьёзные проблемы: инфекция, постоянное кровотечение, возможно, даже большая кровопотеря, что может привести к смерти. Это, пожалуй, самая сложная часть любых родов – извлечь плаценту целой и невредимой.
Мышцы матки, успешно справившись с непростой задачей рождения ребёнка, часто словно хотят отдохнуть. Нередко следующие десять-пятнадцать минут не происходит никаких сокращений. Это хорошо для матери, которой хочется, забыв о том, что у неё внутри, лежать, обнимая своего малыша, но для акушерки это время может стать тревожным. Когда сокращения матки возобновляются, они зачастую слишком слабы. Успешное извлечение плаценты – обычно вопрос точного подгадывания момента, проницательности и, самое главное, опыта.
Говорят, чтобы стать хорошей акушеркой, нужно семь лет практики. Шёл мой первый год, я была одна, стояла глухая ночь, женщина и её семья безгранично мне доверяли, в доме не было телефона. «Пожалуйста, Боже, не дай мне ошибиться», – молилась я.
Более или менее прибрав постель, я прошу Мюриэль лечь на спину, на тёплую сухую послеродовую простынь и прикрываю её одеялом. Пульс и давление нормальные, ребёнок спокойно лежит у неё на руках. Всё, что мне остаётся, – ждать.
Я сижу на стуле возле кровати, держа руку на животе Мюриэль, чтобы сразу почувствовать и оценить ситуацию. Иногда третья стадия родов может занять двадцать-тридцать минут. Я размышляю о важности терпения и возможных несчастьях, случающихся из-за желания поторопиться. Живот кажется мягким и широким, значит, плацента, очевидно, всё ещё держится в верхнем сегменте матки. За десять минут не было ни одного сокращения. Пуповина торчит из влагалища, это моя уловка – зафиксировать её чуть ниже вульвы, чтобы заметить, когда пуповина удлинится – признак того, что плацента отделилась и опускается в нижний сегмент матки. Но ничего не происходит. Мою голову посещает внезапная мысль: рассказы о благополучных родах, принятых таксистами или кондукторами, никогда не касаются подобного. В чрезвычайных обстоятельствах любой водитель автобуса может принять роды, но кто из них имеет хоть малейшее представление, как управляться на третьем этапе? Полагаю, большинство несведущих людей захотят вытянуть пуповину, думая, что так они вытащат и плаценту, но это может привести к сущей катастрофе.
Мюриэль воркует и целует своего ребёнка, пока её мать прибирается. Огонь потрескивает. Я спокойно жду, размышляя.
Почему общество не считает акушерок героинями, хотя должно бы? Почему им придают столь маленькое значение? Их до?лжно бы возносить до небес. Но не возносят. Ответственность, которую акушерки берут на себя, безмерна. Их умения и знания исключительны, но принимаются как нечто само собой разумеющееся и обычно недооцениваются.
Все студенты-медики в 1950-х годах обучались акушерками. Конечно, им читали лекции профессора-гинекологи, но без клинической практики лекции не имеют смысла. Так было во всех университетских клиниках: студенты прикреплялись к наставнице-акушерке и выезжали с ней на вызовы – учиться на практике. Все врачи общей практики прошли обучение у акушерок. Только об этом мало кто знал.
Живот напрягается и немного поднимается в области желудка, словно сокращение сжимает мышцы. «Началось», – думаю я. Но нет. Не оно. Живот после сокращения слишком мягкий.
Снова жду.
Размышляю о невероятном прогрессе акушерской практики за столетие. Поначалу самоотверженным женщинам, получившим соответствующую подготовку, приходилось обучать других. Сертифицированному обучению акушерок было менее пятидесяти лет. Мою мать и всех её братьев и сестёр принимали женщины без специальной подготовки, которых обычно звали «хозяйками» или «мастерицами». Говорят, врачи вообще не присутствовали на родах.
Ещё одно сокращение. Живот поднимается под моей рукой и остаётся твёрдым. Одновременно зажимы, которые я зафиксировала на пуповине, немного перемещаются. Пробую их. Да, ещё четыре-шесть дюймов пуповины с лёгкостью выходят. Плацента отделилась.
Прошу, чтобы Мюриэль передала ребёнка матери. Она знает, что я собираюсь сделать. Массирую живот, пока он не становится твёрдым, круглым и подвижным, решительно схватываю его и толкаю вниз и назад в таз. Пока я толкаю, в вульве появляется плацента, и я вынимаю её другой рукой. Сопровождаемые выбросом свежей и запёкшейся крови, выскальзывают мембраны.
Чувствую себя обессиленной, но успокоившейся. Ставлю лоток с плацентой на комод для последующего осмотра и следующие десять минут сижу подле Мюриэль, продолжая массировать живот, чтобы удостовериться, что он остаётся твёрдым и круглым, – это способствует удалению остаточных сгустков крови.
В более поздние годы после рождения ребёнка матерям станут давать стимулирующие препараты, вызывающие немедленные энергичные сокращения, так что плацента извлекается за три-пять минут. Медицина не стоит на месте! Но в 1950-х ничего такого ещё не было.
Остаётся только прибраться. Пока миссис Хокин омывает и переодевает дочь, я исследую плаценту. Кажется, целая, и все мембраны на месте. Затем осматриваю ребёнка – он выглядит здоровым и нормальным. Омываю и одеваю его в смехотворно большие одёжки, размышляя о радости и счастье Мюриэль, её умиротворённом лице. Она выглядит уставшей, думаю я, но без малейших признаков напряжения или переутомления. И так всегда! Должно быть, женщины обладают встроенной системой полного забвения – каким-то гормоном, который выбрасывается в ту часть мозга, что отвечает за память, сразу же после родов, стирая все напоминания о недавней агонии. Будь иначе, ни одна женщина не захотела бы второго ребёнка. Когда всё готово, разрешают войти гордому отцу. В наши дни большинство отцов находятся рядом со своими жёнами во время родов, присутствуют при само?м рождении. Но это – недавнее нововведение. На протяжении всей истории, насколько мне известно, подобное было неслыханно. Конечно, в 1950-х все были бы глубоко потрясены такой идеей. Деторождение, как полагали, было сугубо женским делом. Сопротивлялись даже присутствию докторов – сплошь мужчин до конца XIX столетия; они были допущены к родам, только когда акушерство наконец признали разделом медицинской науки.
Джим – маленький мужчина, ему, вероятно, меньше тридцати, но выглядит он примерно на сорок. Он бочком пробирается в комнату, выглядя робким и смущённым. Возможно, моё присутствие делает его косноязычным, хотя сомневаюсь, что он мог когда-либо похвастаться отличным владением языком.
– Всё ничего, девочка? – бормочет он и клюёт Мюриэль поцелуем в щёку.
Он выглядит ещё меньше рядом со своей пышной женой, на добрых пять стоунов[2 - Около 32 килограммов.] превосходящей его по весу. На фоне её вспыхнувшей розовым, недавно омытой кожи он выглядит ещё более серым, худым и сухим. «Результат шестидесятичасовой рабочей недели в доках», – думаю я про себя.
Затем он смотрит на младенца, хмыкает, прочищая горло, – очевидно, подыскивает подходящий эпитет – и говорит:
– Глядь, а он ничего так.
И уходит.
Мне жаль, что я не смогла узнать мужчин Ист-Энда. Но это было совершенно невозможно. Я принадлежала к женскому миру, к запретной теме родов. Мужчины вежливы и почтительны с акушерками, но никогда не заведут с нами знакомства, не говоря уже о дружбе. «Мужская» и «женская» работа строго разделены. Так что, как и Джейн Остин, никогда не описывавшая в своих романах разговора двух мужчин, потому что, как женщина, она не могла знать, на что похожи чисто мужские разговоры, я не многое могу написать о мужчинах Поплара – только поверхностные наблюдения.
Я готова уходить. Это были долгий день и ночь, но глубокое чувство выполненного долга и удовлетворения облегчают мою поступь и возносят сердце. Когда я выхожу из комнаты, Мюриэль и ребёнок спят. Внизу добрые люди опять предлагают мне чая, от которого я снова как можно деликатней отказываюсь, заверяя, что в Ноннатус-Хаусе меня ждёт завтрак. Я велю вызывать нас, если появится любая причина для беспокойства, но заверяю, что вернусь в обед, а потом – вечером.
Я вошла сюда из дождя и тьмы, сгорая от волнения и предвосхищения, преисполненная заботы о женщине, готовой вот-вот дать начало новой жизни. Теперь я оставляю мирно спящий дом с новой душой в самом его центре, устремляясь навстречу утренней заре.
Еду по тёмным пустынным улицам, безмолвным докам, мимо запертых ворот, пустых портов. Солнце только встаёт над рекой, открываются ворота, по улице, окликая друг друга, текут мужчины; начинают гудеть моторы, оживают краны; грузовики въезжают через огромные ворота; гудит прибывающий корабль. Верфь – не слишком милое место, но для молодой девушки, спавшей три часа за двадцатичетырёхчасовой рабочий день, после тихого трепета безопасных родов здорового малыша, нет ничего более упоительного. Я даже не чувствую усталости.
Разводной мост открыт – значит, дорога закрыта. Большое океанское судно медленно и величественно входит в пролив, его нос и трубы – в каких-то дюймах от домов по обе стороны. Я жду, мечтательно наблюдая за лоцманами и штурманами, ведущими его к причалу. Хотелось бы мне знать, как они это делают. Уровень их мастерства запределен, оно постигается годами и передаётся от отца к сыну или от дяди к племяннику. Они – принцы доков, и подёнщики относятся к ним с глубочайшим уважением.
Корабль проходит мост примерно за пятнадцать минут. Есть время подумать. Странно, как сложилась моя жизнь, с самого детства, прерванного войной, странным романом, когда мне было всего шестнадцать, и осознанием три года спустя, что нужно уходить. Так, по чисто прагматическим соображениям, мой выбор пал на профессию медсестры. Сожалею ли я о нём?
Резкий пронизывающий звук выдёргивает меня из задумчивости – мост начинает закрываться. Дорога снова открыта, движение возобновляется. Я прибиваюсь ближе к обочине: грузовики вокруг немного пугают. Огромный мужчина со стальными мышцами стягивает шапку и кричит:
– До?бро утро, сестра!
Я кричу в ответ:
– Доброе! Чудесный день, – и качусь дальше, ликуя от своей юности, утреннего воздуха, пьянящего волнения доков, но прежде всего – от бесподобного ощущения, что вручила прекрасного ребёнка довольной маме.
Как я вообще в это ввязалась? Не жалею ли я об этом? Никогда, никогда, никогда. Я бы не променяла свою работу ни на что на свете.
Ноннатус-Хаус
Если бы два года назад кто-нибудь сказал мне, что я отправлюсь в монастырь обучаться акушерству, меня бы как ветром сдуло. Не такой девушкой я была. Женские монастыри подходят святым мариям, скучным и простым. Не мне. Я считала Ноннатус-Хаус маленькой частной больницей, одной из сотен по всей стране.
Я приехала со всеми своими пожитками промозглым октябрьским вечером, имея представление о Лондоне только по Вест-Энду. Автобус от Олдгейта привёз меня в совсем другой Лондон: узкие неосвещённые улочки, следы бомбёжек, грязные серые дома. С трудом обнаружив Лейланд-стрит, я взялась за поиски больницы. Но ее там не оказалось. Возможно, неверно записала адрес?
Я остановила проходившую мимо женщину и спросила про акушерок Святого Раймонда Нонната. Леди поставила авоську и приветливо поглядела на меня; недостающие передние зубы добавляли её лицу сердечности. Металлические бигуди поблёскивали в темноте. Она вытащила изо рта сигарету и сказала что-то вроде:
– Ты хошь ноннатских кошерок, а, дорогуша?
Я уставилась на неё, пытаясь сообразить, что к чему. Никаких «кошек» я не просила.
– Нет. Мне нужны акушерки Святого Раймонда Нонната.
– Агась. Дык я и грю, милашенька. Ноннат. Вона, дорогуша. Тама твои кошерки.
Она ободряюще похлопала меня по руке, указала на какое-то здание, сунула сигарету обратно в рот и поковыляла прочь, хлопая домашними тапочками по мостовой.
Думаю, будет уместно рассказать сбитому с толку читателю о трудностях записи диалекта кокни. Чистый кокни непонятен – или был таковым – постороннему, но постепенно ухо привыкает к причудливому переплетению гласных и согласных, интонациям и идиомам, и через некоторое время вся эта мешанина обретает смысл. Когда я писала о жителях Доклендса, то будто бы вновь слышала их голоса, но вот воспроизвести диалект на письме оказалось ох как непросто!
Но не будем отвлекаться.
Я с сомнением разглядывала здание: грязный красный кирпич, викторианские арки и башенки, железные перила, никакого света, рядом – воронка от попадания бомбы. «Господи, и зачем я приехала? – подумала я. – Это же даже не госпиталь».
Я потянула ручку колокольчика, и изнутри донёсся глубокий звон. Несколько мгновений спустя раздались шаги. Дверь отворила дама в странной одежде – не совсем медсестринской, но и не совсем монашеской. Женщина была высокой, худой и очень-очень старой. Не говоря ни слова, она пристально смотрела на меня почти с минуту, затем наклонилась вперёд и взяла за руку. Осмотрелась по сторонам, втащила меня в коридор и заговорщически зашептала:
– Полюса разошлись, моя дорогая.
От удивления я лишилась дара речи, но, к счастью, она не нуждалась в моём ответе и продолжила, почти задыхаясь от волнения:
– Да-да, Марс и Венера пришли в согласие. Ты, конечно же, знаешь, что это значит?
Я потрясла головой.
– О, моя дорогая, силы хаоса, совмещение жидкого с твёрдым, падение шестигранника, проходящего сквозь эфир. Какое странное время! Так захватывающе. Малютки-ангелы хлопают крылышками.
Она рассмеялась и, хлопнув костлявыми ладонями, невысоко подпрыгнула.
– Но заходи, заходи, моя дорогая. Тебе нужно чая с пирогом. Пирог очень хорош. Любишь пироги?
Я кивнула.
– И я. Пойдём-ка вместе, моя дорогая, расскажешь мне своё мнение о теории, что глубины космоса всегда притягиваются гравитацией к небесным телам.
Повернувшись, она заспешила по каменному коридору, белое покрывало развивалось позади неё. Я сомневалась, стоит ли мне идти за нею, потому что всё больше думала, что определённо ошиблась адресом, но старушка, казалось, ждала, что я не отстану, и всё время говорила, говорила, задавая вопросы, ответов на которые явно не ожидала.
Она вошла в огромную викторианскую кухню с каменным полом, каменной раковиной, деревянной сливной полкой, столами и буфетами. В комнате также стояла старомодная газовая плита с деревянными сушилками для посуды, над раковиной висел большой водонагреватель Аскота, и по стенам тянулись свинцовые трубы. В углу примостилась большая коксовая печь, к потолку бежал дымок.
– Но вернёмся к пирогу, – спохватилась моя спутница. – Миссис Би испекла его этим утром. Я видела это своими собственными глазами. Куда они его поставили? Погляди-ка по сторонам, дорогая.
Ошибиться домом – это одно, а шарить на чужой кухне – совсем другое. Я впервые осмелилась заговорить:
– Это Ноннатус-Хаус?
Пожилая леди вскинула руки в театральном жесте и чётким, звенящим голосом возопила:
– Рождённый не в жизни, но в смерти! Для величия. Рождённый вести и вдохновлять. – Она возвела глаза к потолку, понизив голос до взволнованного шёпота: – Стать святым.
Она сумасшедшая? Я уставилась на женщину в изумлении, а потом переспросила:
– Да, но это Ноннатус-Хаус?
– О, моя дорогая, увидев тебя, я сразу же осознала, что ты из тех, кто понимает. Небеса непрерывны. Молодость даётся даром, колокольчики поют грустное индиго, глубокий вермильон. Давай возьмём от жизни столько, сколько сможем. Ставь чайник, дорогая. Не стой столбом.
Повторять вопрос, казалось, не было смысла, так что я стала наполнять чайник. Едва я отвернула кран, трубы по всей кухне тревожно загремели и затряслись. Старушка что-то искала, открывая буфеты и жестянки, непрерывно болтая о космических лучах и сливающихся эфирах. Внезапно она торжествующе воскликнула:
– Пирог! Вот он! Я знала, что найду его.
Она повернулась ко мне и зашептала с озорным блеском в глазах:
– Думают, от сестры Моники Джоан можно что-то утаить! Им не хватает смекалки, моя дорогая. Работящий или гулящий, смеющийся или отчаявшийся – никто не сокроется, всех выведут на чистую воду. Возьми две тарелки и нож и не слоняйся без дела. Где же чай?
Мы сели за огромный деревянный стол. Я разлила чай, а сестра Моника Джоан отрезала два больших куска пирога. Раскрошив свой на маленькие кусочки, она принялась гонять их по тарелке длинными костлявыми пальцами. Она ела, восторженно бормоча, подмигивая мне каждый раз, когда отправляла в рот очередной кусочек. Пирог был превосходен, и мы вступили в братский заговор, сойдясь во мнении, что ничего не случится, если мы съедим ещё по куску.
– Никто не узнает, моя дорогая. Все подумают, это Фред или тот бедняга, что сидит на пороге и уплетает свои бутерброды.
Она выглянула из окна.
– В небе что-то светится. Как думаешь, это планета взорвалась или высадились пришельцы?
Я была уверена, что это самолёт, но выбрала взорвавшуюся планету, а потом спросила:
– Выпьете ещё чая?
– Вот просто с языка сняла! А как насчёт ещё одного куска пирога? Они не вернутся до семи, знаешь ли.
Женщина продолжала болтать. И я, хотя не могла взять в толк, кто же она, находила её очаровательной. Чем больше я на неё смотрела, тем больше видела хрупкой красоты в высоких скулах, живых глазах, морщинистой, цвета слоновой кости коже и голове, гордо державшейся на тонкой длинной шее. Постоянное движение выразительных рук с длинными пальцами, напоминающее балет в исполнении десяти танцоров, завораживало. Мне казалось, будто я околдована.
Мы без особых усилий доели пирог, согласившись, что пустая жестянка привлечёт куда меньше внимания, чем жалкий кусочек, оставленный на тарелке.
Сестра Моника Джоан озорно подмигнула и усмехнулась:
– Первой заметит эта надоедливая сестра Евангелина. Видела бы ты её, моя дорогая, когда она серчает. О, тягостный груз… Её красное лицо становится ещё краснее, из носа капает. Да-да, по-настоящему капает! Я видела. – Она надменно вскинула голову. – Но что это может означать для меня? Тайна свидетельства сознания в доме в условный час, предназначение и событие одновременно; о, лишь немногие поистине избранные способны приветствовать осуществление этого! Но тихо. Что это? Поторопимся.
Она проворно вскочила, рассеивая крошки по столу, полу и самой себе, схватила жестянку и побежала с ней в кладовую. Затем снова села за стол, напустив на себя преувеличенно невинный вид.
Из коридора донеслись звуки шагов по каменному полу и женские голоса. На кухню, разговаривая о клизмах, запорах и варикозных венах, вошли три монахини. Я пришла к заключению, что, должно быть, вопреки всем сомнениям, попала в правильное место.
Одна из монахинь, остановившись, обратилась ко мне:
– Вы, должно быть, медсестра Ли. Мы вас ждали. Добро пожаловать в Ноннатус-Хаус. Я сестра Джулианна, старшая сестра. Приглашаю вас немного поболтать в моём кабинете после ужина. Вы поели?
Лицо и речь её были столь открыты и честны, а вопрос столь прост, что я не смогла ответить. Пирог плотно залёг на дне желудка. Пробормотав: «Да, спасибо», я украдкой смахнула крошки с юбки.
– Тогда вы извините нас, если мы быстренько перекусим? Обычно мы сами готовим себе ужин, потому как приходим в разное время.
Сёстры засуетились, доставая тарелки, ножи, сыр, булочки и другие мелочи из кладовки и расставляя их по столу. Тут из-за двери раздался крик, и появилась краснолицая монахиня с жестянкой из-под пирога.
– Пропал. Жестянка пуста. Где пирог миссис Би? Она испекла его утром.
Должно быть, это сестра Евангелина. Её лицо становилось всё краснее, пока она зорко глядела по сторонам.