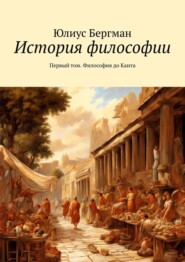скачать книгу бесплатно
Предположение о том, что Платон не приписывал чувственным вещам никакого реального бытия, не может быть основано на определенном, абсолютно однозначном объяснении Платона, но в его сочинениях нет недостатка в дальнейших объяснениях, которые могут служить его подтверждением. Так, в «Диалоге», за которым прямо следует «Софист», в «Теэтете», подробно опровергнув учение Протагора о том, что познание и чувственное восприятие – одно и то же, он прямо указывает на свое согласие с утверждением, что воспринимаемое не имеет иного бытия, кроме того, которое существует в том, что оно воспринимается. В седьмой книге «Республики» он сравнивает тех, кто думает, что может постичь реальное с помощью органов чувств, с узниками, которые заперты в темной пещере так, что видят только ее стену, а теперь считают реальными тени, отбрасываемые на эту стену вещами позади них, освещенными еще более далеким огнем, и в смене теней рассматривают то, что было раньше, как причину того, что следует потом. Описание материи в «Тимее», о котором мы сразу же упомянем, также весомо говорит в пользу того, что Платон не приписывал чувственному восприятию никакой истины.
Тимей», казалось бы, свидетельствует против рассматриваемого предположения, поскольку представляет мир как произведение, которое Бог, глядя на вечный архетип (Идеи), сформировал из материи, существующей независимо от него. Однако этот диалог не ставит своей целью изложение строгой истины; как он сам объясняет, он хочет лишь попробовать, чего можно достичь с помощью предположений, имеющих видимость истинности. Как и во второй части поэмы Парменида, он хочет показать, что если придерживаться предположения о реальном существовании чувственных вещей, то необходимо мыслить материальный мир так, чтобы как можно меньше отдаляться от истины. Кроме того, он смешивает научное и сказочное таким образом, что невозможно отделить одно от другого. Если, согласно «Тимею», допустить, что Платон противопоставлял вечного Бога и вечную материю, то придется допустить, что к этим двум принципам он добавил третий – мир идей, который, как признают самые разные интерпретации его учения, в действительности не мог быть его мнением. Пришлось бы также допустить, что он предполагал временное начало в существовании душ, что, в свою очередь, противоречило бы другим диалогам.
Действительно, если бы всем изложениям «Тимея», которые можно отделить от явно мифического характера диалога, придать научное значение, то они содержали бы прямо противоречивые учения, ибо в одном месте материя описывается как изначально невидимое и бесформенное нечто, лишенное всякой формы и определенности, а в другом – как хаос, лишенный порядка и находящийся в движении без правил. Если убедиться, что «Тимей» – это неразрывная ткань сказочной поэзии, представлений, соответствующих точке зрения чувственного опыта, и философской мысли, то придется даже увидеть в том, как он описывает первоматерию, свидетельство в пользу того, что Платон считал материальный мир иллюзорным. Он называет ее сложной и непонятной вещью – субстанцией, вбирающей в себя послеобразы сущего труднопроизносимым и чудесным образом, невидимой и бесформенной вещью, готовой поглотить все, непостижимым образом участвующей в умопостигаемом, вещью, которую трудно постичь, – той, которая, сама нетленная, дает место всему становящемуся и без него, как и запечатленные на ней образы бытия, чтобы быть доступной чувствам, не может быть постигнута законным, а только неким незаконным понятием, едва ли достоверным, которое заставляет нас, когда мы обращаем к нему свой взор, впадать в состояние мечтательности и говорить, что все существующее обязательно находится в одном месте и занимает одно пространство, а то, чего нет ни на земле, ни где-либо на небе, есть ничто. И стоило ли Платону приписывать реальное существование этому маловероятному, бессущностному нечто, о котором мы не знаем ни через органы чувств, ни через разум, которое мы добавляем к содержанию чувственного восприятия с помощью мысли, являющейся лишь ублюдком разума?
Выдающиеся ученые пытались доказать, что под принципом становления (????????? [эхмагэйон]) Платон понимал не материальный субстрат, который он противопоставляет Богу в «Тимее» как нечто изначальное, хотя, несомненно, называет таковым основу чувственного существования, а просто пространство, которое он приравнивает к несуществующему. Таким образом, «Тимей» согласуется с «Республикой», которая объявляет объекты разума, чувственные вещи, промежуточным звеном между абсолютно познаваемым бытием и абсолютно непознаваемым небытием. В любом случае эта точка зрения не может претендовать на большую внутреннюю достоверность. Если, как подчеркивается в нем самом, неправдоподобно, что Платон, в противоречии со своим объяснением, что приписывать следует только истинное бытие, поместил рядом с идеей вторую субстанцию, столь же вечную и неизменную в своей сущности при всех изменениях ее форм, то это в равной степени относится и к сопоставлению мира идей и простого пространства.
Но этот дуализм мира идей и пространства был бы просто абсурдным, если бы он поместил различие между двумя своими принципами, которые, конечно, должны быть, чтобы быть принципами, в то, что один из них является бытием, а другой – небытием, или в то, что один из них является бытием, а другой – небытием. Невероятно также, чтобы Платон считал, что физические тела, как и геометрические, образуются из простого пространства. Если, с другой стороны, утверждать, что в «Тимее» он прямо учит вместе с Филолаем (см. выше с. 22), что тела состоят из конечных составляющих чисто геометрической природы (плоть – из тетраэдров, воздух – из октаэдров, вода – из икосаэдров, земля – из гексаэдров), то это справедливо оспаривается; не сами конечные составляющие тел, а только их формы мирообразователь порождает путем геометрического построения; конечные составляющие тел возникают из изобразительного принципа, поскольку он вбирает формы в себя. И это тоже было бы по меньшей мере непонятно, как Платон, если бы он считал пространство чем-то недоступным ни разуму, ни чувственному восприятию, мог бы считать геометрию истинным знанием.
Наряду с «Тимеем», именно «Филеб», в частности, является тем местом, на которое, как полагают, может ссылаться мнение о том, что Платон сопоставил мир идей с другим началом, будь то наполненная пространством материя или просто пространство, но опять же ошибочно. Пытаясь включить в этот диалог основную идею пифагорейского учения, Платон, как и в «Тимее», выдвигает три начала: неограниченное или бесконечное, ограниченное и причину соединения этих двух начал. Но только два из них принадлежат к тем, о которых говорится в «Тимее», – ограниченное и причина, так как под последним он понимает идем, а под вторым – божественную причину. Неограниченное не совпадает с материей. Оно означает то, что имеет определенное количество или степень и может увеличиваться или уменьшаться сверх всякой определенной меры количества или степени, например, более теплое и более холодное, более сухое и более влажное, большее и меньшее, удовольствие и неудовольствие; и, по крайней мере, кажется, что этот принцип должен иметь место уже в умопостигаемом, а не только в чувственном мире. Однако если предположить, что Платон хотя бы включал материю в неограниченное, то вывод о том, что он приписывал ей реальное существование, будет необоснованным, так же как и другой вывод, что, забыв о том, что он уступил Протагору в «Театете» (см. выше, с. 85), он считал холод и тепло качествами, принадлежащими вещам самим по себе, поскольку он приводит холод и тепло в качестве примеров неограниченного. Ибо сначала нужно было бы показать, что в соответствующем отрывке «Филеба» он имел основания утверждать точку зрения философского учения о бытии в полном соответствии с ним.
Следует также отметить, что в «Филебе» и «Тимее» Платон представляет материальный мир как одушевленное существо. В «Филебе» он обосновывает эту идею тем, что как тела одушевленных существ являются частями общей материи, так и их души должны происходить из сущности, принадлежащей миру в целом, а также ссылкой на мудрость и разум, которые противостоят нам в построении мира и могут быть мыслимы только как мудрость и разум души. Ни это объяснение, ни другие высказывания «Филеба» не свидетельствуют о том, что Платон понимал мировую душу как существо, отличное от Бога. В «Тимее», напротив, проводится различие между ними. Поскольку, согласно этому диалогу, Бог хотел, чтобы все было хорошо, он считал, что целое, лишенное разума, будет менее прекрасным, чем то, которое обладает разумом, но разум не может быть дан существу, не имеющему души. Поэтому он поселил разум в душе, которую образовал путем смешения неделимого существа, которое всегда ведет себя одинаково, с делимым, телесным существом, и ввел эту душу в тело мира таким образом, что она пронизывала целое из центра и еще обволакивала его снаружи. Разделенная в соответствии с определенными числовыми пропорциями и разделенная по длине на кругообразно изогнутые полосы, составляющие каркас мира, душа перемещает себя и тело мира и приобретает правильные суждения о том, к чему прикасается, и, насколько позволяет природа того же самого, рациональное понимание. Само собой разумеется, что эту чувственно-фантастическую сказку, детали которой еще более сказочны, чем описанные общие черты, не следует воспринимать всерьез. Но даже в отношении рассказа «Филеба», если считать вероятным, что Платон не приписывал материальному миру никакого реального бытия, можно усомниться в том, что он действительно верил в существование души этого иллюзорного мира, т.е. предполагал, что весь материальный мир указывает, подобно телам животных и людей, на существование души, т.е. на существование души, для которой видимый нам мир представляется ее телом. В «Филебе» Платон тоже выступает с позиции веры в существование того, что воспринимается органами чувств; но было бы понятно, если бы в своих размышлениях о мироздании он считал необходимой с этой точки зрения идею, уже одобренную Сократом, о том, что Бог находится в мире, как душа в теле, и царствует, или что он соприкасается с миром посредством души, созданной им и представляющей его.
3. Добродетель и благо
Когда Платон снял барьеры, в которые, по мнению его учителя, была заключена философия, и в связи с исследованием познания возобновил прежние усилия, связанные с понятием бытия и целого, включающего в себя все существующее, это не привело к тому, что вопросы, которыми занимался исключительно Сократ и которые сначала занимали его, – вопросы, касающиеся образа жизни, требуемого разумом, и перспектив счастья человека, – впоследствии стали для него менее актуальными. Напротив, он возвращался к ним снова и снова; в ответах на них он видел не менее важную задачу философии, чем в познании и бытии. По его мнению, познание всего бытия и общей природы вещей требует в качестве своего дополнения того, что имеет своим предметом судьбу и участь человека, а это может быть надежно обосновано и доведено до конца только в связи с первым: учение о бытии завершается в этике, этика расширяется в учение о бытии. Он не отводил этике подчиненного места во всей философии, если бы считал ее ценность только в ее полезности, в том руководстве, которое она дает человеку; напротив, несомненно, что он считал ее столь же необходимой для удовлетворения инстинкта познания разума, как и другие части философии.
Впрочем, этические установки Платона во многом повторяют взгляды Сократа и являются результатом их дальнейшего развития и частичного переображения.
Прежде всего, он соглашается с Сократом в том, что разумной или, что то же самое, добродетельной волей и действием является та, в которой воля, направленная на приобретение блага или ценности и на избежание зла вообще, согласуется сама с собой. Искусство жить – это искусство измерения, искусство правильно взвешивать, что принесет нам то или иное решение с точки зрения добра и зла. Тот, кто живет неправильно, неразумно, безнравственно, следует тем или иным наклонностям и желаниям, удовлетворение которых приносит ему больше зла, чем добра, т.е. то, что противоречит общей цели его желаний и стремлений. В этом смысле в «Горгии» говорится об ораторах, которые в своих интересах сознательно ведут народ по ложному пути: они делают то, что им кажется лучшим, но не то, что они хотят; а в «Республике» – о душе, в которой существует тираническая конституция, т.е. в которой желания и аппетиты находятся в центре внимания. То есть о душе, в которой желания, которые следовало бы подавлять в интересах общей цели желания, возвысились до тиранов, говорится: она меньше всего делает то, что хотела бы, и поэтому всегда полна ужаса и раскаяния, всегда нуждается и не насыщается.
Платон также придерживается сократовского положения о том, что воля и действие определяются суждением о том, что есть добро и что есть зло, что все неправильные действия основаны на ошибке, что поэтому человек добровольно творит зло, и что добродетель совпадает с познанием того, что есть добро и что есть зло. Однако к этому положению он добавляет – вероятно, не вопреки мнению Сократа, а выражая его более полно и всесторонне (см. выше с. 56 и далее) – еще два развернутых положения, без которых оно не могло бы быть согласовано ни со свидетельством нравственного сознания, ни с фактами опыта. Во-первых, он признает, что не только знание в высшем смысле этого слова, но даже правильные мнения, которые человек приобретает не с помощью философии и разума, а обязан божественному провидению и которые он формирует и закрепляет практикой и привычкой, способны направить на правильный путь. Во-вторых, он неоднократно подчеркивает, что детерминация способности желания способностью познания – это только одна сторона взаимоотношений между этими двумя способностями, поскольку с другой стороны суждение о ценности и неценности вещи также находится под влиянием желания и страха. Решение воли, конечно, всегда следует за выражением теоретического факультета, но там, где осознание того, как нужно себя вести, чтобы оставаться в гармонии с самим собой, вступает в противоречие с вожделениями и желаниями, оно рискует быть изгнанным ими из души.
В этом случае человек любит убеждать себя в том, что то, чего он страстно желает, на самом деле добро, или что то, что вызывает у него страх, на самом деле зло, и после того, как он убедил себя в этом, его воля принимает решение в соответствии с подкупленным суждением. В этом и состоит преимущество знания в строгом смысле слова перед простым правильным мнением, что оно лучше противостоит таким атакам неразумного желания (ср. с. 70 выше), и поэтому философская добродетель, основанная на действительном знании, является более высокой, чем обычная, основанная на просто правильном мнении. А неразумное желание не только часто вытесняет правильное мнение, но и является препятствием на пути души к осознанию того, что есть истинное добро и что есть истинное зло. Прежде чем достичь знания, человек должен освободиться от власти похотей и желаний, враждебных разуму, ибо (как сказано в «Федоне») только чистый может прикасаться к чистому. При обучении философии, утверждает «Республика», речь идет не о том, чтобы вложить в душу знание, как свет в слепые глаза, а о том, чтобы постепенно приучить ее к свету знания, сняв с нее свинцовые грузы похотей. О материалистах в «Софисте» говорится, что их надо сначала сделать лучше, прежде чем убедить.
Это более точное и полное определение соотношения добродетели и знания «тесно связано» с теми идеями, на основе которых Платон развил сократовское учение о единстве добродетели. По его мнению, добродетель – это не род, состоящий из нескольких самостоятельных видов, не совокупность самостоятельных черт, которые можно было бы назвать добродетелями сами по себе, а некое неделимое единство. Но она предстает с нескольких сторон, или имеет несколько ветвей, ни одна из которых не может быть отделена от другой без потери того, что придает ей значение ветви добродетели. И только с одной из этих сторон или ветвей, а не со всей добродетелью в целом, тождественно познание истинно доброго и истинно злого – мудрость. От мудрости (?????, ????????), согласно сказанному об отношении знания к неразумному желанию, следует прежде всего отличать способность души сохранять и беречь правильные мнения о том, что страшно и что не страшно, в удовольствии и боли, желании и страхе. Эту добродетель Платон называет доблестью (?????? [андриа]). К мудрости и доблести он добавляет еще две кардинальные добродетели: благоразумие или нравственность (????????? [софросюнэ]) и справедливость (?????????? [дихайосюнэ]). Первая, поясняет он, заключается в сдерживании определенных похотей и желаний (????????? [энхратэйа]), это согласие и гармония «низшего по природе» и высшего в душе, когда оба единодушны в том, кто из них должен править. Поэтому можно сказать, что добродетелен тот человек, в котором все его склонности и инстинкты как чувственного существа так устроены, отчасти от природы, отчасти в результате постоянного упражнения в добродетели, что они как можно меньше препятствуют его продвижению в познании добра и позволяют ему удерживать полученные знания во всех жизненных ситуациях, так что у него как можно меньше причин для проявления добродетели. Справедливость Платон называет добродетелью, которая дает трем остальным силу развиваться и обеспечивает им защиту; ее деятельность не внешняя, а внутренняя, благодаря которой душа производит в себе должный порядок и гармонию. Поэтому справедливость – это добродетель, с помощью которой человек приводит себя к добродетели, добродетель самоопределения и самовоспитания к добродетели, сила совести, нравственность в более узком смысле этого слова. Если сравнить мудрость, стойкость и нравственность с ветвями добродетели, то справедливость следует рассматривать как ствол, из которого они растут.
Разделение добродетели на три ветви – мудрость, нравственность и стойкость – Платон связывает с различием трех сил или частей души: разумной (??????????, ???? [лёгистихон, нус]), пылкой или гневной (?????, ?????????, ???? [тхюмос, тхюмоэйдэс, оргэ]) и любостяжательной (???????????? [эпитхюмэтихон]). Первая расположена (согласно Тимею) в голове, вторая – в груди, третья – под диафрагмой. Рациональная часть – это та часть, которая стремится к познанию и любит мудрость, и с ее помощью душа обдумывает, что делать и чего не делать. Поэтому именно она делает душу мудрой. Жаждущая или гневная часть – это та часть, благодаря которой человек не желает делать все сам и упрекает себя, если позволил себе увлечься желаниями вопреки здравому смыслу, защищается всеми силами, когда его обижают, желает властвовать, бороться и побеждать, любит честь и славу. Именно благодаря этой части душа овладевает добродетелью доблести. В алчущей части живут инстинкты, которые, как голод, жажда и половая любовь, присущи душе в силу ее связи с телом, а также стремление к деньгам и товарам как средствам чувственного благополучия. Нравственность заключается в готовности души повиноваться разуму. Две нижние части души напоминают упряжку лошадей, одна из которых прекрасна и благородна и может управляться одним лишь окриком, а другая страдает всеми недостатками формы, дика и упряма, трудно поддается укрощению и с трудом слушается кнута, а разумная часть повинуется вожаку упряжки. Или представьте себе бесформенное животное с множеством голов диких и прирученных животных, льва и человека, сросшихся в одно существо, причем многоголовое животное – это образ жадной части, лев – образ пылкой части, а человек представляет собой разум. Тот, кто объявляет неправильные поступки полезными, а правильные – бесполезными, советует не что иное, как взращивать и укреплять многоголового зверя и льва, и вместо того, чтобы приучать их друг к другу и делать друзьями, позволять им кусать и пожирать друг друга, а человека морить голодом и ослаблять, чтобы он позволял тащить себя туда, куда тянет тот или иной из них; С другой стороны, те, кто восхваляет справедливость, утверждают, что «из многоголового животного надо кормить и воспитывать только прирученное, а человека сделать как можно более сильным, чтобы он с помощью льва мог покорить дикость бесформенного животного».
Изложенное выше учение о добродетели и его ответвлениях оставляет еще совершенно неопределенным понятие о том, чего желает каждый человек и к чему следует стремиться, различая, что составляет сущность добродетели, понятие блага. Речь идет прежде всего о соотношении блага и счастья. Платону, как и его учителю, казалось естественным, что в той же мере, в какой человек овладевает благом, он овладевает и счастьем или, что то же самое, получает удовольствие, приятность в самом широком смысле этого слова в долгосрочной перспективе. Это положение, как уже отмечалось (с. 58 и далее), может быть определено двояко: ему можно придать тот смысл, что всякое благо есть благо, поскольку обладание им способствует счастью, и поэтому все, чего человек желает, он представляет себе приносящим удовольствие, а значит, желает и считает благом; но есть и другой смысл: существует благо, которое, наоборот, поскольку оно является благом, т.е. благо, соответствующее наиболее общему благу, не является благом. Иными словами, это можно понимать как сведение понятия блага к понятию счастья и, наоборот, как сведение понятия счастья к понятию блага. Если о Сократе уже можно было сказать, что весь его образ мышления лучше соответствует сведению понятия счастья к понятию блага, чем наоборот, то о Платоне это можно сказать еще больше. Он также прямо утверждает, что тот, кто обладает прекрасным и добрым, называется блаженным, а счастливые счастливы благодаря обретению блага.
Если мы теперь спросим, в чем же состоит благо, которое, таким образом, относится к счастью, то платоновская этика, опять же в согласии с сократовской, дает ответ, что к благу относится прежде всего добродетель, а зло – величайшее зло. Добродетель – это здоровье, порядок, красота и благополучие души, а порочность – болезнь, уродство и слабость. Конечно, добродетель хороша по своим последствиям, т.е. полезна, но еще больше она заслуживает того, чтобы ее любили ради нее самой. Самое прекрасное и самое справедливое – это и самое счастливое. Если представить себе совершенно несправедливого человека, умеющего прикрываться видом совершенной справедливости, достигшего власти и почестей и вообще власти и почестей и преуспевшего в этом.
И в противоположность ему совершенно праведного человека, который кажется таким же неправедным, как и праведным на самом деле, которого лишают всего, пытают и в конце концов вешают, то жизнь этого праведника гораздо предпочтительнее жизни неправедного человека. Совершать несправедливость хуже, чем страдать от несправедливости. А понести справедливое наказание лучше, чем остаться безнаказанным, ибо наказание освобождает душу от несправедливости, которая является величайшим злом, подобно тому, как искусство врачевания освобождает тело от повреждений. Как тот, кто избавляется от болезни с помощью искусства исцеления болью, менее несчастен, чем тот, кто сохраняет болезнь, так и тот, кто наказан за несправедливость, менее несчастен, чем тот, кто не наказан.
Нет необходимости понимать эти замечания так, что для праведника в каждый отдельный момент его существования или в каждый более или менее длительный период его жизни его праведность приносит счастье, которое перевешивает все страдания, которые он может испытывать, а для неправедного его неправедность приносит страдания, которые перевешивают все трудности, и что в каждый отдельный момент более праведные живут лучше, чем менее праведные. Напротив, по смыслу Платона, конечно, следовало бы сказать, что только в долгосрочной перспективе здоровье души, даже независимо от его последствий, оказывается высшим благом, а ее болезнь – высшим злом, и это убеждение может быть поддержано только при условии, что праведник берет здоровье и красоту, которыми он украсил свою душу, в настоящую жизнь, а неправедник берет с собой в будущую жизнь свою болезнь. Кроме того, Платон не мог не заметить, что если добродетель состоит в способности души обрести истинное благо, то должно существовать и отличное от нее самой благо, обладание которым необходимо нам для того, чтобы быть счастливыми. И если он поэтому без оговорок скажет о справедливом, что он также и самый счастливый, то он сделает это в убеждении, что со справедливостью обязательно связано обладание этим отличным от нее благом, о котором справедливый заботится в силу своей справедливости, а несправедливый обязательно его лишен. Наконец, можно даже усомниться в том, что Платон считал все счастье, не проистекающее непосредственно из добродетели и обладания благом, неотделимым от добродетели, а также все страдания, противостоящие этому счастью, слишком незначительными, чтобы вообще принимать их во внимание при оценке меры счастья, то ли, наоборот, он не считал нужным принимать во внимание внешнее счастье и внешние страдания, поскольку в силу божественного устройства мира считал необходимым, чтобы внешний жребий праведника был таков, чтобы он в течение всего своего существования был более счастлив, чем менее справедливый. Во всяком случае, Платон был убежден, что согласно божественному устройству мира праведники должны жить хорошо, а неправедники – плохо даже в тех вещах, в которых праведник в силу своей праведности уже не заинтересован ни в получении, ни в защите от них. Для того, кто дорог богам, утверждает он в «Республике», все, что исходит от богов, является для него наилучшим, ибо необходимое зло все равно должно прийти к нему от прежнего греха. Соответственно, надо полагать, что и бедность, и болезни, и любое другое зло обернется во благо праведнику и при жизни, и после смерти. Призы, награды и щедроты, которые праведник получает от богов и людей при жизни, не считая тех благ, которые дает ему справедливость, сами по себе ничтожны по количеству и величию по сравнению с тем, что ожидает его после смерти. Попасть в подземный мир, наполненный множеством гор (говорит Горгий), – худшее из всех зол. По закону богов, человек, который вел праведную и благочестивую жизнь, после смерти попадает на Острова Блаженных и живет там без зла в совершенном блаженстве, а неправедные и злые попадают в темницу Тартар, где их ждет кара и наказание.
Понятие справедливости или добродетели предполагает, как уже отмечалось, благо, отличное от добродетели, т.е. если добродетель – это то качество человека, благодаря которому он достигает знания добра и зла и побуждает себя стремиться к этому знанию, сохранять достигнутое и жить в соответствии с ним, то сама добродетель может быть составной частью блага, но не всем благом (ср. с. 60 выше). Действительно, можно ходить по кругу, если на вопрос, в чем состоит благо, понятие которого используется для объяснения добродетели, отвечать: в добродетели, подобно тому как, по замечанию Платона, те, кто сначала говорит, что благо состоит в прозрении, а затем, когда их спрашивают, в каком прозрении, не знают другого ответа, кроме как: в прозрении блага. Что же касается того блага, к которому относится понятие добродетели, то Платон говорит, что оно не является целью, к которой стремится ни жадная, ни алчная часть души, хотя вещи, в обладании которыми эти части души находят свое удовлетворение, в той мере, в какой они не преобладают, Хотя вещи, в обладании которыми эти части души находят свое удовлетворение, также являются чем-то хорошим, поскольку они не влекут за собой преобладающего зла и не препятствуют приобщению к чему-то более ценному, это скорее то, к чему стремится рациональная часть, а это – знание, и не просто знание о хорошем и плохом, а знание о существовании вообще. Каждая из трех частей души, поясняет «Республика», имеет свое желание и свое удовольствие. Жадная часть стремится к так называемому вожделению, которое достигает души через тело, и предпочтительно к деньгам как средству достижения этой цели; жаждущая часть стремится к борьбе и победе, к мести за причиненную несправедливость, к власти и славе; разумная часть стремится к обучению и знанию (см. выше, с. 92). Каждая часть превозносит свое удовольствие и игнорирует другие, но правда на стороне разумной части, так как только она имеет опыт всех трех видов удовольствия, поэтому может сравнивать их друг с другом, и только ее суждения основаны на проницательности и разуме. Его удовольствие – лучшее во всех отношениях, но удовольствие честолюбивой части лучше, чем удовольствие жадной части. Удовольствия двух низших частей души – лишь двойники и тени истинного удовольствия, которое знает только любящая мудрость. В «Филебе» Платон впервые перечисляет три составляющие совершенного блага: знание о божественном, знание и правильные представления о воспринимаемом, вместе с искусствами, в которых они применяются, и те удовольствия, которые могут существовать вместе со здоровьем тела и души, особенно те, которые, как и восприятия божественного, могут быть реализованы только с помощью органов чувств, те, которые, как и те, что следуют за восприятиями глаза и уха, по своей природе не смешиваются с неудовольствием желания или могут возникнуть только в связи с неудовольствием, а те, которые желаются с неистовым порывом, смущающим душу и создающим ей препятствия, должны быть исключены из числа благ. Где же он тогда, в соответствии с пифагорейским направлением диалога, акцидентально в схематичном и темном представлении? Над этими тремя составляющими он ставит ровное и прекрасное, совершенное и достаточное, а над ними, как высшее, – меру и то, что соответствует мере и своевременно, и все остальное, что, надо полагать, избрала вечная природа, Это следует понимать как связь души с мироустроительным божеством и вытекающую из этой связи упорядочивающую силу добродетели, благодаря которой она становится по возможности причастной к тому, что, согласно «Теэтету» и десятой книге «Республики», является самым ценным – к подобию Бога.
От общего учения о благе Платон перешел к обстоятельным рассуждениям о том, к какому устройству жизни должны разумно присоединиться люди, чтобы приобщиться к благу в той мере, в какой это позволяют их внутренние несовершенства и внешние условия их существования. Всеми общими усилиями, направленными на достижение этой цели, должно, согласно своему верховенству, заниматься одно государство. Государство должно организовать всякий доходный труд и обеспечить его продуктами, обеспечить воспитание и образование граждан с детства до зрелого возраста по точно определенному плану, взять под свою опеку и надзор научные исследования, определить допустимую степень занятия поэзией и изящными искусствами и даже регламентировать половые сношения граждан с целью производства способных детей. В государстве не должно быть семей, государство должно быть единой семьей. Человек не должен быть ничем для себя, он должен быть всем, чем он является как гражданин государства. Здесь нет возможности подробно останавливаться на тех государственных институтах, к которым Платон призывает в своем главном произведении и которые он также считает возможными, если только, чего, конечно, не следует ожидать, люди решатся искать в них спасения. Но основную идею его построения можно изложить кратко. Она заключается в том, что государство должно быть построено по образцу души и состоять из трех сословий, соответствующих трем частям души: сословия правителей, состоящего из философов, сословия стражей или воинов, более тесно с ним связанного, и сословия тех, кто отстранен от всех государственных должностей, и земледельцев и торговцев, которые не имеют никакого влияния на законодательство и управление, и что государство хорошо упорядочено, если между этими тремя классами существуют отношения, соответствующие отношениям трех частей справедливой и добродетельной души.
IV. Аристотель
Аристотель родился в 385 году в Стагире, колонии во Фракии. Его отец был личным врачом царя Аминта Македонского. В восемнадцать лет он стал учеником Платона. Он оставался в Афинах в течение двадцати лет после смерти Платона, всегда поддерживая тесную связь с Академией. О его личных отношениях с Платоном ничего определенного не известно. То, что сообщается о разрыве, совершенно не подтверждено. Представляется очевидным, что не только после смерти Платона он выбрал для себя путь, известный нам по его поздним сочинениям, который далеко отдалил его от учителя, или «выступил со своими инакомыслием и критикой, из чего вполне можно заключить, что ни сам он, ни Платон не проявляли к нему никакого интереса», То, как он воспроизводит и критикует платоновские учения в своих поздних работах, позволяет даже предположить, что он стремился к самообразованию скорее через частное чтение философских и вообще научных трудов, чем через их прослушивание в Академии. Кажется совершенно правильным, когда Шлейермахер в своей «Истории философии» говорит: «Многие свидетельства не оставляют сомнений в том, что Аристотель в течение нескольких лет был непосредственным учеником Платона. По его сочинениям этого не скажешь. Постоянные недоразумения с платоновскими учениями, которые можно объяснить непониманием сочинений, но нельзя понять, как живой ученик должен был их сохранить; все ссылки на наши сочинения, ни одного из них на устные наставления; порицание, нарочитое, отдельных выражений, такое, какое не могло бы быть у того, кто знал манеру Платона с жизни; все это говорит только за знание из сочинений. Из этого, по крайней мере, видно, насколько непрочной была связь и как мало можно винить Платона за то, что он не выбрал Аристотеля своим преемником». В 343 или 342 году Аристотель был назначен царем Филиппом Македонским воспитателем своего сына Александра, которому тогда шел четырнадцатый год. Когда Александр отправился в Азию, Аристотель вернулся в Атм и открыл свою собственную школу в Ликейоне. Она была названа Перипатетической школой из-за наличия арок (????????? [пэрипатой]) в этой грамматической школе и из-за привычки Аристотеля преподавать пешком. Когда после смерти Александра афиняне начали восставать против македонского владычества, Аристотель почувствовал опасность и покинул Афины после двенадцати-тринадцати лет преподавания. В следующем, 322 году он умер в Халкисе на Эвбее.
Мы не располагаем достоверными сведениями о личности Аристотеля. Злонамеренные утверждения, которым подверглась память о нем, даже в большей степени, чем о Платоне и Сократе, лишены всякой достоверности, и тем более нельзя им доверять, поскольку они совершенно не вписываются в картину, которая вырисовывается из его сочинений. Что касается его отношения к науке, то основными чертами его индивидуальности были широкая эрудиция, проницательность, тонкость в отдельных замечаниях, разносторонний интерес, обращенный, однако, больше к отдельным сторонам бытия и его следствиям, чем к внутреннему контексту и корням, неустанное стремление развить науку в формальном отношении, а также вывести ее за прежние границы ее области во всех направлениях и прочно утвердить ее в новых областях, Однако потребность в действительно ясном и определенном понимании часто отходила на второй план перед потребностью в той, казалось бы, методической и систематической организации исследования, которая гарантирует полноту результатов и которая заключается в единообразном применении эластичных формул во всех отраслях знания, рассчитанных на многообразные повороты.
Сочинения Аристотеля – а их, по не очень достоверной традиции, насчитывается тысяча – постигла гораздо менее счастливая судьба, чем сочинения Платона. Изданные им сочинения, блестящий стиль которых вызывал восхищение древних, утрачены (за исключением недавно обнаруженной «Афинской политии»), за исключением ряда названий и нескольких незначительных фрагментов. Предполагается, что все они относятся ко времени, предшествовавшему созданию школы, и что если не все, то, по крайней мере, большая их часть представляла собой популярные изложения в форме диалогов. Дошедшие до нас сочинения представляют собой, по-видимому, записи, на которых Аристотель основывал свои лекции, некоторые из них он мог давать своим ученикам, а также, вероятно, черновики, которые он собирался переработать и дополнить для публикации. Но многие из этих записей также были утеряны, а те, которыми мы располагаем, безусловно, имеют форму, во многом отличающуюся от оригинала. Доказано, что, помимо мелких и крупных, нередко дословных повторов, они содержат, с одной стороны, некоторые пробелы, с другой – дополнения, часть которых восходит к памяти о лекциях Аристотеля и их копиям, а часть может отражать собственные мысли их авторов; во многих случаях элементы, контекст которых был утрачен, были неправильно собраны заново. Однако не стоит сильно сетовать на такое положение дел, поскольку сохранившаяся несомненная аутентичность позволяет с уверенностью определить основные черты философских взглядов Аристотеля.
К числу важных для истории философии сочинений, дошедших до нас под именем Аристотеля, относятся прежде всего логические труды, позднее объединенные под названием «Органон», а именно: 1. «Категории», 2. «Об истолковании» (????? ????????? [пэрии эрмэнэйас], de interpretatione), 3. «Первая аналитика» (????????? ??????? [аналютиха протэра]), посвященная рассуждению, 4. Вторая аналитика (????????? ??????? [аналютиха протэра]), в которой рассматривается процедура познания, служащая целям знания, особенно доказательства, 5. Топика, предметом которой является искусство рассуждения в области того, что хотя и не доказано строго, но может быть возведено к общему убеждению, и которая в своей последней книге (???? ??? ?????????? ??????? [пэри тон софистихон эленхон]) рассматривает заблуждения, с помощью которых правильные мнения представляются содержащими противоречия. Трактат о категориях считается авторитетами подлинным только в основных своих частях, а трактат Об истолковании – полностью поддельным. – Далее аристотелевское учение о бытии содержится в сочинении, получившем впоследствии название «Метафизика» (?? ???? ?? ?????? [та мэта та фюсиха]), поскольку в древнейшем дошедшем до нас собрании аристотелевских сочинений (составленном Андроником, современником Цицерона) ему отведено место после «Физики» и трех книг о душе. Метафизика» считается сборником трудов Аристотеля по первой философии (????? ????????? [протэ филёсофиа]) или теологии, как он называл общее учение о бытии. Исследования о душе сам Аристотель относил к естественным наукам. – Кроме того, имя Аристотеля носят три сочинения по этике, из которых, однако, только одно – «Никомахова этика» (????? ?????????? [этхика? никома?хэйа]) – признано его произведением. Философскую этику дополняет «Политика» (???????? [политика?]), в которой рассматривается природа государства и его различные формы. – Из научных работ общая физика (?????? ???????? [фюсихэ ахроадис]) также содержит некоторые замечания, касающиеся философских проблем. В меньшей степени это относится к книгам о животных (???? ?? ??? ???????? [пэри та дзфа историай]) и более мелким научным сочинениям и трактатам. Риторику и неоконченную Поэтику также следует отнести к числу сочинений, более далеких от философии.
1. познание
Самая несомненная заслуга, которую Аристотель приобрел для философии, – это создание основ логики. После того как Сократ и Платон разработали искусство рассуждать по правилам, а Платон, по крайней мере, дошел до ряда отдельных замечаний и наблюдений над этим искусством, Аристотель взялся за разработку целостной теории этого искусства. Прежде всего он рассматривает умозаключение, для изучения которого, как он сам отмечает, он не нашел никакой подготовительной работы; от него он переходит, с одной стороны, к рассмотрению суждений и понятий, с другой – к процессу доказательства и, следуя ему, к операциям определения и деления. Из учения о суждении следует отметить, что оно содержит два деления, которые впоследствии были обозначены как качественное и количественное (на утвердительное и отрицательное, общее и особенное), и третье, которое, как и так называемое деление по модальности, основано на различении возможного, действительного и необходимого, но понимает эти слова в другом смысле, а так называемое деление по отношению (на категорическое, гипотетическое и дизъюнктивное) полностью отсутствует. Деление суждений по качеству и по количеству связано с различением двух видов отношения между двумя суждениями, имеющими один и тот же субъект и один и тот же предикат, но противоположное качество, а именно с противоречивой оппозицией, в которой находятся два таких суждения, когда одно является общим, а другое – частным (например, Все люди – белые, некоторые – нет). Например, All men are white, Some men are not white), а также когда субъектом является единичная вещь, а противоположностью – члены которой оба являются общими (All men are white, No man is white).
Что касается учения об умозаключении, то следует отметить, что, кроме умозаключения через инверсию суждения (например, Всякое удовольствие есть нечто хорошее, следовательно, некоторое хорошее есть удовольствие), оно рассматривает только так называемые категорические умозаключения (т.е. такие, которые из логических отношений, в которые два понятия вступают с третьим, выделяют существующее между ними отношение, напр. из двух отношений, что понятие прямоугольника подчинено понятию четырехугольника, у которого сумма двух противоположных углов равна двум правам, а последнего – понятию фигуры, вписанной в окружность, вытекает третье отношение, что понятие прямоугольника подчинено понятию фигуры, вписанной в окружность, и поэтому все прямоугольники являются такими фигурами). Далее, касаясь учения Аристотеля об умозаключениях, следует подчеркнуть, что из него вытекает деление категорических умозаключений на три фигуры (четвертая фигура была добавлена позднее Галеном) и фигур на способы.
Из рассуждений о форме доказательства следует отметить различие между прямым и косвенным доказательством, как доказательством, с помощью которого показывается, что из допущения предложения, противоречащего утверждению, вытекает нечто невозможное; из учения об определении – то, что оно дает правило, которое с тех пор не утратило своей актуальности, – определять понятие, указывая ближайшее родовое понятие, к которому оно относится как видовое, и его отличие от соседних с ним видовых понятий (definitio fiat per genus proximum et differentiam specificam). Наконец, одним из выдающихся достижений Аристотеля в элементарной части логики является открытие (уже подготовленное Парменидом и затронутое Платоном) того, что все правила связи суждений с выводами и выводов с доказательствами, а значит, и несовместимости и возможности существования двух суждений вместе, можно проследить на основе одной посылки – принципа противоречия. «Невозможно, – утверждает он, – чтобы одно и то же было и не было истинным по отношению к одной и той же вещи в одном и том же отношении в одно и то же время». Это положение, добавляет он, является наиболее определенным из всех принципов и исключает всякую возможность ошибки, поскольку невозможно предположить, что одна и та же вещь есть и нет; это мнение, к которому в конечном счете приводят все доказательства. Из него же он делает вывод, известный под названием принципа исключенного третьего, а именно, что, по его выражению, между двумя противоречивыми суждениями, т.е. суждениями, прямо и непосредственно противоречащими друг другу, нет ничего общего. С помощью принципа противоречия он обобщает принцип исключенного третьего в том, что из двух противоречиво противоположных суждений, например, Сократ болен и Сократ не болен, одно должно быть истинным, а другое ложным.
Аристотель расширил свое исследование процесса доказательства (во второй «Аналитике») до исследования целей и методов научного исследования. Высшей целью он называет постижение всеобщего и, что совпадает с этим, необходимого; Или, поскольку признание чего-либо необходимым означает в той же мере признание причины, по которой оно таково и не может быть иным, то высшей целью познания можно считать и познание причин. По его мнению, как и по мнению Платона, в этом и состоит отличие знания от простого мнения, что первое имеет своим содержанием необходимость, не-бытие-иное, а второе – то, что может быть иным, чем оно есть, поэтому, как он говорит, оно есть нечто неопределенное. Но такое знание, например, что треугольники по своей природе, поскольку они треугольники, вообще и обязательно имеют сумму углов двух прав, не может быть получено из восприятий и совокупности восприятий в опыте, а только из рассмотрения понятия их предмета.
Только то, что признается исходящим из понятия как вещь, им понятая, признается таковым в той мере, в какой они являются только такими и никакими другими, т.е. как вообще и обязательно исходящие. Поэтому совершенное познание есть (как утверждал еще Платон) познание из понятий и имеет своим действительным непосредственным предметом не отдельные вещи, а понятия. То, что не относится к вещи в соответствии с ее понятием, случайно, и истинного знания о нем быть не может. Кроме того, каждое такое совершенное знание является либо прямым, т.е. не нуждающимся в доказательстве и также не способным к доказательству, либо косвенным, т.е. выводимым и доказываемым из других и, наконец, из прямых. Поскольку опыт вообще не может дать совершенного знания, непосредственное знание должно быть несомненным само по себе. Эти высшие истины, из которых должны быть выведены и доказаны все остальные вполне познаваемые истины, составляют предмет знания (Аристотель называет его ???? [нус]), которое стоит выше знания, основанного на доказательстве (???????? [эпистэмэ]), как последнее стоит выше мнения. Но следует различать два вида этих принципов (????? ?????????? [архай аподэйксэос]): одни (Аристотель предпочитает называть их аксиомами) лежат в основе всякого знания, другие принадлежат одной или нескольким конкретным наукам. Аристотель не дает описания ни принципов, ни даже самых общих аксиом, хотя и объявляет их объяснение задачей первой философии. Первая философия» обсудить их. В качестве эпизодических примеров можно привести теорему о противоречии и исключенном третьем, определение прямой линии, принцип, относящийся как к геометрии, так и к арифметике, согласно которому если отнять подобное от подобного, то останется подобное. В одном месте говорится, что недоказуемые принципы заключаются в определениях. Возможно, в смысле Аристотеля точнее было бы сказать: отчасти в определениях, отчасти в предложениях, которые (как, например, противоречие или математический принцип, что при отнятии одного и того же от другого остается одно и то же) сами по себе не являются предпосылками выводов, но, по выражению Канта, служат цепью метода, т.е. выражают правила рассуждения.
Трудно согласовать такое представление о совершенном знании с тем, что Аристотель, напротив, не менее решительно объявляет чувственное восприятие и опыт основой не только мнения, но и совершенного знания. Он противопоставляет тот путь познания, который идет от общего к частному, или, что то же самое, от причин к следствиям или эффектам, другому, который, наоборот, имеет своим исходным пунктом частное, а конечным – самое общее, составляющее содержание принципов, – индукцию, и считает необходимым, чтобы индукция предшествовала дедуктивному процессу доказательства. Следует различать то, что естественно, и то, что предшествует и познаваемо нами. ???????? и ???????????? ?? ????? [протэрон и гноримотэрон тэ фюсэй] – самое общее, ???????? ???? ???? [протэрон прос эмас] – конкретное, с которым нас знакомит восприятие; доказательство исходит из первого, индукция – из второго; индукция более правдоподобна, доказательство – более убедительно. Аристотель не преминул признать, что опыт и индукция, опирающаяся только на факты опыта, не могут научить тому, что определенный предикат обязательно принадлежит вещам, подпадающим под определенное понятие в соответствии с их понятием, а значит, и всем возможным вещам этого рода, и что поэтому принципы доказательства, которые не могут быть доказаны из общих истин, не могут быть доказаны и таким способом, Тем не менее он, по-видимому, придавал опыту и индукции для дедуктивного познания большее значение, чем то, которое «заключалось» бы в том, что только с их помощью разум стимулируется и ставится в положение для размышления над наиболее общими понятиями и принципами, изначально лежащими в нем; Скорее, он предполагал, что даже после того, как принципы найдены, уверенность в них все равно каким-то образом обусловлена предшествующим опытом и его обработкой.
Если Аристотель, придавая большое значение чувственному восприятию и опыту, теоретически упреждает требования, вытекающие из его учения об истинном знании (что оно должно быть получено путем строгой дедукции из непосредственно определенных предложений, которые разум выводит из самого себя, а все, что не найдено таким путем, является лишь мнением), то в своей научной практике он их полностью избегает. Ибо его интерес обращен преимущественно к исследованию того, что, как он сам признает, является и должно оставаться случайным для разума, многообразия вещей, до которых дедуктивная процедура чистого разума, ограниченная сферой чистых понятий, не может опуститься, которые доступны только опыту и поэтому могут быть только предметом мнения, даже если в таких исследованиях он не упускает из виду умопостигаемое бытие, универсально необходимое и вечное. И там, где, как в метафизике, он обращается к области абсолютно познаваемого, он никогда не ставит перед собой задачу исследовать его так, как того требует его учение о познании, а именно: установить высшие принципы, непосредственно определяемые разумом, и исходить из них только путем дедуктивных рассуждений. Здесь он использует скорее метод, который он называет диалектикой и который он описывает в «Топике»: Различение различных сторон, с которых предстает рассматриваемый вопрос, обсуждение трудностей (апорий), попытка прийти к результату путем рассмотрения того, что является фактическим, с одной стороны, и того, что принимают все или большинство, или проницательные и мудрые, с другой стороны, использование индукции, аналогии и умозаключения, в которых разум может быть уверен. Не странно, что, учитывая интеллектуальную склонность Аристотеля, проявившуюся в этом, именно в той области, где метод продвижения от общих, непосредственно определенных предложений путем строгого умозаключения уже давно зарекомендовал себя, в математике, ему, разностороннему человеку, не приписывают более важных достижений, и даже кажется сомнительным, что он вообще написал строго математический трактат.
Из учения Аристотеля о познании можно вывести и его классификацию наук, или, как он использовал тот же термин, философии. Он выделяет три основные части: теоретическую, практическую и философскую. Теоретическая философия стремится к знанию, которое имеет ценность само по себе; она является продуктом чистого инстинкта познания. Две другие имеют цель вне себя, в применении своих результатов; они дают указания для деятельности человека; практическая философия, охватывающая этику и политику, рассматривает человеческую деятельность в той мере, в какой она имеет цель в своей собственной красоте и совершенстве, как действие, возникающее из воления, а поэтическая философия, к которой относится теория поэзии, имеет дело с творчеством, возникающим из мастерства, с техническим и эстетическим творчеством, цель которого лежит вне себя, в производимом произведении. Далее Аристотель разделяет теоретическую философию на первую философию или теологию, математику и физику (естественные науки вместе с наукой о душе). Первая философия (получившая впоследствии название метафизики (см. выше с. 100)) имеет своим предметом первые (или последние) принципы и причины всего сущего или сущего в той мере, в какой оно вообще существует (?? ? ?? [он э он]). Ибо как число, в той мере, в какой оно есть число, обладает особыми свойствами, например, быть четным или нечетным, иметь общую меру с другим, быть равным другому, большим или меньшим другого, и как одни свойства присущи движущимся телам, другие – покоящимся, или одни – легким, другие – тяжелым, так и бытию, в той мере, в какой оно есть бытие, присущи определенные вещи. Аристотель также называет физику второй философией (??????? ????????? [дэyтэра филёсофиа]). Иногда он противопоставляет первую философию, как философию всего существующего, остальным специальным наукам (????????? ?? ????? ????????? [эпистэмай эн мэрэй легомэнай]). В его трудах нет никаких указаний на место логики (аналитики) в системе наук. Определял ли он ее, как позднее его школа, как органон всей науки, которая сама по себе не является ее частью, рассматривал ли он ее, с одной стороны, как пропедевтику, а с другой – как часть этики, которая, по его мнению, также должна иметь дело со способностью распознавать, – остается неясным. По мнению Аристотеля, только метафизика и математика способны на полную строгость и точность во всех разделах. Требовать того же от этики, в частности, он называет недостатком образования. Теоретические науки он объявляет более желательными, чем практические и поэтические, а среди них опять-таки наиболее желательной и достойной высокой похвалы является первая философия.
2. Бытие
Метафизика Аристотеля предполагает, что материальный мир существует сам по себе, вне восприятия. Даже содержание ощущений (цвет, звук, запах и т.д.) рассматривается как свойства вещей самих по себе. Он, правда, различает в отношении их акт восприятия и способность (??? ????????? ???? ??????? [хай энэргэйан хата дюнамин]), допуская в отношении первого, что для этого воспринимаемое существо, напр. например, чтобы быть черным или белым, необходимо быть видимым, но невозможно понять, что можно понимать под неактивированной способностью вещи обладать определенным качеством, известным нам через ощущение, кроме фактического обладания этим качеством в то время, когда оно никем не ощущается.
Аристотель различает в каждой материальной вещи материал, из которого она состоит, например, в доме – строительный материал, в статуе – руда, в ящике – дерево, в растении или животном – смесь четырех элементов (земли, воды, воздуха и огня), и природу или конституцию, по которой она является этим особым образцом своего вида и рода, то есть содержание понятия вида, ставшее в ней индивидуальной особенностью, ее индивидуальной сущностью. Последнее он обозначает словом ????? [усиа], которое в латинском переводе можно перевести как essentia. В более широком смысле он называет ????? [усиа] также сущность, общую для вещей вида, рода, класса, т.е. содержание каждого видового, родового или классового понятия, например, бытие-человек, бытие-живое-существо. Иногда он различает качества, составляющие отдельные сущности, например, то, что представляет собой Сократ как данный конкретный человек, и качества, составляющие содержание понятий вида, рода или класса, например, то, что является общим для человека как такового или для живого существа как такового, обозначая их ?????? и ???????? ??? [протай и дэyтэрай юле]. В той мере, в какой Аристотель противопоставляет индивидуальную сущность вещи ее субстанции (??? [юле]), он обозначает ее словом ????? [эйдос], которое Платон использовал как синоним ???? [идэа]; в немецком языке оно переводится как форма. О том, какое значение имеют, с одной стороны, субстанция и, с другой стороны, форма для состоящей из них вещи (??????? [сюнолён]), или о том, что они, по отношению друг к другу, вносят в состоящую из них вещь, он определяет так, субстанция – это то, что есть по возможности, способности или склонности (??????? [дюнамэй], potentia), то, что вещь, как сочетание субстанции и формы, есть по актуальности или осуществлению (???????? [энэргэйа] или ?????????? [энтэлехэйа], actu), (например, дерево, из которого сделано дерево). Например, дерево, из которого сделан ящик, уже было ящиком с точки зрения возможности), или субстанция вещи – это просто возможность быть именно этой вещью, форма – это актуальность.
Далее Аристотель различает в каждой вещи детерминанты ее и того, от чего они предицируются, при этом сама она не может служить предикатом суждения. Последнее он называет субстанцией (??????????? [юпохэймэнон]). Субстанцию он объявляет либо тождественной самой вещи, поскольку она есть формованная субстанция или форма, выраженная в субстанции, либо форма. Кстати, к субстанции он применяет также термин ??????????? [юпохэймэнон]. Он делит предикативные детерминанты на десять классов: 1. субстанциальные или существенные (????? [усиа] или ?? ???? [ти эсти]), например, человек, лошадь, 2. количественные (????? [посон]), например. два локтя, три локтя, 3. качественные (????? [пойон]), например, белый, языковой, 4. отношения значимости (???? ?? [прос ти]), например, двойной, половинный, больший, 5. где (???? [потэ]), например, лицее, на рынке, 6. когда (????? [эхэйн]), например, вчера, в прошлом году, 7. значение лежания (??????? [хэйстхай]), например, лежит, сидит, 8. значение наличия (????? [эхэйн]), например, обут, охраняется, 9. делающий значимое (?????? [пойэйн]), например, режет, жжет, 10. страдающий значимое (??????? [пасхэйн]), например, режет, жжет. Десять общих понятий детерминации, которым соответствуют эти классы, Аристотель называет категориями (????? ????? [усиа посон]). Определения, относящиеся к первой категории, существенные или сущностные, – это те, которые содержатся в форе или субстанции вещи, о которой они говорится как об общем, то есть обозначают ??????? ?????, то есть сущность вида, рода или клада, к которому принадлежит данная вещь, или также составную часть такой сущности. Детерминанты, соответствующие другим категориям, – это те, которые не относятся к вещи, о которой они говорят, уже в силу того, что она принадлежит к определенному виду, то есть которые только случайны по отношению к вещам этого вида как таковым. Аристотель объединяет их под рубрикой случайностей (??????????? [сюмбэбэхота]), которую, однако, он иногда использует и для обозначения таких детерминант, содержащихся в форе вещи, то есть существенных детерминант, которые можно узнать только путем умозаключения из определения вида этой вещи, как, например, то, что каждый треугольник есть сумма углов двух прямых углов.
В метафизике Аристотеля вышеупомянутые определения вещей как объектов мысли связаны с предположением, что материи следует противопоставить второе первоначало, второй принцип: множественность фор, соединенных в целое. Аристотель не имеет в виду, что во всех вещах, в которых, соотнося их с понятием, мы должны различать субстанцию и форму, форма есть существо, обладающее той же самостоятельностью и оригинальностью, что и субстанция, или, что то же самое, что форма, которую мы приписываем вещи, более или менее определенно выделяя ее из окружающей среды и объединяя несколько ее детерминантов в содержание понятия как пример определенного рода, есть во всех случаях нечто существующее независимо от нашего мышления, например, что в каждой хромой лошади форма определенного рода существует независимо от нашего мышления. Например, что в каждой хромой лошади есть то, что мы мыслим в понятии хромой лошади, в каждом столе – природа стола, в каждом комке земли – природа комка земли как реального существа, но в отношении некоторых вещей он все же убежден, что содержание понятия вида, заостренное до индивидуальной особенности, обитает в них как реальная сила, господствующая над субстанцией и образующая из нее данную конкретную вещь. Это те вещи, которые, как он говорит, возникают по природе, то есть либо путем воспроизведения вещей своего рода, либо путем первобытного порождения, либо, что совпадает с этим, которые имеют в себе основание покоя и движения, люди, животные и растения. В тех же вещах, которые производятся искусством, например, в домах и утвари, форы имеют, по его словам, определенную независимость по отношению к субстанции, а именно, в той мере, в какой они перешли от духа создателя, в котором они находились прежде, к субстанции, но здесь они не имеют реального бытия в вещах. И уж тем более нельзя сказать о форе, сущности или субстанции вещей, созданных случайно.
Настоящие форы (так кратко обозначаются те, которые составляют реальные составные части вещей, форами которых они являются), по Аристотелю, сами по себе, т. е. в той мере, в какой они мыслимы безотносительно к субстанции, ????????, сущности, общие для вещей, принадлежащих к одному виду; ?????? ??????, индивидуальными сущностями, они становятся только благодаря своей связи с субстанцией. Таким образом, многие вещи, принадлежащие к одному виду, имеют различные формы, но таким образом, что это все же одна и та же форма, которая завладела многими кусками материи, каждый из которых образует субстрат одной из этих многих вещей, чтобы выразить себя в них. Хотя, например, каждая лошадь имеет свою особую форму, однако все лошади имеют одну и ту же форму, а именно общую лошадиную природу; общая лошадиная природа, овладевая субстанцией во многих местах, чтобы превратить ее в лошадь, породила из себя множество индивидуальных сущностей, не переставая быть единым, неделимым, реальным существом.
С этим определением природы реальных форм связано еще и то, что, даже если они добавляются к субстанции как нечто первоначальное, они никогда не существуют отдельно от нее, но должны быть связаны с ней, чтобы существовать. Только индивидуальное существо, ???? ?? [тодэ ти], имеет действительно полное существование; существование общего есть существование в индивиде или множестве индивидов. Поэтому форма, общая для вещей одного рода, существует только в индивидуальных формах этих вещей. Последние, однако, возникают только в результате соединения общей формы с субстанцией. Следовательно, ни общая, ни индивидуальная формы не могут обойтись без соединения с субстанцией.
В этих двух определениях Аристотель видит существенную отличительную черту своего и платоновского учения об идеях, поскольку считает, что Платон, как и он сам, понимал под идеями сущности, составляющие содержание видовых и родовых понятий природных вещей, и предполагал, что они обладают бытием того же рода, что и вещи, Короче говоря, Платон, как и он, гипостазировал природные понятия видов и родов, но в отличие от него отделил содержание гипостазированных понятий от индивидов, сущностями которых они должны были быть, и от материи, перенеся их в потусторонний мир.
Легко заметить, что предположение о реальных форах основано на путанице. Поскольку Аристотель считал форы материальной вещи, то есть содержание его понятия вида, состоящее из чувственно воспринимаемых детерминант или, по крайней мере, имеющее их в качестве необходимых составляющих, сущностью самой по себе, связывающей себя с субстанцией, то вместо нее было подставлено нечто другое, а именно сила, не сопоставимая ни с чем чувственно воспринимаемым, которая производит в субстанции данные форы, представляющиеся органам чувств. То, что, например, согласно его представлению о вещах, производимых природой, соединяется с веществом желудя, чтобы сформировать из него дуб и те части вещества, которые окружающая среда предлагает для питания, – это не то, что мы представляем себе в понятии, которое мы получили из восприятия многих дубов путем абстракции, а неуловимый и вообще немыслимый принцип, формирующий дубы, который действует во всех дубах одновременно и таким образом, что он полностью обитает в каждом из них и все же отличается в каждом из них.
Нужно было заметить эту трансформацию понятия реальной формы, чтобы найти дальнейшее ее определение, о котором Аристотель не говорит прямо, что оно относится ко всем реальным формам, но о котором следует заключить из его объяснений, достаточно понятных. Это следует из его взгляда на душу. Душа, говорит он в «Метафизике», есть сущность, соответствующая понятию и форме одушевленного тела (????? ??? ???????, ? ???? ??? ????? ??? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ?????? ?????? [усиа ту эмпсюху, э хата тон лёгон хай то то ти эн эйнай то тойфдэ сомати]), точнее, ?????? ????? [проотэ усиа], а тело – субстанция, но человек или животное – то, что состоит из обоих. Душа, как сказано в трактате о душе, относится к одушевленному существу так же, как то, что заложено в понятии топора (а именно, что это орудие, служащее для раскалывания и т. д.), относится к топору. Теперь, согласно Аристотелю, одушевлены не только люди и животные, но и растения, то есть все органические существа, а вместе с ними и те, которые возникают по природе. Поскольку, кроме того, форма предполагается как сила, противоположная субстанции, только в тех существах, которые возникают по природе, из этого следует, что вообще реальная форма вещи есть душа этой вещи, или, более определенно, что реальная форма, в индивидуальной интенсификации, которую она получила как форма отдельной вещи, есть, как ?????? ????? отдельной вещи, ее душа. Фора или сущность, общая для вещей вида (их ??????? ????? [дэyтэра усиа]), становясь индивидуальной формой (????? ????? [протэ усиа]) через соединение с субстанцией, становится душой, например, общая человеческая природа (формирующая сила, присутствующая в своей полноте в каждом человеке и делающая его человеком), становясь особенной природой отдельного человека, становится его душой. Аристотель отличает душу, как можно здесь добавить, от беренегена высшего мышления, разума. По его словам, души растений обладают только одной способностью питаться (????????? [тхрэптихон]), то есть способностью формировать тело и порождать из него новые существа того же вида. Кроме того, души животных и человека обладают способностью ощущать и воспринимать (?????????? [айстхэтихон]), способностью желать и чувствовать удовольствие и неудовольствие (????????? [орэхтихон]), и вообще способностью к локомоции (????????? ???? ????? [хинэтихон хата топон]). Мыслящий разум (???????????, ???? [дианоэтихон, нус]), которым человек обладает раньше животных и который есть нечто божественное, привносится в души извне (??????? [тхюратхэн]). От собственно разума, который есть чистая мыслительная деятельность (???? ????????? [нус пойэтихос]), Аристотель отличает страдательный разум (???? ????????? [нус патхэтихос]), под которым он понимает, по-видимому, нечто возникающее из соединения первого с душой. Если душа человека возникает и исчезает вместе с телом, индивидуальной формой которого она является (из нее нетленен только принцип, образующий человека, содержащийся в каждой человеческой душе, как общее в индивидуальном), а вместе с ним и страдательная причина, то деятельная причина вечна. В трудах Аристотеля нет никаких подробностей о происхождении рационального ума, о том, какой способ существования он имеет до соединения с душой и после ее растворения, или о природе этого соединения, или о том, как познающий себя субъект сознания, эго, относится к душе, с одной стороны, и к разуму – с другой.
К вышеуказанным положениям о реальных формах добавляется еще и то, что каждая вещь, обладающая такой формой, а вместе с ней и индивидуальностью своей формы, возникает и исчезает, а ее субстанция и та часть ее формы, которую она имеет общей с вещами своего рода, вечны. Как неоднократно поясняет Аристотель, это относится и к вещам, созданным искусством и не имеющим реальной формы, – то, что в них возникает и исчезает, не есть ни их субстанция, ни их форма, но их соединение. Например, говорит он, тот, кто делает из руды шар, не делает ни руды, ни шарообразной формы, но придает эту форму данному веществу, и точно так же нематериальный дом, который становится материальным домом благодаря деятельности строителя, имеющего его в своем духе, сам по себе не возникает и не исчезает. Поскольку же вечная форма, общая для вещей вида, не имеет бытия отдельно от индивидуальных форм, которые она порождает, соединяясь с субстанцией, и, следовательно, не может существовать отдельно от субстанции, то утверждение о ее вечности равносильно утверждению о том, что всегда были и будут вещи данного вида. Так, согласно Аристотелю, все существующие виды растений и животных, а также человеческий род существовали от вечности и будут существовать вечно; ни один вид никогда не погибал и ни один не может быть добавлен к существующим. Появление новых особей следует рассматривать как захват новой части материи формой, уже воплощенной в особях того же вида. В этом процессе и состоит сущность деторождения. Однако Аристотель допускает возникновение низших организмов путем первобытного порождения, не объясняя, в какой мере уже существующее воплощение видовой формы является условием возможности появления новых особей.
Рассматривая вещь, состоящую из вещества и формы, как возникшую вещь, Аристотель добавляет к понятиям вещества и формы еще два основных понятия: назначение или цель, к которой вещь становится, или конечная причина (?? ?? ?????, ?? ????? [то у энэха, то тэлёс], causa finalis), и движущая причина, благодаря которой вещь возникает (???? ? ???? ??? ???????? [отхэн э архэ тэс хинэсэос], causa efficiens). Субстанцию, форму, движущую причину и цель он объединяет под названием конечных причин или оснований (?????, ????? [архай, айтиа]). Однако движущаяся причина и цель не являются чем-то новым, что было бы добавлено к субстанции и форме. Напротив, через эти два понятия только субстанция и форма осмысляются с новой точки зрения, которую дает определение того, что всякая вещь, представляющая собой реальное единство, возникла. Конец, в который превращается вещь, прежде всего, тождественен форме; точнее, это форма в той мере, в какой она достигла полного существования в субстанции, в той мере, в какой, следовательно, субстанция полностью приняла соответствующую ей внешнюю конфигурацию; или, что, очевидно, то же самое, конец – это сама вещь, полностью сформированная в образец своего вида. Но форма – это еще и движущая причина, т.е. сила, которая, овладев субстанцией, придает ей соответствующую форму и расположение и тем самым способствует полному существованию, реализует себя. Например, видовая сущность растения, в которой состоит его форма, насколько она рассматривается сама по себе, уже содержится в семени как сила, которая вызывает увеличение этой субстанции через питание и, подобно прирожденному художнику, создает из нее и принятого ею питания законченное растение и тем самым завершает себя как индивидуальная сущность этого растения.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: