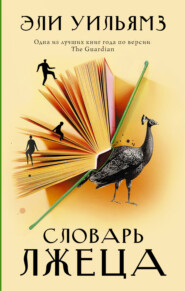скачать книгу бесплатно
– А вы… простите, вы сказали, Бог шепелявил? – спросил он.
Явно предвидя вопрос, доктор подскочил к своему столу.
– Отошлю вас к Ковердейлу! Именно это место я отметил у Исайи, кажется – в Главе двадцать восемь…
Трепсвернон попробовал раскрошить по краям новонайденный ломоть вчерашнего именинного торта и втереть его в ткань под подушкою его сиденья. Певчая птица это заметила и пр?инялась колотиться о клетку.
– Да, а в другом месте – Моисей, вы не знали? – продолжал доктор. – Да, и Моисей! Все это отыскивается в Исходе. – Д-р Рошфорт-Смит прикрыл глаза. – «Но Моисей сказал Иегове: о! Господи! я человек неречистый, и таков был и вчера и третьяго дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим, я тяжело говорю и косноязычен»[1 - Исход, 4:10, пер. Макария Глухарева (1860–1867). – Здесь и далее примеч. перев.].
– Я и понятия не имел, что оказался в столь избранном обществе, – произнес Трепсвернон, убедившись, что доктор договорил.
Ковердейл захлопнулся, и лицо доктора сделалось горестным.
– Посредством ши?па зло проникло в сей мир… – Трепсвернон прекратил крошить торт и окаменел в кресле. – …и, быть может, благотворнее будет считать ваш недуг ничем не большим, нежели напоминаньем об этом.
БЛЯМ, громыхнула птичья клетка.
Доктор резко свел ладони.
– Однако нет здесь ничего такого, чего нельзя было б исправить. Итак, будьте любезны: «“Сдайся!” – заорал Эзра…»
* * *
Трепсвернону удалось поддержать кое-какой диалог, кое-как что-то повторить, и его не стошнило на собственную обувь: этим следует гордиться, не забыл подумать он, когда кровь отхлынула у него от головы, а перед глазами все поплыло.
– И на сем конец нашей предпоследней консультации, – произнес доктор. Обмахнул руками колени.
– Больше никаких языков и галек? Никакого Зенона? – Трепсвернон провел пяткой ладони себе по волосам.
– Я посмотрю, сколько еще Зенонов сможет поучаствовать в нашей последней встрече на будущей неделе.
Следующий посетитель д-ра Рошфорта-Смита уже дожидался в коридоре – юная девица лет семи, чья мать щебетала здравствуйтями! и добрыми утрами! От попытки потрепать себя по голове девочка увернулась. Трепсвернон узнал ее по предшествовавшим неделям, когда, любопытствуя, поинтересовался о причине, почему ребенок посещает сию практику. Девочка, очевидно, страдала от чего-то вроде идиоглоссии и совершенно отказывалась разговаривать в чьем бы то ни было присутствии. Читать и писать она умела исключительно, но совершенно онемевала в обществе. Д-р Рошфорт-Смит пояснил, что родители подслушали, как наедине с собой она разговаривает на языке, который сама же измыслила. Будучи спрошен, достиг ли он своим попеченьем каких-либо результатов, доктор прямого ответа не дал, но сообщил, что посредством бумаги, ручки и оранжевых карандашей они установили, что девочка беседует с воображаемым тигром. Тигр этот сопровождал девочку повсюду и прозывался м-р Бурч.
Тем утром, разминувшись на пороге приемной д-ра Рошфорта-Смита, оба пациенса встретились взглядами. Когда девочку с матерью вводили в кабинет доктора, м-р Бурч предположительно оставался в коридоре. Трепсвернон представил себе, как м-р Бурч с незримым, алчным рвением рассматривает певчую птичку в кабинете. Трепсвернон обратил к девочке краткую заговорщическую улыбку.
Дитя обозрело его с озадаченной учтивостью. Затем девочкино лицо потемнело, и она испустила тихий, но отчетливый рык.
Мост мост мост
Питер Трепсвернон забрал свою шляпу и довольно поспешно сбежал по лестнице на улицу.
В – вуаль (сущ.)
Моим заданием на день было проверять за Дейвидом Суонзби оцифрованный его усилиями текст «Нового энциклопедического словаря Суонзби». Он мечтал увековечить имя семьи, а также масштаб и видение его предков-редакторов тем, чтобы обновить неоконченный словарь и выложить его в сеть бесплатно. Об этом говорил он как о проекте благородном, предназначенном для совершенствования человечества, и также видел в этом способ упрочить наследие Суонзби как чего-то завершенного и выдающегося, а не благородного унылого ничтожества.
Наедине с собой я заглянула в статью гордыня (сущ.).
Чтобы мечта эта осуществилась, почти все скудные финансы Суонзби вкачивались в оцифровку словаря и усовершенствование его определений. Первое, последнее и единственное физическое издание неполного «Суонзби» вышло в 1930-е на основе громадного архива брошенных заметок и гранок, сделанных в предшествовавшие десятилетия, поэтому задача сейчас стояла немалая. В наших разговорах Дейвид очень ясно давал понять, что новых слов к этому архиву он добавлять не станет, ибо это, судя по всему, не отвечает самому духу Суонзби: скорее он желал бы удостовериться, что уже определенные слова обновлены для нынешней публики.
Узнав об этом, я не могла не отметить, что онлайновые словари уже существуют, онлайновые энциклопедии каждую секунду обновляются как специалистами, так и любителями. Показала это ему у меня в телефоне. Но они – не конкуренты. У Дейвида сделался скучающий вид, и он, похоже, несколько обиделся на то, что я не разделяю его представлений.
– Но чтобы имя Суонзби добавилось к списку, – сказал он, когда я перечислила названия различных сайтов. – Чтобы наконец-то упокоить «Энциклопедический словарь Суонзби»!
Такой логики я не понимала, но непонимание логики позволяло оплачивать счета. Всякий раз минуя портрет проф. Герольфа Суонзби в нижнем этаже, я у себя в телефоне искала статью, не наследуется ли чудачество генетически.
Каждый день Дейвид Суонзби скрывался у себя в кабинете и по многу часов тратил на перепечатку каждой отдельной статьи из своего семейного словаря, по мере своих сил и способностей совершенствуя каждое определение. Если начистоту, я думаю, одна из главных причин задержки с оцифровкой словаря – и того, что моя «стажировка» затянулась более чем на три года, – состояла в открытии Дейвидом онлайновых шахмат. Мало того: он обнаружил сайт, на котором можно «играть» так, словно участвуешь в знаменитых, исторических шахматных турнирах, – какая-то программа извлекала архивные данные и предоставляла оригинальные ходы, сделанные в конкретных партиях тем или иным игроком, а значит, можно померяться мастерством с призраком того игрока и посмотреть, удастся ли против него выстоять. Больше восьми месяцев Дейвид провел за партией, впервые сыгранной в 1926 году. В онлайновой игре он выступал как Херолд Джеймз Рутвен Мёрри (1868–1955), выдающийся историк шахмат первой половины XX века. Вы, вероятно, знаете его как шахматного историка. А также – как одного из одиннадцати детей первого редактора «Оксфордского английского словаря». Проходя всякий раз мимо кабинета Дейвида и слыша, как он колотит руками по своему лэптопу и ругается с экраном, я невольно думала, что так он пытается угомонить еще и старую вражду между «Суонзби» и «Оксфордским английским». Не знаю, выиграл ли он вообще. Уверена, что о таком он мне сообщил бы.
Однажды вечером у нас дома я попыталась объяснить оцифровку Пип. Почти все заметки к словарю сделаны в последние годы XIX века, и те слова, какие появляются или не появляются на его страницах, отражают свое время. Я обозрела кухню в поисках примера. Вот, скажем, фильтр-пакет. В 1899 году такого слова никто еще не употреблял, поэтому в корпусе словаря оно не возникнет.
– А глагол от него? – спросила Пип. Грубо. Я скроила гримасу.
В 1899 году фильтр-пакету лишь предстояло всплыть на черновых страницах или в набросках столбцов. Чайный пакетик еще не изобрели. Если верить прочим словарям, опубликованным в то время, в 1899 году никто еще не мог крутить солнце, потому что такое сочетание слов еще не полностью прижилось, да и ездить на эскалаторе. В 1899-м еще не один год до того, как бездарь, летчик и общага появятся на страницах английского словаря. Современное значение слов бодун и перепой как чего-то имеющего отношение к алкоголю, возникли не раньше 1930-х годов, поэтому на изничтоженных войной страницах «Суонзби» они так и не появляются. Язык, разумеется, развивался дальше. Бог знает, что произошло на конторской вечеринке, чтобы потребовалось такое обновление.
Чем больше думала я об этом на работе, тем больше мне нравилось близкое-но-недостижимое звучание 1900-го и его неологизмов – тех слов, что проникали в те годы в уста, уши и чернильницы. Фильтр-пакет, летчик, фин-де-сьекль. XX век, судя по всему, получился гораздо веселей, чем XIX-й с его ярыжками-лексикографами.
В 1899 году слонов еще убивали вовсю и помногу – чтобы удовлетворять спрос на высококачественные бильярдные шары: из одного бивня их вытачивали не больше четырех. Эти факты нашлись в статье Кость слоновая, торговля оной в Томе V, когда я из чистой скуки немного забежала вперед в свой первый день чтения словаря. А потом зазвонил телефон, я умостила трубку между плечом и подбородком с мыслью об убиенных слонах – и ответила.
Обновлять смыслы статей в энциклопедии или словаре – или в энциклопедическом словаре – разумеется, понятие не новое. Почти все время я об этом читала – между приступами паники по телефону и поеданием обедов в чулане. Требуется обновлять биографии, переименовываются или совсем исчезают страны. В этом отношении «Суонзби» был в хорошем обществе – и в долгой череде справочных трудов, пытавшихся не отставать от времени: «Пропозиции» Эйбрахама Риса были опубликованы в попытке отредактировать «Циклопедию» Чэмберза (1728), и Рис в своих проповедях, предварявших публикацию, подчеркивал, что в его намерения входит «исключить устаревшую науку, сократить избыточные материи». Наука развивается, новообразованные слова и успехи в понимании постоянно делают предыдущие дюймы статей в столбцах избыточными, если не бессмысленными. Например, в экземпляры «Национальной энциклопедии» XIX века включены статьи на слово малярия, в которых заболевание описывается как передающееся неким странным ноуменальным эфиром, таящимся над болотами, mala aria, дурным воздухом: факты, в общем, истинны и этимологически состоятельны, но в описании борьбы с малярией не учитывают роли москитов. Дейвид всегда споро отмечал, что «ОАС» в своих самых ранних изданиях не учел аппендицит (сущ.) – это упущение в пух и прах раскритиковали в 1902 году, когда коронацию Эдварда VII задержал именно этот недуг и само слово стало широко употребляться средствами массовой информации.
Обыкновенный словарь зачастую определяется специфической интеллектуальной средой лексикографов и, потенциально, их личными предубеждениями. Дейвид Суонзби, несомненно, утешал себя мыслью, что совершенный энциклопедический словарь, свободный от ошибок и полностью целесообразный во всех своих частностях, невозможен, поскольку любому составителю или составительскому органу недостает полного объективного охвата. Ни один человек – не остров, ни один словарь – не закрепленная на небосводе звезда или трали-вали как-то там. Конечно, решение убрать какие-то слова для того, чтобы в словаре могли занять свои места слова «позначимее», может оказаться противоречивым. Недавние редакторские предложения заменить, к примеру, понятия сережка древесная и каштан конский на копипаста и широкополосный в издании «Оксфордского словаря для юношества» удостоились общенационального освещения в прессе и множества возмущенных откликов. В ответ на свои онлайновые обновления «Суонзби» получил гораздо меньший отклик – главным образом потому, что едва ли кто-то их заметил.
Едва ли кто-то.
Телефон зазвонил вновь.
Никакими новыми словами пополнять «Словарь» не предполагалось, хотя многие из уже присутствовавших следовало осовременить. Например, требовалось подправить глагол освежить после его версии-1899, где «распечатать письмо» означало нечто совсем иное. Сходным же манером, слова метка, вирусный и друг с их возникновения довольно сильно изменились. Еще одним таким словом был брак.
Определение брака 1899 года начиналось так (выделено мной [Сколько раз вам выпадало это действительно сказать?]):
брак (сущ.), относится как к деянию и церемонии, посредством коей учреждаются отношения мужа и жены, так и к блаженному физическому, юридическому и нравственному союзу между мужчиной и женщиной в полном их единстве, готовых к основанию семьи.
Для нового цифрового издания Дейвид усовершенствовал это так:
брак (сущ.), относится как к действию и церемонии, посредством которой могут быть учреждены отношения одной личности с другой, так и к физическому и юридическому союзу между этими личностями.
По какой бы то ни было причине именно это изменение вызвало кое-какое бурление в прессе. Из-за него же начались и телефонные звонки.
Помимо ответов на звонки в мои служебные обязанности входило проверять орфографию и пунктуацию в усовершенствованных Дейвидом словарных статьях. Работа это была кропотлива, поскольку Дейвид терпеть не мог современную технику, если она не была онлайновыми шахматами. Кроме того, он скупился на покупку конторского оборудования. Пользоваться компьютером в «Суонзби-Хаусе» означало ненависть к созерцанию песочных часов. На загрузочной заставке моего компьютера такие часы были безмолвными, одноцветными и меньше ногтя: шесть черных пикселов в верхней луковице и десять в нижней. Интересно, сколько месяцев жизни люди тратят, вперяясь в этот рисуночек с тонкой талией? Поневоле я задумалась о всяких разводах на той клавиатуре, что мне досталась в наследство. Не вполне серые, не совсем черные, не очень бурые. Что это – кожа? Копоть? На память пришел возвратный глагол отшелушиваться. Понятие кожное сало. Летопись предыдущих рук, покоившихся на этом же самом куске пластмассы. Некоторые, возможно, уже умерли, и вот эта потертость может оказаться единственным их следом, оставшимся на земле. От клавиатуры меня стало подташнивать.
Но вот эти загрузочные песочные часы. Еще парочка пикселов висела в центре рисунка, подразумевая, что песок сыплется, – при наблюдении за этой заставкой песочные часы вращались вокруг своей оси, словно их переворачивали и пере-переворачивали пальцы незримого модератора. Это же все знают. К чему утруждаться объяснять самой себе песочные часы? Тесное соседство с энциклопедическими словарями превратило меня в зануду. Словоблудие, схоластика, скукотищащаща. Уверена, что не одна я в ужасе от песочных часов. Работает вот так человек со стрелочками и указательными пальчиками компьютерного курсора, и это настоящее потрясение, когда он вдруг преображается в инструмент, нацеленный на какое-то другое деяние – деяние, не только человеку не подвластное, но еще и более приоритетное. С операционной системой, которая слишком занята, чтобы принимать вводимое с клавиатуры или мыши, вы застряли, покуда компьютер ваш не договорится сам с собой, а до тех пор нежеланное общество вам будут составлять вращающиеся песочные часы.
Телефон у меня на столе еще раз резко прозвонил.
Быть может, песочные часы вызывают столько беспокойства потому, что не предлагают ни единого намека на облегчение, какое рано или поздно наступит. Да, подтверждают они, ты загниваешь, не слезая со стула! В этом нет никакого смысла! Все это ни к чему! Зачем ты разучивала все эти гаммы, зачем учила наизусть слова песен, почему вообще тебе не было безразлично, правильно ты произносишь произношение или нет? Нескончаемый ручеек песка из одного обращенного конуса в другой никак не указывал на то, что отсчитывается какое-то конкретное количество времени. То есть вот правда – песочные часы были идеальным символом фрустрированного струения, а не продвижения вперед: образ неизменной, неизбежной «настоящести», а не посул какого бы то ни было будущего. Циферблат без стрелок, быть может, оказывал бы столь же макабрическое воздействие. Струение и макабрический. Что было у меня в тех крутых яйцах? Я вообще кем себя возомнила?..
Телефон прозвонил еще раз.
Иконография песочных часов намекала на некую поступательность: все природное движется к смерти. Для бодрости конторского духа так не годится. От ожидания того, как песочные часы на компьютерном экране опорожнятся и наполнятся, а потом опять опорожнятся, возникало ощущение не просто тщеты, но и смертности. Я понимала, почему они излюбленный реквизит всякий раз, когда б в западной культуре ни возникала фигура «Отца-Времени» или «Смерти», и если б Белый Кролик в «Алисе в Стране чудес» у Диснея по описаниям кричал: «Ах, боже мой, боже мой! Я опаздываю»[2 - Пер. Н. М. Демуровой.], – стискивая в лапках песочные часы, а не карманные, выглядел бы он гораздо более морбидным (это я нагуглила со своего телефона) сигилом зайцеобразных. Соперничая с черепами, догоревшими свечами и гнилыми плодами, песочные часы – также один из неувядающих тропов в ванитасах – произведениях искусства, иллюстрирующих собой физическую бренность мира. Смятые тюльпаны, высохший пергамент. Упирая на этот сатурнический восторг коронных номеров memento mori, пиратские корабли XVII и XVIII веков на флагах своих рядом с более знаменитым символом – черепом с костями – несли песочные часы. Иконография песочных часов также превалирует на множестве надгробий, где зачастую сопровождается такими девизами, как «Tempus fugi» («Время летит») или «Ruit hora» («Час истекает»).
Рабочий компьютер был стар и медлен: неделей раньше мне пришлось дожидаться двух оборотов песочных часов, проверяя в словаре, лежавшем под рукой, понятия обращенный конус и сатурнический.
Телефон у меня на столе издал четвертый звонок – обычно дольше я выдержать не могла.
Тем не менее образы песочных часов не всегда совпадали с ощущением безнадежности. Вообще-то, если вдуматься, иногда они существуют как символ определенной необходимости не упускать свой час: наверное, по этой причине песочные часы и фигурируют на многих геральдических гербах. Я проверила. Разумеется. Среди своих определений посмачнее сетевой UrbanDictionary.com дает на глагол песчасить вот что: «когда компьютер “думает” и временно не реагирует. Компьютер, не зависнув окончательно, песчасит и тем производит потенциально ложное впечатление производимой работы». Множество семейств объединяются в безысходном, вовсе не праздничном ужасе за игрой в «Шарады» или «Угадайку», когда сквозь горлышки поставляемых в комплекте часов протекают последние песчинки. Хронометр такого размера предназначен обычно для варки яиц. Хотя в обществе любителей завтракать яйцами всмятку такое наименование, возможно, и практично, я, честно говоря, считаю, что в яйцетаймере недостает поэзии другого возможного синонима – клепсаммии. Лексикограф Ноа Уэбстер поместил это слово в свой словарь 1828 года: его этимологические корни – греческие слова, обозначающие песок и воровство, а мысль здесь такова, что с каждой песчинкой, проваливающей сквозь талию часов, отнимается еще один миг. В клепсаммии определенно слышится приятное свистящее пощелкивание, и само слово напоминает собой гладкое струение содержимого из одной луковицы в другую, равно как и переворот всего корпуса часов. В отличие от «Уэбстера» «Новый энциклопедический словарь Суонзби» в своем опубликованном неполном издании 1930 года словом клепсаммия пренебрег. Однако хроно-метр он предоставляет в виде сложного слова, написанного через дефис. Со своею симметричностью и маленьким перешейком дефиса между двумя частями хроно-метр на странице выглядят как сам предмет – лежат или уравновешены в полуповороте.
Телефон все еще звонил, буря мне череп.
Конечно, песочные часы – не единственный символ, сопровождающий незадачливых компьютерных пользователей (меня) и их периоды ожидания. В программных продуктах «Яблока» вращается сфера, ласково именуемая «Пляжным Мячом Смерти» или «Радугой Рока». Моя старенькая «ЕжеВика» время от времени предъявляла мне рисунок квадратного циферблата, на котором безудержно вращались стрелки. Ежевичное время, яблочное, яичное. Дома у меня лэптоп был новее компьютера в конторе и работал на гораздо более современной операционной системе. Лишенное песочных часов, мое ожидание зато сопровождалось их заменой, их наследником: тлеющим кольцом, крохотным зеленым уроборосом, вечно пожирающим собственный хвост. То же самое раздражение никуда не делось – словно в ловушке подвешенности, а вовсе никуда не движешься, только теперь уж без эзотерического устройства для учета времени. Этот тлеющий кружок отчего-то казался более клиническим и бесчеловечным, а его культурные подтексты имели меньше отношения к пиратам и Отцу Времени, а больше к ЭАЛ9000 из «Космической одиссеи 2001 года» или передней сканирующей полосе «НИДТ» из «Рыцаря дорог». Вооружившись иконографией из ванитас, другие операционные системы будущего, возможно примут на вооружение такие символы тщеты, как черепа или снулые цветики. Возможно, удастся заставить маленького пиксельного Сизифа карабкаться у меня по линейке прокрутки. В том виде, что у них был и есть, песочные часы ушли в прошлое, и мне их не хватало. Темпус продолжит фугить, это как пить дать, но у нас хотя бы когда-то имелась возможность наблюдать, как изысканно оно истекает.
Само понятие песочные часы утратило для меня какой бы то ни было смысл, если не считать неистовой ярости.
Телефон издал еще одну капризную трель. Я вздохнула и сняла трубку, окаменело улыбаясь пятну на стене напротив моего стола.
– Алло, издательство «Суонзби», – проговорила я, – чем я могу вам помочь?
– Гори в аду, Мэллори, – раздался синтетически искаженный голос на другом конце провода.
– Да, – ответила я и показала пятну большой палец. – Да, вы дозвонились до нужного отдела. Чем я могу вам помочь?
В трубке засопели. Оцифрованное дыхание воланом долетело до меня по телефонной линии.
– Дважды за один день, – сказала я. Сама не знаю, зачем.
– Здание заминировано, – произнес голос. Затем трубку повесили, а песочные часы у меня на экране кувырнулись в последний раз.
Г – глаголемый (прич.)
Трепсвернон располагал закономерным желаньем отложить неизбежность начала своего рабочего дня на как можно дольше. Обычно у входа в Суонзби-Хаус толпилась стайка лексикографов в сходном состоянии ума, канитреплясь о погоде или состоянии газонов близлежащего Сент-Джеймзского парка, подсчитывая свои сигареты и теребя пуговки перчаток. В этой текучей компании обычно разворачивалась некая игра в этикет: каждый участник отчаянно пытался продлить свой срок за пределами конторы. Правила игры никогда не оговаривались, а этот спорт уж точно никогда не признавался в явном виде как способ бездельничать в рабочее время. Полагалось отгибать на лбу поля шляпы и оглашать свое восхищение кирпичной кладкой Суонзби-Хауса, похожей на бекон с прослойками жира. Чем больше терминов архитектуры могли вы при этом употребить, дабы выразить свое восхищение, тем больше очков зарабатывали. Игра заканчивалась, когда сказать вам больше было нечего или молчание становилось слишком уж неловким. В тот миг и начинался рабочий день.
А у Трепсвернона рабочий день начинался позднее обычного часа, и со-лодырей, к каким можно прибиться на ступеньках парадного входа, уже не оставалось. Он вздернул подбородок над лацканом своего сюртука, чтобы оглядеть здание и придавить хаос головной боли списком уместных терминов. Бекон с прослойками жира – это, вероятно, не устроит знатоков в данной области, поэтому начинать с такого описания кладки паршиво. Стиль дома – королевы Анны? Не так ли сообщили ему одним таким мешкотным, бездельным утром – или же он ослышался, и правильный архитектурный термин, описывающий форму, проект, материал Суонзби-Хауса, – ролевиан? Тогда он просто покивал, букв. приняв сказанное. Язык вы принимаете, вы скорее склонны ему доверять, а проверять его вовсе не обязательно. Ролевиан бы, разумеется, не стал самым невероятным архитектурным термином, что ему попадались, – в работе над «Новым энциклопедическим словарем» недавно пришлось исследовать систиль, тромп и щипец, и каждое такое слово болталось у него во рту непривычными текстурами и шлепками. Всякое слово кажется чепухой, пока не понадобится или вы не узнаете о нем больше. Взгляд Трепсвернона переполз с ролевиановых ступеней и беконных стен к окнам первого этажа, ключ-камням второго, эркерам в этажах повыше, а оттуда – к сандрикам и трубам, к дурацкому пустому небу января, к мазку скворца или голубя на кованой флюгарке, и т. д., и т. п.
Пора помогать бессмысленной переписи языка. Долее Трепсвернон откладывать не мог. Поправил галстук и навалился плечом на широкую деревянную дверь.
Укоренившиеся повадки проявляются бессознательно. Некоторые вполне машинальны, есть у многих: например, позыв отдернуть руку от струйки пара из чайника за завтраком или испарина на лбу, чтобы тело оставалось прохладным. Порой такие отклики сознательно вырабатываются, а вовсе не непроизвольны. Начинается все с отдельных поступков, которые постепенно ритуализируются привычкой, пока не встраиваются в культуру повседневных действий. К примеру, Трепсвернон не мог представить себе, как переступает через каменный порог Суонзби-Хауса, чтобы на язык ему, подобно решетке крепостных ворот, не опустилась бы его фальшивая шепелявость. Теперь ему даже не приходилось об этом задумываться.
В «Новом энциклопедическом словаре Суонзби» он прослужил довольно долго – у него успела развиться некая мышечная память. Тело свое он направил от парадной двери к вешалке, а оттуда – наверх, к своей конторке в главной Письмоводительской на первом этаже, точно зная ту инерцию, с какой размахнуться рукою, дабы действеннее всего зацепиться за перила и отпустить их. По лестнице шагали ноги не одного лишь Трепсвернона – по каменным ступеням шуршали мост мост мост еще и мягкие лапки: то в Письмоводительскую его сопровождал один из множества котов, кому проф. Герольф Суонзби позволял невозбранно бродить по всему издательству и не подпускать мышей к бумажным документам. Мышелов этот был велик и желт, и Трепсвернон нагнулся и почесал ему за ухом. Пискнув, кот отвернулся. Возможно, у него тоже голова болит. Кошачьи мигрени, вероятно, глаже.
По пути от приемной д-ра Рошфорта-Смита к Суонзби-Хаусу Трепсвернон возвратился к своим досадливым размышленьям о том, почему не измыслили слова для той особой разновидности головной боли, какой он сейчас мучился. Горькая зловредность ее побужденья, топкое бремя вины, сопряженное с ее существованием, – как физическое воздаяние за то время, что спустил в бутылку. Некоторая забывчивость, как будто память вытесняется болью. Чересчур перепиваешь и в итоге – вот эта боль: наверняка же мир по всему рынку ищет наименованья для этого недуга? А если подобного слова и впрямь не существует, нельзя ль назвать эту боль в честь самого Трепсвернона, сделать автоэпонимом? Сражен мерзейшим приступом трепсвернона. Увы, сегодня я не смогу придти на службу, у меня такой трепсвернон, что уму непостижимо. Это бы могло стать его наследием – так его имя прогремело бы в поколениях. Он сделал себе мысленную зарубку проверить, не существует ли уже такого слова где-нибудь в арго или диалекте – быть может, и есть что-либо земное и бодрящее где-нибудь в Дорсете с его грубыми фрикативами и гулкими фальшивыми гласными.
В коридоре, соседствующем с Письмоводительской, Трепсвернона и кота приветствовал скрип подошв по паркету. Декорум в архитектуре есть годность здания, а также некоторых частей и украшений оного для его положения и предназначения. Круглая Письмоводительская со стеллажами по стенам в самой середине Суонзби-Хауса была светлым обширным помещением с высокими окнами и выбеленным лепным куполом. Арена для книжников с акустикой базилики. Даже в тусклый январский день солнечные лучи копьями втыкались в служащих Суонзби, а свет в воздухе свертывал пыль там, где та подымалась от потревоженных старых бумаг. В зале стояло по крайности пятьдесят конторок, все – на равных расстояньях друг от дружки и повернуты ко входу. Мазками вспышек свет отражался от плоских лезвий ножей для разрезанья книг.
Почти все звуки в Письмоводительской связаны были с бумагой: посвист документации, перемещаемой по крышке конторки, чуть более запинчивый шелест страниц, раскладываемых по порядку, или же хуххкунк-ффппп книги, извлекаемой из своего гнезда среди полок, шедших кру?гом по всей просторной зале. У лексикографа имеется позыв эдакое категоризировать. Все это излучало любезное сердцу спокойствие, как в соборе, по сравненью с кошмаром оранжевой иволги в кабинете д-ра Рошфорта-Смита, не говоря уж о резком гомоне и сутолоке Бёрдкейдж-уок и множества других лондонских улиц. Общий шум здесь был глух: шорох страниц, плюханье кошек с конторок на пол да время от времени шмыганье носом либо чих и предоставляли всплески звука, а иначе даже от своих конторок к упорядоченным ячеям картотек, вправленных в стены сводчатой Письмоводительской, лексикографы перемещались совершенно бесшумно. Ячеи эти располагались по алфавиту в исполинских башнях полок с этикетками, расставленных по всему периметру залы.
Ячеи – в зависимости от того, хороший день выпал в «Новом энциклопедическом словаре Суонзби» или скверный, лексикографы неофициально их называли сотами или клоаками. Конторка Трепсвернона располагалась среди слов на букву «С».
Он украдкой скользнул на свое место, в голове звенело по-прежнему. Понятия украдки, казалось, характеризовали даже самые текучие его телодвиженья. Точно так же, как на язык его нисходила шепелявость, едва вступал он в здание, так и плечи его вроде б неестественно вздергивались, когда усаживался он за свою конторку. Трепсвернон интуитивно потянулся к регламентированной ручке «Суонзби». На обычном месте ее не оказалось. Он взглянул на свои руки, словно пытаясь припомнить, к чему вообще их можно применить.
Беседы в Письмоводительской происходили в приглушенных тонах. Все они велись на уровне шепота, ропота или воркованья, ежели не считать редких мгновений особенного вдохновенья – либо же когда осознавалась некая сугубая ошибка и вспыхивала досада. В общем и целом посматривали на такое косо, но, в конце-то концов, даже самый небрежный из лексикографов – всего-навсего человек, и сам Трепсвернон, разумеется, в подобных помехах бывал виновен. Описки и грамматические промашки мозолили ему глаза и вызывали телесный отклик. Напряженье хотя б отчасти обычно стравливалось бодрым цык. Вероятно, все читатели такое переживают: умело сработанный речевой оборот скользит сквозь читающий ум, словно вервие в руках, а когда в этой фразе содержатся ошибки либо есть отвлекающие вниманье двусмысленности, причудливый синтаксис или же какая-либо лексическая либо грамматическая отрыжка, продвижение вервия этого препинается или грубеет. Сравните текстуру мотков вот этих двух примеров:
Съешь ещё этих мягких французских булок, да выпей же чаю.
Сещъё шь гмятих фрабулских цузок, жа выю де чапей.
В последнем случае цык наверняка можно извинить.
Сотрудник, занимавший конторку обок Трепсвернона не цыкал. Когда б ни случилось Билефелду наткнуться на ошибку или иной перебой на странице, из глотки его вырывалось некое всхлипывающее ржанье, словно он давился. Звук был вполне тревожный, и Трепсвернон частенько вздрагивал. Глаза у Билефелда расширялись, ладони подтягивались к аккуратным бакенбардам на щеках, и в воздухе разносилась тихая, высокая, звонкая трель. Звук сей по своему происхожденью был животным, но к тому ж немногим отличался от того, какой производит палец, влачась по винному бокалу. Кошки и лексикографы оборачивались на него. Засим мгновенье миновало, и на физиономию сослуживца возвращалось спокойствие: Билефелд преодолевал ошибку в строке или перечитывал страницу, после чего продолжал как ни в чем ни бывало.
Мир в издательстве «Суонзби» нарушался подобным клекотом более чем регулярно, и никто, помимо Трепсвернона, вроде бы не возражал.
Звонкофыркучий сотрудник Билефелд уже строчил у себя за конторкой слева от Трепсвернона. Очертаниями своими походил он на графин. Справа же от Трепсвернона сидел Апплтон, напоминавший собою кофейник. Все трое обменялись привычными звуками приветствий.
Вся конторка Трепсвернона была усыпана вчерашними каталожными карточками и мятыми клочками бумаги, готовыми к работе, пусть даже сам он готов к ней и не был. Трепсвернон пожалел, что ему не пришло в голову прибраться у себя на столе. Чистая конторка, чистый ум. И это должно тоже как-то называться – когда окружающая среда у тебя обустроена так, чтобы внушать спокойное и разумное прилежание. Потачливо будет измыслить такое слово. Однако – если он на это подвигнется – быть может, окропленное классической латынью, прохладное в гласных и каденциях своих, как мраморная статуя. Да, возможно, следует привлечь нечто от quiescent, quiescens, причастие настоящего времени от quiescere, «упокоиваться, пребывать в тиши». Приводя в порядок стол, он рассуждал о композиции нового слова так, словно бы составлял рецепт. Можно зачерпнуть из запаса quiescens, значит, но прибавить сюда устойчивого воздействия «свободного пространства для маневра» или же «легкости», подразумеваемых чем-нибудь вроде старофранцузского eise, aise, родственного провансальскому ais, итальянскому agio, «освобождать от тягостных или утомительных обязанностей», затем подмешать что? – что-нибудь добытого в альпийской прогулке до освежающих притоков свежести через fersh, «несоленый; чистый; сладкий; рьяный» через староанглийское fersc, «водяное», что само по себе перенесено из протогерманского friskaz. Вот и спрыснуто новое слово ясною свежестью этимологии. Итак: его конторка могла б быть фресквисентной и готовой к работе?
По плечу Трепсвернона похлопала рука, отчего он прямо-таки подскочил на стуле.
– Празднование-то вчера вечером удалось, ха!
Трепсвернон перевел взгляд с руки на лицо, уставившееся на него. Служа у Суонзби, он сознательно старался не разрабатывать таксономию своих сослуживцев. Даже приватное каталогизированье (Билефелд: графин; Апплтон: кофейник) мнилось несправедливым, даже вроде бы обесчеловечивало, однако многие фигуры просто-таки напрашивались на устойчивые типажи. Не желая, стало быть, впадать в стереотипы или признавать штамп.
Трепсвернон понимал, что личность, оживленно моргавшая ему сейчас, была ученым англосаксом. Весь этот конкретный подвид в стойле лексикографов Суонзби, казалось, состоит наполовину из облаков. Белые облака лежали у них на головах, липли к подбородкам – облачны были их глаза, а дыханье отчего-то – теплей и гуще, нежели у кого-либо иного, если склонялись они для того, чтобы что-то произнести, чересчур близко. А наклонялись чересчур близко они всегда, будто их к сему подталкивал незримый галфинд, и, похоже, перемещаясь, вечно занимали много места – неизменно предпочитали двигаться по самой середине коридора или прохода между конторками, а не держаться какой-то одной стороны. Пространство собою заполняли они мягко, не напористо. Ученые англосаксы скорее парили, нежели шагали или неслись.
Выражались они мягко, комковатыми напевными гласными. Этот экземпляр не был исключением.
– Празднование, – повторил Трепсвернон. – Вчера вечером? Да, вполне удалось празднование, очень удалось.
Облако кивнуло, улыбнулось, сдулось прочь.
Наполненье и длительность бесед Трепсвернона под куполом залы обыкновенно подпадали под определенные шаблоны. К примеру, пухобрадый гений, стоявший за «Новым энциклопедическим словарем Суонзби», проф. Герольф Суонзби, проходя до обеда мимо конторки Трепсвернона, всегда произносил: «Доброе утро, Трепсвернон!» Всегда с одной и той же интонацией и порядком слов. Имелся там мальчишка Эдмунд, нанятый разносить пакеты писем и бумаг. Стоило ему оказаться рядом, как его плетеная тачка исторгала ноту из-под своего задышливого колеса, и восклицанье Эдмунда «Вот ваше!» неизменно вызывало «Значит, поглядим, что у нас тут!» в ответ. Тем же самым тоном каждый раз, с одинаковыми высотой, диапазоном и громкостью.
В тех редких случаях, когда к конторке Трепсвернона подходил сотрудник, дабы заметить что-либо о погоде, крикетном счете или же мелком политическом предмете, с вопросами, судя по всему, они к нему не обращались никогда. Никто никогда не заговаривал с ним в расчете получить определенный точный ответ.
Трепсвернону было интересно, как все они клишировали его. Предмет мебели. Пришепетывающая черта декорума.
Вот к нему приближался посыльный Эдмунд со своей тачкой, и, разумеется…
– Вот ваше! – раздался клич, а письма и бумаги шмякнулись на конторку Трепсвернона. От сотрясенья, тот вновь невольно подскочил.
– А! Значит, поглядим… – Слова машинально вспрыгнули ему на уста. Глаза его уперлись в спину удалявшемуся облаку. – Поглядим, что… – продолжил он, и голос его ощутимо дрогнул, все еще слегка окуренный парами виски с вечера накануне.
Мальчишка уже перемещался к соседней конторке и совал руку в корзину за бумагами для Апплтона.
– Вот ваше! – сказал Апплтону мальчишка.
– Покорнейше вас благодарю, – беззвучно произнес Трепсвернон, ни к кому в особенности не обращаясь.
– Покорнейше вас благодарю! – ответил лексикограф, принимая бумаги.
Уложенье было простым: каждый день Трепсвернон получал от публики различные слова и источники для их определений, сортировал их, оценивал и аннотировал. Когда он был готов составить для слова окончательное определение, записывал он его регламентированной ручкой «Суонзби» на зеленовато-голубой каталожной карточке, стопу которых держал перед собой. Карточки эти в конце каждого дня собирал Эдмунд и рассовывал по ячеям, окружавшим Письмоводительскую в алфавитном порядке. Тогда слова и становились готовы ко включенью в гранки «Словаря».