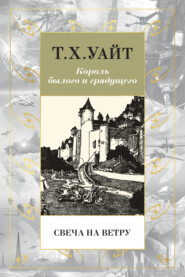скачать книгу бесплатно
Свеча на ветру
Теренс Хэнбери Уайт
Король былого и грядущего #4
Тетралогия «Король былого и грядущего» английского писателя Теренса Хэнбери Уайта (1906—1964) – одна из самых знаменитых и необычных книг жанра «фэнтези», наряду с эпопеей Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец» и трилогией «Горменгаст» Мервина Пика. Воссозданная на основе британских легенд и мифов история «короля былого и грядущего» Артура, его учителя, волшебника Мерлина, рыцарей Круглого Стола представляет собой удивительное сочетание фантастической сказки и реальной истории, юмористики и трагедии.
Теренс Хэнбери Уайт
Свеча на ветру
После недолгого размышления он сказал:
«Я нашел, что на многих моих пациентов благотворно влияли зоологические сады. Господину Понтифику я прописал бы курс крупных млекопитающих. Только лучше бы ему не знать, что он созерцает их в лечебных целях…»
INCIPIT LIBER OUARTUS
T. H. White
THE CANDLE IN THE WIND
Copyright © The Estate of T. H. White, 1958
1
Годы, накапливаясь, не проявляли доброты к Агравейну. Даже в сорок он выглядел на свой нынешний возраст, на пятьдесят пять. Трезвым он бывал редко.
Мордред же, холодный и хилый, вроде бы и вовсе возраста не имел. Подобно выражению, таящемуся в глубине его синих глаз, подобно переливам его музыкального голоса, годы Мордреда оставались неуследимыми.
Стоя в крытой галерее дворца Оркнейцев в Камелоте, эти двое смотрели на ловчих птиц, выставленных на колодках под солнце, заливавшее муравчатый дворик. Галерею украшали новомодные стрельчатые арки – наступала эпоха пламенеющей готики, – в грациозных проемах этих арок и стояли, храня благородное безразличие, птицы: самка кречета, большой ястреб, два сокола (самка с самцом) и четверка маленьких дербников, проведших в неволе всю зиму и все-таки выживших. Колодки отличала особая чистота, ибо в те дни охотники полагали, что, ежели вы пристрастились к охоте, сопряженной с обильным пролитием крови, вам следует с особым тщанием стараться скрыть ее лютый характер. Алую кордовскую кожу колодок покрывало прелестное узорчатое золотое тиснение. Должики ястребов были сплетены из белой конской кожи. А кречетиху, дабы отметить высокое положение, занимаемое ею в жизни, облачили в опутенки и должики, вырезанные из заверенной авторитетами кожи единорога. Чтобы добраться сюда, кречетиха проделала долгий путь из Исландии, и это было самое малое, что могли для нее сделать владельцы.
Приятным голосом Мордред произнес:
– Ради бога, давай уберемся отсюда. Здесь воняет.
При звуках его голоса птицы чуть шевельнулись, отчего колокольца их издали еле различимый, как бы шепчущий звон. Колокольца, не считаясь с расходами, доставляли из Индий, и пара, украшавшая самку кречета, была изготовлена из серебра. При звуках колокольцев сидевший на своем насесте в тени галереи огромный филин, которого иногда использовали для ловли приманки, открыл глаза. За миг до этого он еще мог показаться чучелом, неряшливым пуком перьев. Но стоило глазам распахнуться, и филин превратился в нечто из Эдгара Аллана По. Вряд ли вам понравилось бы смотреть в его глаза. Глаза были красные, страшные, глаза убийцы, казалось источающие свет. Они походили на рубины, полные пламени. Филина звали Великий Герцог.
– Не чую я никакого запаха, – сказал Агравейн. Он с подозрением потянул носом воздух, пытаясь хоть что-то унюхать. Но и к вкусу, и к запаху он давно уже стал нечувствителен, да к тому же и голова у него болела.
– Здесь смердит Спортом, – сказал Мордред, произнося последнее слово как бы в кавычках, – а также Подобающим Занятием и Избранным Обществом. Пойдем лучше в сад.
Агравейн никак не мог расстаться с темой их разговора.
– Что проку опять поднимать шум вокруг этой истории? – сказал он. – Мы-то с тобой понимаем, кто тут прав, кто виноват, да ведь только мы, а больше никто. Нас и слушать не станут.
– Нет уж, придется послушать. – Крапинки, испещрявшие райки Мордредовых глаз, полыхнули лазоревым светом, ярким, как у филина. Из вяловатого человека с перекошенным плечом, облаченного в нелепый костюм, он преобразился в воплощение Правого Дела. В подобных случаях он становился полной противоположностью Артуру – безусловным недругом всего, что обозначается словом «англичанин». Он обращался в несгибаемого Гаэла, отпрыска утраченной расы, более древней, чем раса Артура, и более утонченной. Когда Правое Дело вот так воспламеняло его, Артурово правосудие принимало в сравнении вид тупоумной буржуазной затеи. Поставленное рядом с варварским и темным разумом пиктов, оно представлялось проявлением пресного самодовольства. Всякий раз, как он подобным образом выказывал свое неприятие Артура, в чертах его проступали вдруг все его материнские пращуры, в основе цивилизации коих, как и в основе воззрений Мордреда, лежал матриархат: то были воины, скакавшие на неседланных конях, бросавшиеся в атаку на колесницах, искушенные в военном коварстве и украшавшие свои жуткие оплоты головами врагов. Длинноволосые и свирепые, они выходили, как сообщает один из авторов древности, «с мечом в руке навстречу рекам крови иль вздыбленному бурей океану». То была раса, олицетворяемая ныне скорее Ирландской Республиканской Армией, нежели шотландскими националистами; раса, представители которой всегда убивали лендлордов и всегда валили вину за их смерть на них же самих; раса, которая могла превратить в национального героя человека, подобного Линчагану, откусившему женщине нос, – поскольку он был из ирландцев, а она из галлов; раса, заброшенная вулканом истории в отдаленные области земного шара, где она, обуреваемая ядовитой обидой и чувством неполноценности, и поныне являет напоказ всему свету застарелую манию величия. Это из нее выходили католики, способные бросить открытый вызов любому папе или святому – Адриану, Александру или Святому Иерониму, – если политика оных этих католиков не устраивала: истерически раздражительные, терзаемые скорбями, бранчливые хранители сгинувшего наследия. То была раса, которую, при всем ее варварском, коварном, отчаянно храбром непокорстве, много веков назад поработил чужеземный народ, олицетворяемый ныне Артуром. И это обстоятельство также разобщало отца и сына.
Агравейн сказал:
– Я хотел поговорить с тобой, Мордред. Черт, и присесть-то не на что. Садись вон на ту штуку, а я сяду здесь. Тут нас никто не услышит.
– А хоть бы и услышали. Нам именно это и требуется. Такие вещи нужно говорить громко, а не шептаться о них по укромным галереям.
– В конце концов и шепот достигает нужных ушей.
– Если бы. Ничего он не достигает. Королю не угодно слышать об этом, и, пока мы тут шепчемся, он волен притворяться, что ничего не может расслышать. Как бы он пробыл столько лет Королем Англии, не научившись лицемерить?
Агравейн чувствовал себя неуютно. Его ненависть к Королю не отличалась такой определенностью, как ненависть Мордреда, в сущности, он ни к кому, кроме Ланселота, личной вражды не питал. Его озлобленность выбирала свои цели скорее наобум.
– Не думаю я, что мы добьемся чего-то, сетуя на прошлые обиды, – угрюмо сказал он. – Трудно ожидать чьей-либо поддержки в таком запутанном, да еще и бог весть когда случившемся, деле.
– Как бы давно оно ни случилось, факт остается неизменным: Артур отец мне, и он отправил меня, еще младенца, поплавать в неуправляемой барке.
– Для тебя это факт, – сказал Агравейн, – а для других нет. Все уже так перепуталось, что никто не захочет в это вникать. Не можешь же ты ожидать, что нормальные люди станут помнить, кто кому приходится дедушкой, а кто – единоутробной сестрой и так далее. Во всяком случае, в наши дни из-за чьих-то частных склок люди воевать не пойдут. Для войны нужна ущемленная национальная гордость, что-нибудь связанное с политикой и требующее только повода, чтобы прорваться наружу. Нужно использовать уже готовые подручные средства. Возьми хоть этого мужлана Джона Болла – того, что верует в коммунизм, – у него тысячи последователей, и все готовы посодействовать смуте ради собственной выгоды. Или те же саксы. Мы могли бы заявить, что поддерживаем национальные движения. И могли бы, коли на то пошло, слить все воедино и назвать результат национал-коммунизмом. Но в любом случае требуется нечто определенное, доходчивое, чтобы пронимало любого. И враг нужен непременно многочисленный – евреи, норманны, саксы, – чтобы каждому было на кого озлиться. Мы можем возглавить движение Древнего Люда, желающего сквитаться с саксами, или движение саксов против норманнов, или сервов против общественного устройства. Нам понадобится знамя, именно знамя, да и особая эмблема тоже. Бери какую хочешь – свастику, коммунизм, национализм, все что угодно. А личные твои претензии к старику, это вещь безнадежная. В любом случае у тебя уйдет самое малое полчаса, чтобы растолковать, в чем они состоят, даже если ты влезешь на крышу и будешь кричать оттуда.
– Я мог бы кричать о том, что моя мать приходилась ему сестрой и что он попытался утопить меня по этой причине.
– Ну, покричи, если хочешь, – сказал Агравейн.
Перед тем как филин открыл глаза, они разговаривали о давних обидах, причиненных их роду, – о своей бабушке Игрейне, обесчещенной отцом Артура, о давно иссякшей вражде гаэлов и галлов, известной им по рассказам матери, слышанным в древнем Дунлоутеане. Именно эти обиды холодная кровь Агравейна осознавала как слишком давние и смутные, чтобы они могли послужить оружием в борьбе с Королем. Теперь они подобрались к более свежему поводу для недовольства – к прегрешению Артура с его единоутробной сестрой, завершившемуся попыткой прикончить порожденного в этом грехе бастарда. Это оружие, безусловно, могло оказаться более мощным, незадача, однако, состояла в том, что Мордред-то и был этим бастардом. Малодушная осторожность старшего из двух братьев, обладавшего к тому же более изощренным умом, говорила ему, что сыну навряд ли следует превращать незаконность своего появления на свет в знамя, под которое могли бы собраться те, кто желает сбросить с трона его отца. К тому же Артур давным-давно сумел замять эту историю, и если Мордред вновь извлечет ее на свет божий, он лишь покажет себя неумелым политиком.
Они сидели в молчании, уставившись в пол. Агравейну неможилось, под глазами у него набрякли мешки. Мордред был, как и всегда, подтянут, опрятен и одет по последней моде. Вычурный наряд служил ему неплохим камуфляжем, под которым его кривое плечо оставалось почти незаметным.
– Я, собственно, не гордый, – произнес Мордред.
Он с горечью глядел на единоутробного брата, вкладывая в свой взгляд куда больше значения, чем брат способен был воспринять. Глаза его говорили: «Да ты хоть на горб мой взгляни. Мне нет причины гордиться моим рождением».
Агравейн нетерпеливо поднялся.
– Как бы там ни было, а мне нужно выпить, – сказал он и хлопнул в ладоши, призывая пажа. Затем он провел по векам дрожащими пальцами и замер, чуть покачиваясь, с отвращением глядя на филина.
Мордред, пока они ожидали выпивки, с презрением созерцал Агравейна.
– Начнешь копаться в старом дерьме, – сказал Агравейн, в которого пряное вино вдохнуло новую жизнь, – сам же в нем и окажешься. Ты все-таки помни, что мы не в Лоутеане. Мы в Артуровой Англии, и англичане любят его. Они либо не захотят тебе верить, либо, если поверят, обвинять станут тебя, не его, потому что ты вытащил эту гадость на свет. В таком восстании ни единый человек участвовать не станет, тут и говорить-то не о чем.
Мордред смотрел на брата. Он, подобно филину, ненавидел Агравейна и порицал его за трусость. Все, что мешало Мордреду мечтать об отмщении, было для него нестерпимо, и оттого он мысленно изливал свою неприязнь на Агравейна, про себя называя его пьяным предателем интересов семьи.
Агравейн, понимавший это и уже утешенный половиной бутылки, рассмеялся Мордреду в лицо. Он хлопнул младшего брата по здоровому плечу, понукая его наполнить свой стакан.
– Выпей, – с ухмылкой сказал он.
Мордред пригубил вино, словно кошка микстуру.
– А вот не слышал ли ты часом, – игриво осведомился Агравейн, – о великом святом по имени Ланселот?
Он подмигнул заплывшим глазом, доброжелательно глядя на кончик собственного носа.
– И что же?
– Я так понимаю, что ты наслышан о нашем preux chevalier?[1 - Доблестный рыцарь (фр.).]
– Разумеется, я знаю, кто такой сэр Ланселот.
– Полагаю, я не ошибусь, сказав, что этот непорочный джентльмен пару раз скидывал нас обоих с коня?
– Ланселот впервые спешил меня так давно, – сказал Мордред, – что я уже и не помню, когда это случилось. Ну и что же с того? Даже если человек способен спихнуть тебя с коня длинной палкой, это еще не значит, что он лучше тебя.
Странное дело, теперь, когда разговор пошел о Ланселоте, оживление Мордреда сменилось равнодушием. Агравейн же, до этой поры поддерживавший разговор без особой охоты, внезапно обрел красноречие.
– Вот именно, – сказал он. – А кроме того, наш благородный рыцарь с давних пор состоит в любовниках у Королевы Английской.
– Всем известно, что Гвен была любовницей Ланселота еще с допотопных времен, да толку-то что? И Королю это известно не хуже прочих. Я знаю наверняка о трех случаях, когда ему говорили об этом. Не вижу, что мы тут можем сделать.
Агравейн, словно пьяный волынщик, прижал пальцем одну ноздрю, а затем погрозил тем же пальцем брату.
– Говорить-то ему говорили, – объявил он, – да все обиняками. Присылали разные там вещицы с намеком – то щит с двусмысленным изображением, то рог, из которого могут пить лишь верные жены. Вот только никто ни разу не сказал ему об этом в открытом суде, прямо в лицо. Мелиагранс предъявил всего лишь расплывчатое обвинение, да и то в пору, когда дела решались судебными поединками. А ты ют подумай, что бы произошло, если бы мы напрямик обличили сэра Ланселота, да еще при этих новейших законах, так что Король волей-неволей назначил бы следствие?
Глаза у Мордреда вспыхнули, словно у филина.
– Ну и?
– Ну и совершенно не представляю себе, что могло бы из этого выйти, кроме раскола. Артур зависит от Ланселота, потому что тот командует всеми его войсками. Ланселот – основа его мощи, потому что всякий же понимает, против грубой силы не больно-то попрешь. Но если мы сумеем устроить так, чтобы между Артуром и Ланселотом начались веселенькие дрязги – из-за Королевы, – тогда мощь его даст трещину. Вот тут и настанет черед для тонкой политики. Тут и придет самое подходящее время для недовольных – для лоллардов, коммунистов, националистов и прочей шушеры. А значит, и ты улучишь минуту для своей пресловутой мести.
– Мы сможем лишить их силы, потому что они уже ослаблены изнутри.
– Раскол будет означать куда как больше.
– Раскол будет означать, что Корнуолльцы сквитаются за нашего деда, а я за мою мать…
– …и не тем, что силой попрут против силы, а тем, что с толком раскинут умом.
– А это значит, что я отомщу за себя человеку, который пытался меня утопить, когда я еще был младенцем…
– …сначала свалив его головореза, а после действуя с должной осторожностью.
– Свалив нашего прославленного чемпиона…
– …сэра Ланселота!
* * *
Суть дела состояла в том, – и возможно, следует в последний раз подробно ее изложить, – что отец Артура убил Графа Корнуолльского. Он убил этого человека, потому что возжелал его жены. В самую ночь убийства бедная Графиня понесла Артура. Рожденный слишком рано с точки зрения разного рода условностей, касающихся ношения траура, супружества и всего прочего, он был тайком отправлен на воспитание к сэру Эктору из Дикого Леса. Он так и вырос в неведении о своем происхождении и девятнадцатилетним юношей влюбился в Моргаузу, не зная, что она – одна из его единоутробных сестер, дочерей Графини и Графа. Сестра, уже бывшая матерью Гавейна, Агравейна, Гахериса и Гарета и вдвое превосходившая Артура годами, весьма успешно совратила его. Плодом их союза стал Мордред, одиноко взращенный матерью в варварской глуши Внешних Островов. Моргауза растила его в одиночестве, поскольку он был много младше всех прочих членов семьи. Все прочие уже упорхнули ко двору Короля, влекомые кто честолюбием, ибо то был величайший из дворов мира, а кто – желанием бежать от матери. Мордред же остался во власти этой женщины с ее наследственной враждой к Королю, да еще и с личной обидой. Ибо Артур, хоть по незрелости и соблазненный Моргаузой, все-таки смог избавиться от нее и со временем женился на Гвиневере. Моргауза, засев на севере с единственным оставшимся у нее сыном, обрушила на мальчика-калеку всю свою страшную материнскую мощь. Она поочередно то ласкала его, то о нем забывала, ненасытная в своей плотоядности, жившая, черпая силу в любви, питаемой к ней ее собачонками, детьми и любовниками. В конце концов один из старших сыновей в припадке ревности снес Моргаузе голову, застав ее, семидесятилетнюю, в постели с молодым человеком по имени сэр Ламорак. В ту пору Мордред, раздираемый любовью и ненавистью, что бушевали в его страшной семье, оказался одним из ее убийц. Ныне, при дворе своего отца, которому хватило такта скрыть историю его рождения, несчастный сын обнаружил, что признается всеми как брат Гавейна, Агравейна, Гахериса и Гарета; обнаружил, что Король-отец, которого он по наущению матери ненавидел всем сердцем, относится к нему с любовью, обнаружил вдруг, что его, человека изуродованного, умного и критически настроенного, окружает цивилизация, слишком прямолинейная для чисто интеллектуального критицизма; и, наконец, он обнаружил, что является наследником северной культуры, всегда противопоставлявшей себя ограниченной морали южан.
2
В дверях галереи возник паж тот, что уже приносил Агравейну вино. С преувеличенной вежливостью, ожидаемой от пажей, желающих стать оруженосцами, а после и рыцарями, он склонился в низком поклоне и объявил:
– Сэр Гавейн, сэр Гахерис, сэр Гарет.
Следом вошли трое братьев, громогласных после свежего воздуха и недавних упражнений, – теперь весь клан был в сборе. У всех у них, кроме Мордреда, имелось где-то в глуши по жене, но никто этих жен не видел. Да и самих-то Оркнейцев мало кому случалось в течение долгого времени видеть поодиночке. Когда они собирались все вместе, в них проступало что-то детское, скорее даже приятное, чем наоборот. Возможно, нечто детское было присуще и всем остальным паладинам, упоминаемым в истории Артура, – если простота и детскость это одно и то же.
Первым вошел глава семейства, Гавейн, неся на кулаке самку сокола, голову которой украшал молодой хохолок. Гавейн стал грузен, в рыжей шевелюре его появились поблекшие пряди. Волосы на висках пожелтели, как у хорька, еще немного – и они совсем побелеют. Гахерис приобрел сходство с Гавейном, во всяком случае большее, чем у всех остальных. Но копия вышла бледная: не такой рыжий, не такой мощный, не такой крупный и не такой упрямый. Правду сказать, был он малость глуповат. Гарет, самый младший в четверке родных братьев, до сих пор не утратил юношеского обличья. Походка его оставалась упругой – такой, словно ему нравилось ощущать себя живым.
– Ишь ты! – хрипло воскликнул Гавейн, переступая порог. – Уже пьете?
Он еще сохранял чужеземный выговор в знак пренебрежения к языку англичан, но думать по-гаэльски уже перестал. Вопреки воле Гавейна, английский язык его становился все совершеннее. Гавейн старел.
– Да ладно тебе, Гавейн.
Агравейн, знавший, что его привычка пропускать рюмочку-другую еще до полудня одобрения не вызывает, вежливо осведомился:
– Хороший выпал денек?
– Недурственный.
– Превосходный! – воскликнул Гарет. – Мы упражнялись в напуске верхом с помощью Ланселотова слетника, и она по-настоящему освирепела. Я и не думал, что она сумеет взять добычу без притравы! Гавейн управлялся с ней просто великолепно. Она пошла вниз, не помедлив и секунды, словно всю жизнь только и делала, что била сверху цапель, описала отличный круг над свежими стогами у Белого Замка и ушла над ним аккурат на южную сторону дороги пилигримов. Она…
Гавейн, заметивший, что Мордред намеренно зевает, оборвал Гарета:
– Побереги дыхание.
– Хорошая вышла охота, – неловко заключил Гарет. – И поскольку она взяла добычу, мы решили, что можно дать ей имя.
– И какое же? – снисходительно поинтересовались двое.
– Ну, раз она родом с Лёнди, а стало быть, имя должно начинаться на Л, мы решили, что неплохо будет назвать ее в честь Ланселота. Например, Ланселотта или что-нибудь наподобие этого. Из нее получится первоклассная ловчая птица.
Агравейн взглянул на Гарета из-под приспущенных век и сказал, растягивая слова:
– Тогда уж лучше пусть будет Гвен.
Гавейн, выходивший в дворик, чтобы усадить птицу на колодку, вернулся назад.
– Брось, – сказал он.
– Сожалею, если сказал неправду.
– Меня не заботит, правда это или неправда. Я только одно тебе говорю: попридержи язык.
– Гавейн, – сказал Мордред, возводя глаза горе, – Гавейн у нас такой preux chevalier, что при нем дурных речей не держи, не то нарвешься на неприятности. Он, понимаешь ли, очень сильный и во всем подражает сэру Ланселоту.
Рыжий рыцарь с достоинством поворотился к нему:
– Не такой уж я и сильный и вовсе этим не пользуюсь. Я только стараюсь держать своих родичей в достойном виде.
– И разумеется, – подхватил Агравейн, – спать с женой Короля – самое достойное дело, даже если Королевская семья порушила нашу и заделала нашей матери сына, а после пыталась его утопить.
Гахерис возразил:
– Артур всегда был к нам добр. Прекратил бы ты лучше это нытье!