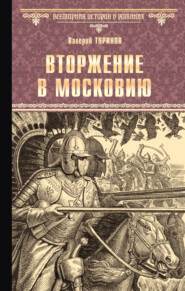скачать книгу бесплатно
А мужики уже тут как тут, подле него, умело заломили ему руки, нагнули низко шею и потащили во двор.
– Да хватит же, больно! – взвыл он, взирая, как перед самым носом у него полощутся вонючие мужицкие порты.
Но мужики отпустили его только во дворе. И он, ворохнув плечами, оправил на себе помятый кафтан, увидел перед собой огромную толпу, а впереди неё городских «сильников».
Вчерашний боярский сынишко[11 - Боярский сын – представитель низшего разряда служилых «по отечеству», т. е. по происхождению, людей.], из здешних, городовой, его он поил вечером в кабаке, был тоже здесь. Он стоял, понурив голову, возле Гриньки… «Да, точно, выдал он!»
Приставы тем временем вытащили вперёд Алёшку и Гриньку и толкнули их к нему, лицом же к воеводе и толпе, к этой ужасной толпе. Алёшка жалобно глянул на него и отвернулся. А Гринька глаз не поднимал. Несколько дней назад он проболтался об их странном приятеле, кормильце и добродетеле. Из зависти к нему он выложил всё, по пьянке, кому-то в кабаке и не мог даже вспомнить кому. И вот сейчас он понял, что слух о том дошёл и до его родного Путивля, если от крутого тамошнего воеводы Григория Шаховского здесь появились «с доездом» сыщики: «сыскное дело» завести.
«И дознаются!» – похолодело всё внутри у него, когда он заметил за воеводой палача Ерёмку, тот притащился сюда с подручными… «Вон инструмент уже!» – углядел он у них жаровню, огромные щипцы, колодки…
Подручные спешат, уже прилаживают козлы для пытки наскоро, но ремесло поставлено умело.
– Вот ты, Нагой, болтаешь здесь, что, дескать, царь Димитрий жив и вскоре опять придёт сюда! – заговорил воевода, заложив руки за широкий кушак, подтянул большой живот, запыхтел, отдуваясь от жары.
Она, жара, накрыла городок и степь. Леса горели в этот зной, парили редкие озера за городскими стенами.
– Да вот заждались что-то мы его! – выкрикнул кабацкий голова.
Тут откуда-то вдруг появился дьяк Пахомка, забегал подле воеводы и стал толковать ему.
– Князь Лука, а князь Лука, ты не трогай вот его, вот его-то! – показал он на Матюшку.
Его, дьяка Пахомку из Москвы, Матюшка тоже припоил, тот стал ручным, его радетелем.
– Придёт, придёт, друзья… – залепетал Матюшка. Он испугался натиска толпы и воеводы, мелких служилых, боярских детей и казаков.
– Ну как вот вам такое, а?! И мы же оказались в дураках! Послушайте, послушайте его! – бросил воевода в толпу, и та заволновалась сразу же. – Так где же он?! – вскричал он, взвинчивая ленивых и зевак.
– А мы же верили в его наследный трон! – раздался пронзительный вопль какого-то юнца.
– Он, как сатана, всем милость обещал! – вдруг заголосила какая-то баба, худая, тёмная, и стала рвать на себе волосы. И её грязное платье, в лохмотьях, полетело на землю, обнажая всю её срамоту…
«Ну так и есть – юродивая! На Русь попал, святую!» – с сарказмом пронеслось в голове у Матюшки. Сердце у него дрогнуло, и сразу стало легче: опять всё то же, он снова был дома, где всё по-прежнему и всё знакомо…
– А ты-то знаешь – когда же явится наш царь?! – съехидничал воевода, приставив к лицу Алёшки кулак. – Отвечай, вонючее гусиное перо!
Алёшка струсил, и изрядно, но гордость всё ещё брала в нём верх, себя топтать не позволяла, выкручивалась, как умела.
– Ох, как же ты, боярин, нетерпелив! – умышленно польстил он воеводе, хотя тот был всего лишь мелкий дворянин.
– А ты, питух, спесив! И не по месту! Сейчас вот зададут тебе!.. – даже не заметил воевода, по тупости своей, лесть тонкую Алёшки и обернулся к стрельцам, которых толпа приволокла сюда за собой. – Схватить его!
И стрельцы тут же подскочили к приятелям, схватили Алёшку, подтащили к козлам: «Держи, Ерёмка, твоя работа!» – со смехом бросили его на руки подручным палача. Те на лету словили писаря и ловко разложили на козлах его, Алёшку, кудрявого и славного, всего лишь молчуна, к тому же безобидного пьянчужку.
– Пытать, пока не надумает сказать: почто царь не идёт и медлит, шлёт вести устные одни! – с сарказмом проворчал воевода, тряхнул отвисшим животом. – Хе-хе!
– Государь, откройся им, – стоя рядом с Матюшкой, зашептал Гринька и выбил зубами дробь, когда увидел, как с писаря сдёрнули рубашку и порты, чуть-чуть на козлах потянули, точь-в-точь как шкуру с какого-то коняги, чтоб задубить и просушить.
Матюшка сглотнул тугую слюну и прошелестел сухим языком своему кабацкому дружку: «Донесёшь – на кол пойдёшь, паршивый пёс!»
Гринька всхлипнул, зажал было рот, но его губы сами собой тряско запрыгали: «О-о, государь, молю – прости!..»
– Давай, Ерёмка, давай! – крикнул весёлый воевода палачу. – Пусть скажет, мерзавец, нам речь! Он писарь, его слова давно летают по кабакам! А ну-ка, сними кожу с него и псам отдай! А потроха – вон той убогой! – пыхнул он смешком в клочковатую бороду; его заплывшие глазки сверкнули по сторонам, остановились на юродивой, которую стрельцы вытаскивали со двора. – Вот пусть она и погадает: когда же к нам явится Димитрий, сам царь! А не собак кабацких зачем-то присылает! Ха-ха! Начинай, Ерёмка, попарь его: по заднице, по спинке!..
Ерёмка принялся за дело: бич свистнул… Алёшка взвизгнул, всем телом изогнулся. Но крепко, узлами, притянули его руки к толстому бревну.
– Да что ты гладишь-то его! – рассердился воевода, вынул кулак из-за широкого кушака и погрозил им Ерёмке.
Ерёмка, презрительно сплюнув себе под ноги, прошёлся снова бичом по спине Алёшки. И покраснела она теперь, как от стыда… Вот тут уже Алёшка заверещал, заёрзал руками, не в силах дотянуться до спины, заполыхавшей огнём.
– Я всё скажу – только уймитесь! – запричитал он, обнимая шершавое и тёплое бревно. – О Николай Чудотворец, помоги!.. Какие все вы дураки!.. Хы-хы! Помыслить сами не хотите! Хы-хы!..
– Так видел ты царя или нет?! – спросил воевода его.
Алёшка всхлипнул, послушно закивал головой.
– И как же ты признал в нём царя, а?!
– По осанке… Осанка царская его меня смущает…
– Ха-ха! – глупо хохотнул кто-то в толпе.
Воевода сдвинул брови и повёл взглядом по головам, и все бездумно замолчали снова. А он стал медленно поворачиваться и вот, когда повернулся, махнул рукой палачам, чтобы оставили писаря, и показал пальцем на Матюшку: «Теперь беритесь за Нагого!»
Но в этот момент кликуша вырвалась из рук стрельцов. Те волокли её со двора, грязную, нагую, а она, не пьяная, орала: «Здесь, здесь дух его! Сейчас увидите его! Он, сатана, пришёл до вас! А вы!.. Тьфу, тьфу!» – вдруг плюнула она в лицо одному стрельцу. Плевок попал бедняге прямо в глаз. Тот выругался, зашарил сослепу руками, ловя её… Она же вырвалась из рук другого стрельца и кинулась назад, во двор, всё с тем же воплем: «Сатана-а!..» И там она уткнулась в толпу, глазевшую, как расправляется палач с кабацкими ярыжками, забегала среди людей, со страстью вглядываясь им в лица… Но вот она остановилась перед каким-то зевакой: тот пялился во все глаза на то, как бич со свистом режет плоть несчастного Алёшки… И она, жеманно подмигнув ему, хихикнула и голым задом бесстыдно повела. Затем вскинула она вверх руку, показывая неизвестно куда-то, и опять заголосила: «Он!.. Он – глядите!»
– Да выкиньте же её! – закричал воевода стрельцам. – Афонька, а ну, марш до этой суки! Юродивых нам только не хватало!
И стрельцы забегали в толпе, ловя кликушу. А та пряталась там, орала: «Сгоришь, сгоришь!.. В аду тебе пылать!..»
Матюшка затрясся от страха, пот ледяными струйками, вот в эту летнюю жару, защекотал ложбинку на его спине. И она, спина, сейчас же подло зачесалась как раз в том самом месте, где всё ещё проступали следы побоев, когда его тащили в тюрьму и били кнутом и кулаками, затем прошлись по пяткам батогами.
Всё дальнейшее мелькнуло как в каком-то чаду: в руке у него сама собой оказалась какая-то палка. И он, защищаясь, замахнулся ею на стрельцов, на их руки, уже протянутые к нему. Из его груди вырвался клокочущий звук, в нём страх смешался со злобой, и сердце задрожало… Вскрик загнанного в угол, прижатого к стене, пса обозлённого: «А-а!» – ворвался во двор и перерос в осмысленную речь: «Ах! Вам неймётся! Я – Димитрий, царь, и вас отменно палкой проучу! Собаки! А ну, кто смел – ударь!..»
И вот сквозь пелену в глазах заметил он, как отшатнулись от него какие-то кривые тени. Испуг и страх на лицах сменились удивлением, и там же робость появилась. А кто-то уже готов был кланяться ему… Но рожа воеводы всё так же светится ухмылкой: он за здорово живёшь и на полушку не поверит никому.
«Он всех опасней! – прочно отложилось в память у него. – Хм! Получилось!»
Сердце у него сжалось в тугой комок, и жаром покрылся лоб, уже побелевший было. И он стал понемногу оживать, хотя похмелье сидело ещё в нём крепко, дрожали мелкой дрожью руки, ноги…
– Ну что – он?! – толкнул воевода плечом стоявшего рядом с ним одного незнакомца, из тех, что были из Путивля. Толкнул он его легонько всей своей массой, но тот закачался и чуть было не упал.
«Сыщик, с доездом!.. Прознает!» – догадался Матюшка и снова стал холодеть.
И, наверно, этот толчок воеводы сказался на незнакомце. Тот промямлил неуверенно и робко: «Да вроде бы похож» – и сразу опустил глаза, чтобы не видеть лица Матюшки.
А Матюшка заметил, как у воеводы забегали по сторонам глазки. Тот мгновенно уловил помрачение умов вокруг себя, и льстивая улыбка расползлась по его лицу. Вот только что готов был он сожрать его, топтал и собирался отдать палачу.
– Прости нас, глупых, государь! – как сквозь ватой забитые уши донеслось до него от воеводы: тот открывал рот, но звуки глохли в шуме, которым был наполнен двор.
– Не разглядели мы тебя, твои холопы! – вдруг взвился над толпой чей-то крик и затерялся под ветхой крышей Нефёдкиной избёнки. – Тебе служить мы верно будем!..
«Ах, негодяй, Меховецкий-то, оказался прав!» – мелькнула слабая улыбка на губах Матюшки. Страх стал медленно выходить из него. Но ещё настороженно взирал он на толпу, ту самую, плевавшую в него ещё минуту назад. И какая-то мысль, подспудная, стала проситься у него наружу. Вот, казалось, мелькнуло что-то важное, что только что открылось ему.
«Да что же это?» – старался он ухватить что-то, но не давалось то и ускользало… «А-а! Вон в чём дело!» – с облегчением ворохнул он плечами и вновь почувствовал, что опять двигается свободно, без ложного смущения.
– Ну что стоите?! Где мои хоромы?! – приказал он, придав повелительность своему голосу, всё ещё дрожащему, уже уверенный, что всё будет так, как он скажет, как захочет. – Не здесь же мне торчать! – мотнул он головой на жалкую избёнку Нефёдки.
– Государь, государь, и я с тобой! – послышался вскрик Гриньки, которого уже куда-то волокли стрельцы. Его лицо, беспомощное и жалкое, мелькнуло в толпе и навсегда исчезло для Матюшки.
А писарь? Того сняли с бревна, оттащили к амбару, положили там у стенки на дощаной пол. И тут же над ним захлопотали какие-то сердобольные бабы.
А толпа оттеснила от Матюшки воеводу, боярских детей и посланников, приехавших из Путивля. Она пронесла его из посада к городским воротам и там, в крепости, опустила на воеводский двор, где уже суетился и сам воевода, освобождая ему хоромную избу на высокой подклети. Откуда-то здесь появились уже и казаки, стрельцы стоят рядами, толпа ломает шапку перед ним, сам воевода робко ходит.
* * *
Прошёл месяц, как царь Димитрий, бывший Матюшка, а он уже стал привыкать к своему новому имени, поселился на дворе воеводы. Он оброс прислугой, холопов появилась уйма. Все услужить ему были готовы. Откуда-то и дьяки появились, и все смышлёные: приказы строят по образцу Москвы, указы, грамоты мелькают. Сидят подьячие и перьями гусиными скрипят по целым дням.
«Вот чёрт!» Не знал Матюшка, что государево дело построено так сложно… Да и имя своё он, Матвейка от рождения, уже начал забывать. Тем более что ни Гриньки, ни Алёшки после того дня уже ни разу не видел он, и ничто не напоминало ему больше о прошлых его днях, о прошлой жизни. Да было ли вообще прошлое у какого-то Матюшки?.. На самого себя, на того из прошлого, он сам смотрел со стороны и с удивлением, как на чужого.
«Димитрий, государь и царь!» – теперь во всякий день в ушах его звучало и звучало, к чему-то новому и необычному он привыкал.
Но прошлое не всё легко стиралось. По-прежнему язык его любил солёное и крепкое словцо. Парчовый кафтан, хрустящий от новизны, в плечах ему, казалось, стеснял, был узок. И он частенько надевал своё старьё, а стоптанные сапоги привычней были, не жали ноги. Всё было у него теперь: двор царский, хоромы, приказы, казна немалая скопилась уже, полк казаков, стрельцы. Детей боярских он видел на своём дворе, и воеводы из ближайших городов ударили поклонами на верность ему, великому князю Димитрию.
– Поклоны бьют, а вот с казной воруют! – ворчал по целым дням его дворцовый дьяк Пахомка, тот самый, которого он припоил уже давно к себе.
Но что-то, ему казалось, остановилось. Он это чувствовал. Однако в свои тайные книжки он больше не заглядывал, припрятал их подальше: боялся, а вдруг попадут кому-нибудь в руки.
Опять каббалистическое число подкралось неминуемо. До Сёмина дня, до срока, осталось ровно 33 дня. Вот завтра будет тот день… «И что-нибудь случится непременно!..» Настал тот день, тот срок. С утра стояла неважная погода. Она будто сулила какие-то ненастья ему: шёл мелкий нудный дождик, предвестник пока ещё не близких холодов и серого осеннего начала.
До полудня он принял в своих хоромах двух дьяков, стоявших во главе приказов. Их завели вот только что. Приказ Разрядный был у них, а другой – Большой казны. И с думой пока неважно выходило: ни одного боярина не было у него. А тех, кого он назвал своими боярами, в Москве бы не пустили и на порог к посадскому купцу.
Но к полудню ветер разогнал на небе тучи, и выглянуло солнце, дорогу подсушило. Опять запрыгали возле конюшни воробьи, клюют овёс, дерутся, суются всюду и шустрят.
Конюхи вывели лошадей из стойловых конюшен во двор царских хором. Царь Димитрий собрался прогуляться верхом за городские стены, развлечься на охоте в лесу, соседнем с городком. Там царские егеря заметили стадо кабанов. Да, да, у него появились уже и егеря. Их подарил тот недоверчивый воевода, вымаливая прощение с нижайшими поклонами.
Димитрий вышел из хором одетый в поношенный кафтан, удобный для выездок в поле. И тусклые сапожки сидели на нём ладно. Он был немного с утра, конечно же, под хмельком. Но пил он теперь не с ярыжками: с боярами, советниками ближними своими. Вот новая его среда, вот новые его приятели.
Никулка, его стременной, подвёл к нему тёмно-гнедого мерина с белой отметиной на лбу.
Матюшка, а иногда он вспоминал ещё, что он Матюшка, легко взлетел в парчовое седло и, обминаясь, слегка покачался в нём, чувствуя, как упруго держат ноги тело. С десятком всадников, а к ним ещё два егеря, он выехал из города и миновал посад. За деревянным острогом он собрался было наддать мерину в бока, разрысить его, к седлу привыкнуть самому, поскольку ездил раньше верхом не часто: всё больше жизнь гоняла его пешим ходом. Но тут его спутники заметили, что навстречу им пылят по уже высохшей дороге всадники. И были они тоже кучкой небольшой. На шляпах у них покачивались павлиньи пёрышки, на польский лад были раздвоены околышки.
– Ляхи! – крикнул стремянной, мгновенно узнав знакомые очертания всадников, здесь всем известных.
– Стой! – скомандовал Димитрий, потянул за повод и перевёл бег своего коня на шаг. И тот затанцевал, кокетливо пошёл вперёд и как-то боком, немного приседая.
Ещё издали, когда они только что увидели тот отряд, он сразу же приметил впереди той кучки всадников надоевшую ему фигуру: «Несёт же бес его!»
«Ах! Сегодня же тот день! Так это он явился на мой тот срок!» – вспомнил Матюшка ещё вчера донимавшее его каббалистическое число. О нём он помнил с самого утра, хотя с похмелья болела голова. А вот встретил пана Меховецкого, и всё тут же вылетело из неё… «Почто бы так?» – подумал он о странном состоянии. Оно появлялось у него всякий раз, когда с ним рядом оказывался кто-нибудь из ляхов. Тогда все чернокнижные мысли его вмиг исчезали из головы…
Меховецкий узнал его тоже, ещё издали, хотя одет он был уже совсем в иной наряд. На нём развевался нараспашку русский кафтан, была непокрытой голова, и чёрные кудри ложились большими завитками на лоб его покатый.
Меховецкий подскакал вплотную к ним и нахально уставился на него во все глаза. Затем он ухмыльнулся, вскинул руку к шляпе и слегка поклонился ему в седле.
– Великий князь Димитрий, тебе бьёт челом полковник Николай Меховецкий!
До него, до Меховецкого, одного из первых в Посполитой дошла молва о появлении в Стародубе царя Димитрия, царя долгожданного и своего. Тот перестал скрываться. И вот теперь он спешил сюда, уверенный, что это его Матюшка, его задумка, принял личину новую. Он здесь, перед «московским царём»… «Хм! Как всё удачно вышло! И этот учитель, любитель малолетних панночек, справился, и превосходно, с заданием своим!»
Он готов был расхохотаться.
– Пан Меховецкий, о тебе уже наслышан я! – ответил Димитрий на его поклон и милостиво кивнул головой ему. А сердце, его сердце, Матюшкино, помнило ещё вот этого пана. И эта память подталкивала его поклониться тому, кто вытащил его из тюрьмы, обогрел и накормил. К тому же и научил кое-чему: как стать царём Московии. А это многого ведь стоит… Да тот был паном, а он, Матюшка, всего лишь простой посадский мещанин…
Меховецкий приветливо улыбался ему, всё так же внимательно вглядываясь в него, как будто хотел уловить что-то за вот этой игрой. Да, они вели сейчас игру, для всех иных, в этот момент их окружающих. Всю подноготную не знают те. И уж точно не узнают никогда. Он отыскивал на его лице, фигуре, взгляде, за что бы уцепиться и кое-что понять… Кафтан на нём был слишком уж крестьянский. Да, въелся, сидит в нём скаредный прижимистый мужик. Не вытравить… Ну что ж – пускай живёт таким. Не забывал бы только роль свою, взятую на время. Осанка появилась у него, не царская, но не была похожа и на холопскую уже.
«Вот те на! Откуда что берётся!» – с нескрываемым восхищением смотрел он на Матюшку, как тот сидит в седле, небрежно отдаёт приказы. И даже как глядит он на него, полковника Меховецкого. Ведь это он вылепил его, вот этого, пока ещё новорождённого царя… Да что там царь – он «царик» всё ещё!.. «И не дай бог, если сядет в самом деле на трон!» – почему-то стало ему не по себе, хотя он сам готовил его на эту роль… Но почему же вот только сейчас у него закралось сомнение? А не тогда, когда его на это дело подбивал князь Адам… Ну, тот бражник, безумец, что с него возьмёшь. Князь Александр – хотя бы поумнее…
– Филька, лети назад и предупреди Пахомку, чтобы приготовил всё для встречи дорогих гостей! – приказал Димитрий холопу. – Дуй, малец, дуй! Чтобы в штанах крутился ветер! Ха-ха-ха! – расхохотался он, довольный приездом Меховецкого.
Он догадался, что тот приехал не просто взглянуть на него, а с каким-то делом, вестями. Ведь впереди, об этом он не забывал, был Сёмин день, проклятый день. Он изжевал его, и чем ближе подходил, тем чаще он напивался по вечерам.
Всадники всей массой повернули и двинулись обратно в город.
– Князь Адам передаёт привет твоей милости! – сказал Меховецкий, поехав рядом с Матюшкой, наклонил почтительно голову перед ним, великим князем.
«Да, он-то не оступится, играет хорошо, все тонкости придворных знает! – мелькнуло в голове у Матюшки. – И он не подведёт меня. А вот поможет крепче сесть в царское седло!.. И с чем-то приехал… С чем же? Не случайно ведь сегодня опять моё число!»
В хоромах, уже за столом, Меховецкий сообщил ему, что за ним дня через два придёт полусотня гусар[12 - Польская конница была двух родов: гусарами назывались латники или позже их стали называть в России кирасирами, а легкая конница означалась под именем пятигорцев.], пока всего лишь полусотня. Но в Посполитой о нём уже наслышаны, и гусары собираются опять в поход за царя Димитрия.
– Через недели три к тебе придёт от князя Адама пан Валевский, – понизив голос, сказал он, чтобы не слышали «ближние» царя.
– Кто он такой? – спросил Матюшка. Он всё ещё чувствовал себя им, простым Матюшкой, вот перед ним, перед паном Меховецким. Тот, его наставник и поводырь, загнал его, как вбросил, в иной мир, ужасно сложный. Туда он угодил по прихоти его… «Вот и пускай, паршивец, спасает или помогает!..»
– Ну-у! – удивился тот. – Его ты, великий князь, ведь должен знать!
Насмешка прозвучала в голосе его, захмелевшего. Он был, конечно же, пьян, но ещё держался крепко мыслями, не позволял себе лишнего болтать.
– Гусары в Польше не у дел, – продолжил дальше Меховецкий, пряча хитрую усмешку в усах. – Соблазни их, царь, походом!
О-о! Как сказал он это слово – «ца-арь»! Как в тот момент смотрели его пьяные глаза на него, на Матюшку… Что было в них и в голове его? Как знать хотел он всё же это.
– Я с Шуйским за престол начну войну! – вдруг само собой истерично вырвалось из уст его, того самого Матюшки, на которого какой-то воеводишка нагнал страха ещё совсем недавно вот в этом Стародубе. Ах! Как не хотелось ему вспоминать об этом, травил он это в себе вином…
Меховецкий снова усмехнулся, но ничего не сказал. Он стал опять говорить всё о том же Валевском, что тот будет канцлером, как велел князь Адам. И он потряс указательным пальцем перед самым его лицом, как будто отчитывал какого-то мальчишку.
И он, Матюшка, проглотил всё это.
Но Меховецкий всё не унимался. Он был изрядно пьян, и его тянуло царить вот здесь, при его «питомце», при его Матюшке. И он стал поучать сидевших за столом «ближних» царя.