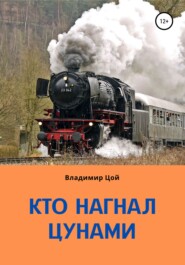скачать книгу бесплатно
Кто нагнал цунами?
Владимир Цой
В 150-летней истории проживания корейской диаспоры в Российской Федерации и постсоветских государствах есть немало событий, ставших предметом внимания исследователей. Но, пожалуй, самым сложным из них является принудительное выселение корейского населения из Дальневосточного края в Казахскую и Узбекскую ССР в 1937 году. В данной работе автор предлагает посмотреть на происшедшее не только и не столько как на результат злой воли одной личности, а как на трагическое следствие взаимодействия внешне- и внутриполитических факторов того времени. При этом он старается обозначить все белые пятна, не обходит острые углы, подкрепляет свои версии анализом документов и сведениями, почерпнутыми из заслуживающих доверия источников. Поскольку книга содержит большое количество фактического материала, она поможет нынешнему поколению читателей, которое в своём большинстве туманно представляет прошлое диаспоры, существенно восполнить пробел.
Владимир Цой
Кто нагнал цунами?
От автора
Для корейской диаспоры в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, России, других государствах бывшего Союза Советских Социалистических Республик характерно особое состояние. С одной стороны, это недоумение, горечь, печаль при воспоминании о событиях 1937 года, когда свыше 170 тысяч корейцев из давно и, казалось бы, прочно обжитых районов Приморья и Приамурья были насильственно отселены за десять тысяч километров – на неизвестные земли Казахстана и Узбекистана. С другой стороны, это умиротворение, удовлетворённость, радость от осознания того, какой стойкий, жизнеутверждающий характер проявили наши отцы и деды, оказавшись в совершенно непривычных ни по климату, ни по ландшафту условиях. На новом месте им пришлось фактически всё начать с нуля, перенести неимоверные лишения, испытать колоссальные трудности. Но вопреки всему они выстояли, сохранили национальное лицо, возродились экономически, обогатили культуру и традиции, стали востребованной, полезной частью многонационального населения огромной СССР и постсоветских государств.
Чем дальше уходит от нас прошлое, тем яснее понимаем, сколь мало знаем подробностей, мало имеем свидетельств очевидцев. А объясняется сей факт предельно просто: вплоть до последних дней советской власти говорить об этом было не принято, носители трагедии предпочитали отмалчиваться или делать вид, что в них ничего сомнительного нет. Получалось: чем меньше они будут рассказывать, тем меньше мы, потомки, будем знать, а значит, лучше спать. И спокойнее жить, добавим мы от себя. Уникальный «рукотворный опыт» перемещения огромной массы людей и их выживания в экстремальных условиях до конца ещё не осмыслен, не изучен, не отражён, и теперь приходится собирать данные по крупицам, а что-то, сопоставляя факты, домысливать, о чём-то догадываться. К сожалению, и такая возможность случается не часто – лишь по большим поводам.
В июле – октябре 2007 года в России, Казахстане, других государствах бывшего СССР было проведено немало акций, связанных с 70-летием принудительного выселения корейцев из советского Дальнего Востока вглубь страны. Среди разноплановых мероприятий, состоявшихся по этому случаю и в Кыргызской Республике (официальное написание), наиболее значимым стал, пожалуй, конкурс письменных работ, инициированный и профинансированный Центром образования Республики Корея в Бишкеке. Он имеет неоценимое значение. Коллективный рассказ помог глубже осознать трагедию. По благоприятному стечению обстоятельств мне выпала возможность ещё до подведения итогов познакомиться с большей частью из пятидесяти с лишним поступивших сочинений. (Вскоре они были изданы отдельной книгой под названием «Дорога жизни через поколения».) Эти пронзительные свидетельства написаны, как признался один из авторов, не ручкой, а слезами. Читать их без волнения невозможно.
Но зацепило меня также другое – практически все участники, независимо от возраста и жизненного опыта (а среди авторов были и стар – почти девяностолетний очевидец, и млад – двадцатилетняя студентка), без тени сомнения утверждали, что причиной колоссальной трагедии был один человек – Сталин. Хочу высказать в связи с этим опасение: по-кавалерийски лихо наскакивая на давно умершего, а потому безответного человека, почти механически формулируя жёсткие обвинения, приписывая ему подчас такие качества, которые больше смахивают на плод нашей фантазии, не становимся ли мы, несущие в себе горечь репрессий и боль утрат, теперь сами несправедливыми? Этот вопрос во многом и определил направленность данной работы. Как говорится, ничего личного.
Никто не спорит, что выселение целого этноса – это вопиющая человеческая драма, немыслимые лишения огромной массы людей и тысячи разбитых судеб. Тем не менее нам надо отдавать отчёт, что все события в мире происходили (и происходят!) в конкретной международной и внутренней обстановке, что нельзя подходить к прошлому с мерками (и эмоциями) сегодняшнего дня, иначе мы рискуем опуститься – как это, к сожалению, нередко случается – до вольной трактовки фактов, необоснованных обобщений, примитивного искажения исторической правды и элементарных спекуляций.
В последние десятилетия стали доступными многие архивные документы, появились сотни свидетельств современников, десятки фундаментальных трудов по советской истории, о Сталине, о 20-м съезде КПСС, с которого и повелась так называемая борьба с культом личности («так называемая» потому, что после того съезда система управления и характер служебных отношений в коммунистической партии и советской стране не изменились ни на йоту). Эти материалы дают богатую пищу для размышлений, в том числе и на болезненно переживаемую нами тему.
Вопросов возникает много, и главный из них – почему это произошло? Сейчас нам важно хотя бы не отмахиваться от сомнений, не закрывать глаза на явные нестыковки, постараться обозначить все «белые пятна» и, отойдя от «привычного» взгляда, посмотреть на случившееся не только и не столько как на результат чьей-то единоличной злой воли, а как на трагическое следствие яростной схватки интересов личностей, кланов, классов, сословий, общественных слоёв и даже целых стран на сложнейшем отрезке истории СССР.
Заявленной позиции старался придерживаться автор. Что из этого получилось, судить тем, кому доведётся познакомиться с результатом. Началось с того, что мой материал о выселении корейцев с Дальнего Востока был напечатан в августе 2007 года в «Казахстанской правде» в связи с 70-летием печальной даты. Потом я много раз возвращался к этой теме и в июне 2012 года обновлённый и многократно расширенный вариант представил вниманию общественности в виде небольшой книжки под названием «Кто нагнал «цунами»?». Не потому, что было жалко труда или хотелось ещё раз засветиться, а потому, что есть необходимость продолжить разговор: уж слишком значима проблема для наших соплеменников, чтобы ограничиваться газетными юбилейными публикациями.
И что же? Признаюсь, я внутренне готовился к шквалу неудовольствия и даже проклятий по поводу «просталинского» акцента книги, но, к приятному удивлению, стал получать отзывы типа «впечатляет», «это бомба», «всё написанное – правда», «замечательный анализ», «добротная работа», «фундаментальный труд», причём, преимущественно от поколения, которое помнит, что такое беды гонимого народа. Один из откликов особенно порадовал – от главного научного сотрудника Института российской истории Российской Академии наук доктора исторических наук, профессора Николая Федоровича Бугая, известного и как кореевед. Приведу его письмо в сжатом виде: «Анненхасимникка! Уважаемый Владимир Геннадьевич, мы не знакомы с Вами. Мне очень понравился Ваш очерк. Чувствуется опытный, со стажем журналист. Прекрасный внутренний анализ. Вы предлагаете совершенно новый подход. Я получил истинное удовлетворение. Такой смелый и глубокий взгляд. Спасибо (Камсахамнида)».
Конечно, были и иные оценки – «слабенькие аргументы…», «прикрывается документами…». Но в целом читатели высказывали солидарность с автором, а один ветеран прислал даже «низкий поклон». Совершенно неожиданным было для меня то, как восприняло книгу молодое поколение корейцев, оно сочло её «очень познавательной». И тогда – коль скоро моё скромное, кстати, сотканное из многих источников, сочинение оказалось интересно и нужно людям – я решил продолжить работу над темой. Существенно дополненная и переработанная версия перед вами.
Пользуясь случаем, обязан сообщить, что в прежнем издании обнаружились неточности: неправильно указаны инициалы Бенедиктова – не А. И., а И. А.; слова, приписываемые А. Щербакову, скорее всего, надо отнести к А. Успенскому; в посмертном описании имущества Сталина участвовал не Власик – он за год до этого был освобождён от должности, а Захаров; де Голль произнёс свои вещие слова на другой день после кончины Сталина, то есть 6 марта 1953 года… Возможно, читатель заметил и другие ошибки, за что автор приносит свои извинения.
Вспомним…
В дальневосточных краях Российской империи, где было много пустующих территорий, первые фанзы – жилища корейских крестьян – появились в начале 60-х годов 19 века. 21 сентября 1863 года начальник Новгородского пограничного поста, что в Южно-Уссурийском крае, донес военному губернатору Приморской области, что корейцы (первая группа насчитывала всего 13 семей) поселились на реке Тизинхэ, где прилежно занимаются хлебопашеством, и просил разрешения открыть им сбыт хлеба. А 30 ноября того года командующий 3-й ротой 4-го линейного батальона Восточной Сибири поручик Резанов сообщил тому же адресату, что к нему «обращались с просьбой несколько корейцев о позволении им селиться в числе 20 семей по речке Тизинхе в 15 вёрстах от поста, где в настоящее время построено ими 5 или 6 фанз» (сб. «Корейцы на российском Дальнем Востоке (вт. пол. 19 – нач. 20 вв.). Документы и материалы»). Через год здесь прибавилось ещё 60 семей, а в следующем – 100. В этот период в районе Посьета образовались корейские селения Тизинхе, Янчихе, Сидими, Адими, Чанигоу, Краббе, Фуяувай.
Переселенческое движение быстро нарастало. Главная причина перемены места жительства в те годы – перенаселённость и отсутствие свободных земель на родине. Особенно часто, сообщается в книге С. Д. Аносова «Корейцы в Уссурийском крае», наши далёкие предки мигрировали из района Северный Хамгендо – наименее плодородной и неудобной для земледелия части Кореи, расположенной к тому же в непосредственном соседстве с Уссурийским краем. Заметно подтолкнуло процесс большое наводнение, случившееся в 1869 году в северной части Кореи, оно нанесло громадный урон сельскому хозяйству и обернулось продолжительным страшным голодом. Основной поток мигрантов шёл в Россию через сухопутную границу на Посьетском участке. Но были и другие пути: из северной Кореи – через устье реки Амтоган и вдоль китайской границы, из средней Кореи – по морю на шаландах, из южной – на пароходах через Владивосток. В результате на русском Дальнем Востоке образовалось значительное число корейских поселений.
Подавляющая часть здешних жителей быстро оценила трудолюбие новосёлов, их законопослушность и не препятствовала инородному соседству. К тому же русский люд, переселённый сюда царским правительством из западных регионов России и щедро наделённый землёй (по сто десятин на семью), не сразу освоился с местными особенностями и потому именно у корейцев перенимал бесценный опыт земледелия, а также – что существенно – получал в их лице дешёвую и умелую рабочую силу, при помощи которой большинство и стало обрабатывать свои обширные наделы.
Царская администрация восприняла мигрантов хотя и не всегда однозначно, но в целом тоже толерантно, а нередко и одобрительно. «Переселение семей корейцев ввиду скорейшего в Приморской области развития хлебопашества и обеспечения через то собственным хлебом весьма желательно, так как известно, что люди эти отличаются необыкновенным трудолюбием. Эти корейцы уже в первый год посеяли и собрали столько хлеба, что могли обойтись безо всяких с нашей стороны пособий», – докладывал в 1864 году в Санкт-Петербург генерал-губернатор Восточной Сибири М. С. Корсаков. «Если до устройства в крае корейцев, войска, расположенные в урочище Новокиевском, покупали весь овес и ячмень в Маньчжурии, то в 1872 г. небольшая часть зерна была куплена у корейцев, в 1873 – купили больше половины потребного зерна, а в 1874 – исчезла надобность покупать хлеб в Маньчжурии», – пишет С. Г. Нам в своей книге «Российские корейцы: история и культура». (Цитата по монографии Ж. Г. Сон «Российские корейцы: всесилие власти и бесправие этнической общности. 1920 – 1930».)
«Со своей стороны, – отмечал известный путешественник Н. М. Пржевальский, – корейское правительство всеми средствами старалось и старается приостановить такое переселение и употребляет самые строгие меры, даже расстреливая тех корейцев, которых удалось захватить на пути в наши владения». Однако и угроза смерти не стала препятствием для миграции. В Приморском крае к концу XIX века из 66 тысяч жителей почти половину составляли корейцы.
Российские власти стремились упорядочить заселение приграничных районов. Из 32 корейских деревень 22 вошли в Посьетский участок, составив Янчихинскую волость. А в 1888 году Россия и Корея заключили соглашение, согласно которому все корейцы, перешедшие границу до 1884 года, т.е. до подписания первого торгового договора с Кореей, приобретали права на русское подданство, которое давало новым поселенцам возможность получить желанные 15 десятин земли на семью. Однако процесс этот замедлялся тем, что корейцы одновременно должны были принять христианство: не всем была по душе перемена веры. Да и местное чиновничество не очень торопилось с легализацией «гастарбайтеров», так как иностранцы представляли ко всему прочему прибыльное «взяткооблагаемое» сословие. Тем не менее, например, в Янчихинской волости подданными России вскоре стали 1300 корейских дворов из 1400. Новые жители – преимущественно крестьяне – культивировали рис, чумизу, бобы, выращивали просо, пшеницу, гречиху, овёс, ячмень, занимались рыболовством, другими промыслами, неспешно и обстоятельно обустраивали быт.
С наступлением нового века миграционные настроения в Корее усилились. Причиной тому – изменившаяся обстановка в регионе и мире. Потерпев поражение в русско-японской войне, царское правительство Николая Второго по подписанному в сентябре 1905 года Портсмутскому договору признало «преобладание политических, военных и экономических интересов Японии в Корее». Заручившись таким же признанием от Англии и США, власти Страны восходящего солнца заставили министров Страны утренней свежести подписать в ноябре 1905 года «Договор о покровительстве», а следом навязали «Договор семи статей», по которому японский резидент получал право контролировать любые действия корейского правительства. Национальное унижение, последствия войны и влияние первой русской революции всколыхнули самосознание народа Кореи и вызвали рост освободительной борьбы на полуострове.
Понятно, иными теперь стали и мотивы переезда в Россию. Если в начальный период корейцы покидали свою страну в основном из-за малоземелья, регулярных неурожаев, нищеты, произвола своих помещиков и чиновников, то теперь главным стал протест против колониального режима, самурайских притеснений и дискриминации, против политики грабежа, проводимого чужеземными властями «с неслыханным зверством, соединяющим все новейшие изобретения техники и пыток чисто азиатских» (В. И. Ленин). За четыре года – с 1905-го по 1909-ый – пришлое население, например, Приамурья увеличилось вдвое. Даже подразделения корейской регулярной армии, когда 1 августа 1907 года было объявлено о её роспуске, отказывались разоружаться и уходили в российские пределы.
Новую волну эмиграции вызвал договор об аннексии 1910 года, который превращал Корейское государство в японское генерал-губернаторство и с которого формально исчисляется так называемый японский имперский период в истории Кореи, закончившийся в 1945 году, после поражения Японии во второй мировой войне. (В августе 2010 года премьер-министр Японии Наото Кан выступил с официальным заявлением, в котором от лица своей страны попросил прощения за ущерб, нанесённый Корее во время японского колониального господства с 1910 по 1945 год. «Я ещё раз выражаю глубокое сожаление и искренне прошу прощения за страдания и колоссальный ущерб, нанесённый колониальным режимом», – сказал он.)
Ещё один всплеск эмиграции случился после неудавшегося народного восстания против иноземного владычества в марте 1919 года. Оно вошло в историю борьбы за независимость как Первомартовское движение. В этот день – 1 марта 1919 года – около четырёх тысяч человек собралось в сеульском парке «Пагода» и торжественно провозгласило Декларацию независимости. В ней содержался призыв к Японии отказаться от политики насилия и признать право Кореи на самостоятельное существование. При этом указывалось, что такому выбору способствуют тенденции мирового развития, в том числе пример Октябрьской революции в России.
Весть о дерзкой акции патриотов молниеносно выплеснулась на улицы Сеула и быстро распространилась по стране. Наружу вырвалось то, что люди долго таили в душе. И хотя поначалу движение, возглавляемое интеллигенцией, замышлялось как мирное, однако этим дело не ограничилось. Начались массовые выступления. Крестьяне стали громить здания местных администраций, полицейские участки и усадьбы помещиков; торговцы закрыли свои лавки; рабочие устраивали забастовки… Словом, волнения приняли общенациональный характер.
Японская администрация, и до того отличавшаяся суровым неприятием малейших народных проявлений, ответила на протесты неслыханными репрессиями. По её данным, только за два месяца было убито 7 тысяч 500 человек, 16 тысяч ранены и около 46 тысяч арестованы. Избежать преследований патриоты могли только за пределами своей страны. Число корейцев, искавших спасения в России, быстро увеличивалось, и вскоре русский, а затем советский Дальний Восток стал опорным пунктом их освободительной борьбы. Власти Японии при этом заняли, на первый взгляд, странную позицию – одобрительно относились к действовавшему в Корее обществу, помогавшему коренным жителям полуострова переселяться в Южно-Уссурийский край России. Несложно понять замысел имперской администрации: во-первых, создать в приграничной зоне – авось пригодится – организованные группы своих подданных, каковыми все коренные жители Корейского полуострова теперь стали; во-вторых, затушевать протестный характер миграции; в-третьих, захватить брошенные в Корее земли.
Освободившись от жёсткого японского запрета, переселенцы стали строить жизнь на новом месте по своим обычаям и традициям. На корейском языке открывались школы (главным образом на средства населения и полулегально, вопреки официальной установке на русификацию). К 1917 году их было уже свыше 180, в них насчитывалось более 5700 учащихся, работало около 260 учителей. К этому времени в крае не осталось ни одной корейской деревни без начальной школы. Открывались национально-культурные центры. С каждым годом надежды эмигрантов обретали всё более радужную окраску. А знакомясь и всё теснее сближаясь с русским народом, его рабочим классом и трудовым крестьянством, корейцы приобщались к новым идеям – освобождения от всякого социального и национального гнёта.
Но, надо признать, процесс этот шёл весьма непросто. Сказывалось неодинаковое правовое положение переселенцев. Все корейцы, оказавшиеся в России, делились на три группы, отмечается в монографии Ким Сын Хва «Очерки по истории советских корейцев»: первая – это лица, прибывшие до 25 июня 1884 года и получившие право на русское подданство; вторая – прибывшие позже, но желающие стать российскими гражданами; третья – корейцы, приехавшие как бы временно, на заработки. Отношения между ними оставляли желать лучшего, да и внутри каждой группы тоже было немало противоречий. Социально-правовое расслоение в среде переселенцев было на руку японским властям, стремившимся использовать любую зацепку, чтобы подогреть в крае конфликты, посеять междоусобицу, вызвать разброд и шатание среди населения.
Однако, пусть с приливами и отливами, идеи социальной справедливости, равенства и братства получили в итоге широкое распространение и прочную поддержку дальневосточных корейцев. А Октябрьская революция и советская власть, дав мощный импульс духовному подъёму, побудили их к строительству новой жизни. В местах компактного проживания наших предков стали создаваться сельские советы, партийные ячейки и общественные организации. Резко ускорилось возрождение образования на родном языке, категорически запрещённом японцами в колониальной Корее и не очень одобрявшемся царской администрацией. Уже в 1924 году был открыт первый корейский сельскохозяйственный техникум, в 1930 – второй и третий, а также корейское отделение высшей коммунистической сельскохозяйственной школы, в следующем, 1931 году – первый и единственный в мире корейский вуз – педагогический институт с тремя факультетами: историко-литературным, физико-математическим и биологическим. За первые десять лет народной власти количество школ на корейском языке увеличилось почти вдвое, а к середине 30-х годов насчитывалось уже 287 начальных, 49 неполных средних и 3 средние школы, был завершён переход к всеобщему начальному и неполному среднему образованию. Посьетский же район, по отчётам, стал территорией сплошной грамотности. На корейском языке функционировали также издательство, театр, выходило семь газет и шесть журналов. Местным чиновникам настоятельно рекомендовалось освоить этот язык, для чего были открыты даже курсы, изданы учебные пособия, словари.
Но вместе с тем самим корейцам было понятно, что без русского образования не обойтись, с ним они связывали свои жизненные перспективы и будущее детей. Поэтому по требованию населения в учебных программах корейских школ стало всё больше часов отводиться русскому языку. Молодые представители малых народов Востока направлялись на учёбу в крупнейшие вузы центра, в частности, в Москву, в Коммунистический университет трудящихся Востока, где высокую должность заместителя директора несколько лет занимал известный борец за освобождение Кореи Хван Танюг. Крепла национальная интеллигенция. Несомненные успехи были достигнуты и в коллективизации: в 1931 году в колхозах состояло уже три четверти всех корейских семей – более 20 тысяч дворов Приморья. Словом, будучи лояльны советской власти, наши предки активно участвовали в проводимых ею мероприятиях, дорожили стабильностью своего положения.
Гром среди ясного неба
Казалось, дальше будет только лучше. Но грянул гром среди ясного неба: на свет был явлен документ, который подаётся во всех нынешних источниках как постановление Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) от 21 августа 1937 года № 1428-326сс (сс – совершенно секретно) «О выселении корейского населения пограничных районов Дальневосточного края». (Почему я так пишу, читатель поймёт из следующей главы.) Вот его полный текст.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1428-З26сс СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР И ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б)
21 августа 1937 года
О выселении корейского населения пограничных районов Дальневосточного края
Совет Народных Комиссаров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП (б) постановляют:
В целях пресечения проникновения японского шпионажа в Дальневосточный край провести следующие мероприятия:
1. Предложить Дальневосточному крайкому ВКП (б), крайисполкому и УНКВД Дальневосточного края выселить все корейское население пограничных районов Дальневосточного края: Посьетского, Молотовского, Гродековского, Ханкайского, Хорольского, Черниговского, Спасского, Шмаковского, Постышевского, Бикинского, Вяземского, Хабаровского, Суйфунского, Кировского, Калининского, Лазо, Свободненского, Благовещенского, Тамбовского, Михайловского, Архаринского, Сталинского и Блюхерово и переселить в Южно-Казахстанскую область, в районы Аральского моря и Балхаша и Узбекскую ССР.
Выселение начать с Посьетского района и прилегающих к Гродеково районов.
2. К выселению приступить немедленно и закончить к 1-му января 1938 года.
3. Подлежащим переселению корейцам разрешить при переселении брать с собою имущество, хозяйственный инвентарь и живность.
4. Возместить переселяемым стоимость оставляемого ими движимого и недвижимого имущества и посевов.
5. Не чинить препятствий переселяемым корейцам к выезду, при желании, заграницу, допуская упрощенный порядок перехода границы.
6. Наркомвнуделу СССР принять меры против возможных эксцессов и беспорядков со стороны корейцев в связи с выселением.
7. Обязать Совнаркомы Казахской ССР и Узбекской ССР немедленно определить районы и пункты вселения и наметить мероприятия, обеспечивающие хозяйственное освоение на новых местах переселяемых, оказав им нужное содействие.
8. Обязать НКПС обеспечить своевременную подачу вагонов по заявкам Далькрайисполкома для перевозки переселяемых корейцев и их имущества из Дальневосточного края в Казахскую ССР и Узбекскую ССР.
9. Обязать Далькрайком ВКП (б) и Далькрайисполком в трёхдневный срок сообщить количество подлежащих выселению хозяйств и человек.
10. О ходе выселения, количестве отправленных из районов переселения, количестве прибывающих в районы расселения и количестве выпущенных заграницу доносить десятидневками по телеграфу.
11. Увеличить количество пограничных войск на 3 тысячи человек – для уплотнения охраны границы в районах, из которых переселяются корейцы.
12. Разрешить Наркомвнуделу СССР разместить пограничников в освобождаемых помещениях корейцев.
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР – В. Молотов
Секретарь Центрального Комитета ВКП (б) – И. Сталин
Выполнялась эта директива в режиме внезапной военной операции. Уже через две недели вглубь страны пошли мононациональные эшелоны. Товарные вагоны с нарами в два яруса уравняли всех в социальном статусе – и простые крестьяне, и учащиеся, и домохозяйки, и малолетние дети, и такие известные на Дальнем Востоке личности, как активный борец за советскую власть Хан Мён Се, видный военно-морской командир, в прошлом начальник штаба одного из антияпонских партизанских отрядов Цой Шен Хак, легендарный командир «Армии справедливости» Хон Бомдо – стали теперь называться спецпереселенцами.
О том, как это происходило, через 75 лет вспоминал один из тогдашних жертв выселения Ли Ги Нам (впоследствии, несмотря ни на что, он получил высшее образование – закончил Ленинградский университет, 30 лет проработал сельским учителем, удостоен звания «Отличник народного образования Узбекской ССР». Переехав в Киргизию, многие годы жил в Бишкеке, умер в январе 2015 года, незадолго до своего 95-летия):
«…6 сентября 1937 года я ездил в Надеждинский райком комсомола на утверждение пионервожатым (ему было тогда 17 лет – В.Ц.). Жили так бедно, что носили одежду всю в заплатках. Чтобы поехать в Надежденский райком комсомола и выглядеть более или менее прилично, мне пришлось попросить рубашку и брюки у соседей. На обратном пути, на мосту через речку Суйчун, я увидел наряд милиции, которого раньше не было. Меня остановили и после допроса, кто я, откуда, отпустили домой. А дома меня ждала новость о том, что нас переселяют в Среднюю Азию и для сборов дали всего девять дней – с первого по девятое сентября (то есть фактически на сборы, получается, дали три дня). В других местах об этом узнали раньше. Люди молча отнеслись к решению правительства. Может быть, и роптали, но никто не слушал и не слышал. Начались поспешные сборы к отъезду. Собирали недозревшее зерно, сушили, рушили, готовили толокно, солили овощи и мясо, конечно, у кого оно было. Домашний скарб был нехитрый: постель да самая необходимая посуда. Привезли нас на грузовых машинах в село Раздольное, где была железнодорожная станция.
Погрузили в грузовые вагоны – двадцатитонники, площадью в 20 квадратных метров. В каждый вагон разместили по 3 – 4 семьи. Вещей разрешалось брать по 30 кг на каждого человека. Нам досталась верхняя сплошная полка. Около стенки лежал больной отец, потом мать с годовалым ребенком – нашим братишкой и мы трое в середине: я, Ги Нам, средний брат Бо Нам, сестра Бондюа. На второй полке напротив нас поместилась другая, тоже многочисленная семья. На полу устроились две другие семьи. Семья моего двоюродного брата Ли И Нам ехала в другом вагоне. Их было шестеро: дед, отец, мать и трое детей. Дед был сильно болен, требовал постоянного ухода за собой. Тут же, в вагоне, все спали, ели, болели, умирали, ходили по нужде. Освещения никакого не было, а пользоваться керосиновыми лампами строго запрещали – боялись пожара. Тяжелее всех было матерям с грудными детьми. По ночам сидели в темноте, рассказывали разные были-небылицы, мечтали о том, что судьба смилостивится над нами и пошлёт нам на новом месте хорошую жизнь. В середине эшелона был один пассажирский вагон, где был оборудован санитарный пункт. Там же находились начальник поезда и сопровождающие милиционеры во главе с майором Пак.
Так начался наш переезд – в антисанитарных условиях с неимоверными трудностями. Свежей водой могли запастись только на разъездах, если останавливался поезд. В крупных населённых пунктах обычно поезд не останавливался, зато на разъездах нас загоняли в тупик на два – три часа. Тогда начиналась беготня – кто за хлебом, кто за водой, кто искал дровишки, чтоб сварить что-нибудь съестное. Если не успевали сварить, котел заносили в вагон и доваривали на следующей остановке. Были случаи, когда приходили работники железной дороги и пинками выбрасывали кастрюли с варевом. В соседних вагонах умирали старики, которых уносили куда-то, женщины рожали детей. В таких кошмарных условиях мы ехали целый месяц. Уму непостижимо, как могли люди всё это выдержать.
На одном разъезде, недалеко от Спасска-Дальнего, рядом оказались два эшелона: один наш, другой – сформировавшийся в Спасске-Дальнем. На этом разъезде чуть не произошла большая трагедия с фатальными последствиями. Как только остановились эшелоны, все молодые ринулись с вёдрами за водой. А всего-то на станции была одна колонка, поэтому выстроилась очередь длиною в километр. Всем нужна была вода, особенно тем, у кого остались в вагоне больные старики и дети. Кому-то нужна была вода срочно, кто-то не хотел ждать своей очереди, и на этой почве началась перебранка. Чувства перехлестнули здравый смысл, и пошла сначала мелкая потасовка, которая переросла в злобную драку между людьми из двух эшелонов. Это было настоящее “мамаево” побоище. Сопровождавшие милиционеры кое-как выстрелами вверх разняли дерущихся и погнали всех в вагоны. Конечно, многие остались без воды, а другие – с увечьями. Так своим разгильдяйством начальнички спровоцировали драку. Правда, потом уже никогда не ставили два эшелона на одной станции.
В Хабаровске поезд стоял около двух часов. Всем нам разрешили посмотреть достопримечательности города. До сих пор не могу понять, с какой целью это было сделано. По-видимому, начальство решило, что корейцы уже больше никогда не вернутся в эти края и поэтому пусть посмотрят в последний раз город.
А ещё труднее было с туалетом – помыться, справить нужду негде. Больные старики оправлялись прямо в вагоне, молодые ещё терпели и ждали остановки. А на остановках все выбегали, садились и женщины, и мужчины прямо на виду у всех. Обстоятельства вынуждали людей терять стыд. Один пожилой мужчина залез под вагон по нужде, но вдруг поезд подался вперед, а потом назад и остановился. Старика сильно ударило колесом, но не раздавило. От сильного ушиба он потерял сознание и истекал кровью. Молодые быстро унесли на руках в санпост. Человек выжил, потом мы его видели на подходе к Узбекистану. Иногда, вспоминая все эти ужасы “переселения”, я прихожу к выводу, что нас вывозили из Дальнего Востока как скот.
Когда проезжали “славное море, священный Байкал», красота озера поразила всех. Я впервые увидел длинный мост, тоннель. Мне было очень больно покидать такой красивый край. Впоследствии, сват Когай Николай рассказывал, что, проезжая мимо, люди выкидывали завернутые в тряпки трупы своих родных из вагонов прямо в Байкал. О славный Байкал, думал ли ты, что когда-нибудь примешь такой “подарок” в свои воды? Какую силу, какой моральный дух надо было иметь людям, чтобы всё это вынести и не сломаться.
В Новосибирске поезд стоял полдня. Объявили банный день. В приказном порядке все должны были сходить в баню. Но старики, особенно больные, конечно, оставались в вагонах, а молодёжь выполнила этот приказ. Потом я понял: высшее начальство боялось, что корейцы могут завести инфекцию, эпидемию какой-нибудь болезни в места, куда их выселяли.
Когда подъезжали к границе Казахстана, в соседнем вагоне у женщины умер грудной ребёнок. Он простудился от сквозняков, от купания в прохладной воде, а лечить не было возможности. Надо было его хоронить, а где взять доски для гробика? Родственники ходили по вагонам в поисках каких-нибудь дощечек. Одна женщина отдала им старенькое маленькое деревянное корытце, освободив его от продуктов. Оно оказалось впору, чтобы уложить в него младенца. Накрыли его бумагой, картонками, старой материей, перевязали верёвочками и стали ждать остановки, которой долго не было. Наконец, поезд остановился на каком-то полустанке на полчаса. За это время люди вырыли могилку – кто палками, кто маленькой тяпкой, а то и руками, чтобы предать младенца земле. Все были удручены этим событием и ещё долго по ночам говорили о том, что может статься с несчастной матерью. Говорили, что время – лучший лекарь. И я, ещё молодой, подумал, что женщина-мать забудет своего младенца и нарожает ещё много других детей. Вспоминая всё это, я содрогаюсь при мысли, что у нас в вагоне, в нашей семье тоже могло такое случиться.
Со станции Арысь по ошибке начальника поезда наш эшелон отправили в сторону Кзыл-Орды. Долго мы ехали по безжизненным сухим степям Казахстана и на всём пути не встретили ни один населённый пункт. Потом повернули нас обратно и всю ночь и день без остановки везли до станции Арысь. Было очень трудно – без воды, без еды, без туалета. А когда приехали, объявили, что наш состав будет тут стоять два часа. Я решил пойти на базар купить арбуз для больного отца. Когда вернулся, эшелона нашего не было. Я не растерялся, хотя был деревенским юношей, обратился за помощью к начальнику станции. Пришлось долго объяснять, так как по-русски говорил я очень плохо. Но начальник сам лично посадил меня в пассажирский вагон, и уже через три станции я встретился со своими. Можно понять, какую тревогу, страх пережила моя семья. Тогда я думал, что есть хорошие люди (начальник станции), а вообще это, оказывается, была их обязанность – не оставлять переселенцев по дороге, обязательно доставлять их на место назначения.
В Чимкенте мы впервые увидели поля хлопчатника, колхозников, работающих до позднего вечера. Что-то знакомое почудилось нам, защемило сердце. Видели виноградники, бахчевые поля, но всё это встревожило нас – какова будет дальнейшая наша судьба в чужом краю.
В Ташкент приехали днём. Мы все знали, что Ташкент – город хлебный. Всем хотелось посмотреть на этот “хлебный” город, но никому не разрешалось выходить из вагонов. В окно мы видели, как забегало начальство с бумагами. Всё-таки некоторые смельчаки выбегали на перрон, покупали узбекские лепёшки, виноград и другие фрукты. Всё это для нас было в диковинку, особенно сладкий виноград. Ведь на Дальнем Востоке виноград был мелкий и кислый. Поезд тронулся через двадцать минут, и мы поехали дальше.
Ровно через месяц, 9 октября 1937 года, наш эшелон из пятнадцати вагонов, наконец, прибыл в пункт назначения – на семьдесят второй разъезд, наверное, Туркестанско-Сибирской железной дороги, – в Паст-Даргомский район Самаркандской области Узбекской ССР. Так закончилась наша трагическая эпопея переселения. Мы проехали следующие крупные населённые пункты: Уссурийск, Спасск-Дальний, Хабаровск, Биробиджан, Благовещенск, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Барнаул, Семипалатинск, Алма-Ата, Джамбул, Чимкент, Ташкент, Джизак, Самарканд и остановились на маленьком разъезде номер семьдесят два…»
А двумя с половиной неделями раньше, 21 сентября 1937 года, то есть ровно через месяц после названного постановления Совнаркома и ЦК ВКП(б) (однако, любили тогда точность!), нарком внутренних дел СССР Николай Иванович Ежов уже докладывал: «выселение корейцев из ДВК по первой очереди заканчивается; в КазССР вывезено 21 296 человек, в УзССР – 30 003 человека, всего семей 10 369».
Итак, 10 369 семей, в которых в общей сложности насчитывалось 51 299 человек, выселено «по первой очереди». Значит, должна была последовать вторая очередь. И вот 28 сентября 1937 года, то есть спустя месяц с небольшим после объединенного постановления СНК и ЦК ВКП(б), родилась новая директива – постановление Совнаркома СССР № 1647-377сс «О выселении корейцев с территории Дальневосточного края».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1647-З77сс
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
28 сентября 1937 г. Москва, Кремль
О выселении корейцев с территории Дальне-Восточного края
Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Выселить со всей территории Дальне-Восточного края всех оставшихся корейцев. Выселение провести в течение октября месяца 1937 года в порядке, установленном для первой очереди выселения.
2. Выселение провести, как и первой очереди: на территорию Казахской ССР (в пределах Актюбинской, 3ападно-Казахстанской, Карагандинской, Южно-Казахстанской областей и Гурьевского округа) – 12.000 хозяйств и на территорию Узбекской ССР (севернее железной дороги) – 9.000 хозяйств.
3. Отпустить Дальне-Восточному крайисполкому и СНК Казахской и Узбекской ССР из резервного фонда Совнаркома Союза ССР средства по утвержденным постановлением СНК СССР от 11 сентября 1937 года за № 1571-356сс расчетам на дополнительную численность в 21.000 хозяйств и стройматериалы – по заявкам СНК Казахской и Узбекской ССР.
4. Обязать Наркомвод и НКПС предоставить, по заявкам Далькрайисполкома и СНК Казахской и Узбекской ССР, морской, речной и железнодорожный транспорт для перевозки переселяемых.
5. Предложить Народному Комиссару Машиностроения отпустить и немедленно отгрузить для Наркомвнуделов Казахской и Узбекской ССР на нужды переселения: грузовых автомобилей (1 и 3-тонны) – по 60 каждой республике, легковых автомобилей М1 – по 3 и тракторов – по 45 штук.
6. Обязать Наркомат Обороны отпустить для оборудования эшелонов 60 походных кухонь.
Председатель СНК Союза CCР – В. Молотов
Управляющий Делами СНК Союза ССР – Н. Петруничев
Таким образом, «театр действий» резко расширялся, а масштаб возрастал. На 25 октября того же 1937 года было отправлено только в Казахстан 20 170 семей, 92 256 человек, в Узбекистан – 15 272 семьи, 76 525 человек, а всего в 124 эшелонах вывезено в эти республики 36 442 семьи, 171 781 человек, причём с опережением директивных сроков – исполнители прямо выпрыгивали из себя, демонстрируя служебное рвение, спеша рапортовать об «успехах», что усложнило и без того острую проблему с размещением прибывших в новых местах. «Ни в Казахстане, ни в Узбекистане, – пишет доктор исторических наук, профессор Г. Ким в монографии «История иммиграции корейцев», – принять и устроить такое большое количество людей не были готовы. По ходу депортации число корейских хозяйств, подлежащих приёму и размещению, выросло на 30–40 процентов по сравнению с первоначально указанной цифрой, менялись регионы, области и районы вселения и количественное распределение переселенцев, что создавало дополнительные трудности в их обустройстве». Заметьте: «усердие» исполнителей многократно умножило беды людей. (Встречающийся в приведённой цитате термин «депортация», от лат. deportatio – изгнание, ссылка, в строгом значении слова, согласно решениям Нюрнбергского международного трибунала, уместен, когда речь идёт о перемещении людей из одной страны в другую в условиях оккупации. Так что здесь и дальше он несёт несколько иной смысл – как принудительная высылка большого числа людей в другую местность, обычно под конвоем.)
Типичным примером того, с каким трудом корейцы налаживали свою жизнь в новых местах, может служить история казахстанского колхоза «III Интернационал». Это хозяйство образовалось в 1929 году на Дальнем Востоке, в селе Пианка Никольского района Уссурийской области под названием «Кедровая звезда». Рано утром 3 сентября 1937 года оно, по свидетельству очевидцев, внезапно было окружено военными, а 5 сентября под строгим надзором спешно загнано в товарные составы и отправлено в казахские степи. Многие не успели даже продать свои дома, живность, собрать урожай. В конце сентября «Кедровую звезду» в числе двух других дальневосточных хозяйств – «Червонная земля» и «Утренняя заря» выгрузили в Кармакчинском районе Кызыл-Ординской области, на маленькой станции Джусалы. Приезжим местность показалась безжизненной. Кругом жёлто-бурая голая земля, даже трава росла редкими чахлыми кустиками, деревьев почти не видно, пыль, поднимаемая порывами ветра, застилала горизонт… Было от чего прийти в уныние.
«Новосёлов» разместили в сорока километрах от районного центра, среди сплошных зарослей камыша высотой в три–четыре метра: «Кедровую звезду» и «Червонную землю» – на участке Кашкансу, а «Утреннюю зарю» – на участке Акжарма. Старики рассказывали, что там даже водились камышовые тигры (наверное, камышовые кошки). Люди пришли в ужас, когда увидели, куда их привезли. Многих охватило отчаяние. Почему?! За что?! В чём они оказались виноваты? Ведь трудились на совесть, поднимали земледелие, сельское хозяйство, улучшали жизнь…
Когда тоска становилась невыносимой, спецпереселенец Ким Тен Себ доставал бережно хранимую им газету «Известия» за 4 января 1936 года. В ней было напечатано его, председателя колхоза «Утренняя заря» Ханкайскоro района Дальневосточноro края, выступление на совещании «передовиков урожайностн по зерну, тракторнстов н машиннстов молотилок» с руководителями партии и правительства. Он снова перечитывал текст, хотя знал его почти назубок:
«Товарищи, разрешите передать горячий колхозный привет от колхозников и колхозниц – корейцев Дальневосточного края руководителям партии и правительства и великому вождю, другу и учителю трудящихся и угнетённых народов всего мира товарищу Сталину.
Наш корейский колхоз «Утренняя заря» находится в пограничной полосе Ханкайского района. Колхоз организован в 1925 году. Вначале в колхоз вступило 46 дворов, а сейчас в колхозе всё село, состоящее из 141 двора. Я вспоминаю нашу корейскую жизнь в старое, до Октябрьской революции, время, безземелье, постоянный голод и эксплуатацию со стороны помещиков и купцов. Благодаря Октябрьской революции, благодаря ленинско-сталинской национальной политике корейское трудящееся крестьянство Дальневосточного края получило равноправие, получило землю, вступило в семью народов Советского Союза. (Аплодисменты). Наш колхоз имeeт сейчас семь тысяч гектаров навечно закреплённой земли, из которых тысяча гектаров нами освоена.
В этом году мы посеяли риса 550 га, или 107 процентов по отношению к плану. Урожай с гектара на 67 га получили по 244 пуда, а со всей площади – по 183 пуда с гектара. Высокий урожай нами достигнут потому, что мы отказались от первобытного способа рисосеяния – сеять не по паханому и ожидать срока сева к 15 мая, сеять только в воду. Мы сделали хорошую рисовую плантацию, правильную оросительную систему. Применили глубокую пахоту, дискование, высеваем рис в почву, а не в воду. Сеем в ранние сроки, после чего уже соблюдаем правильный водяной режим. Своевременно три раза пропололи всходы и при прополке применили новый способ – боронование деревянной бороной. Провели в сжатые сроки уборку.
Эти агротехнические мероприятия и добросовестный труд колхозников обеспечили получение такого высокого урожая. Собрали мы риса всего 100 тысяч пудов. С государством по натуральной оплате и семенной ссуде рассчитались своевременно. Кроме того, продали по хлебозакyпy 49 977 пудов риса.
Сейчас в колхозе мы имеем 2 грузовые машины и купили ещё две машины, купили 12 вагонов леса, имеем молочно-товарную ферму из 152 коров и тёлок, свиноферму на 189 свиней , птицеферму на 427 гусей и уток. Рабочих лошадей – 91 голову. Наши колхозники в этом году получили на трудодень по 6 кг риса и деньгами по 2 рубля. Некоторые колхозники , как Хо Ен Тю, получили в этом году 270 пудов риса. Такого количества риса он никогда в своей жизни ещё не имел. Наши колхозники становятся зажиточными. Сейчас 110 колхозников имеют велосипеды, 113 семей – швейные машины.
Имеем 2 школы первой ступени и неполную среднюю школу. Имеем избу-читальню, клуб, парикмахерскую, баню и медицинский пункт.
Раньше корейцы пугались одного вида машины, а теперь из членов нашего колхоза подготовлены 2 механика, 3 тракторных бригадира, 45 трактористов, 5 шоферов; 9 колхозников учатся на агрономов, двое – в коммунистическом вузе.
Я даю слово товарищу Сталину в 1936 году посеять риса по колхозу 600 гектаров и получить урожай на 100 гектарах по 300 пудов и на остальных не менее как 240 пудов с гектара.
Да здравствует товарищ Сталин! (Бурные аплодисменты)».
Слово своё колхозники в тот год сдержали, а нынче могли бы достичь ещё большего. И вот на тебе! Жизнь, которую они оставили там, на востоке, вспоминалась теперь как сказка, а края, откуда они прибыли, казались земным раем. Но всех строго-настрого предупредили: никаких мыслей о возвращении, тем более о побегах. Делать было нечего, пришлось думать, как выживать.
Каждой семье выдали по мешку муки. Припасы, что удалось довезти, быстро кончились, переселенцы голодали. Пекли лепёшки из мякины и листьев одуванчика, куда добавлялось немного сахарина. Когда жуёшь такой хлеб – автор этих строк тоже не раз его ел, – во рту колется, а глотать вообще трудно – горло дерёт. Ослабевшие люди стали часто болеть, умирали. Не хватало витаминов – появилась цинга, куриная слепота. А потом вспыхнул брюшной тиф. Особенно страдали дети. Конечно, местные власти старались помочь переселенцам, ввели медицинское наблюдение, завезли сухофрукты, но возможностей у них было маловато.