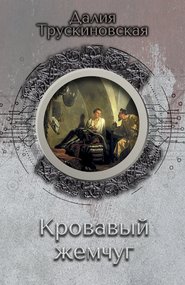скачать книгу бесплатно
Этот конюх из троицы ему больше всего по душе пришелся. Грубоватый, суровый Тимофей и задира Богдан, может, больше о нем заботились, могли и до подьячего, и до самого дьяка дойти, добиваясь каких-то благ для Данилки. Тихий Семейка же просто был рядом, то словом ободрит, то нужную в деле ухватку покажет, и все без суеты, все – ласково…
Ради Семейки-то и позволил Данилка себя уговорить.
Похороны были обыкновенные. Тимофей, не будучи родственником, на видное место ни в церкви при отпевании, ни на кладбище не лез. За поминальный стол их с Данилкой усадили поближе к Федору Афанасьевичу с Федотом, и купец при всех отметил благодеяние обоих конюхов.
Некоторое время спустя Данилка догадался наконец, зачем это он Озорному в Москве понадобился. Тимофей попросту напился. Да и непристойно было на поминках оставаться трезвому. Озорной соблюл обычай до такой степени, что заснул рожей в миске с квашеной капустой. Данилка на миг лишь один отвернулся, а этот уж и примостился! Изумившись, Данилка извлек из капусты спящего товарища и поволок его от стола прочь. Сам он выпил ровно столько, чтобы все видели – угощением не брезгует.
Потом он имел немалую мороку – доставить товарища в Аргамачьи конюшни. Данилка, конечно же, нанял извозчика, и тот помог взгромоздить на тележку увесистого Тимофея, но въезжать в самый Кремль Боровицкими воротами ни один извозчик не имел права, да там же еще и дорога круто подымается вверх! Взмок Данилка, покуда сдал Озорного с рук на руки Семейке, а тот уложил поминальщика на сеновале.
– Неужто трезвый? – спросил, принюхиваясь к Данилке, Семейка.
– Какое там!
– Не умеешь ты пить. А надо бы научиться.
– Чтобы и меня поперек телеги домой привозили?
Семейка тихонько рассмеялся.
– Ложись-ка, – посоветовал.
Данилка и лег.
Проснулся он, конечно, не к самой первой утренней трапезе, перехватке, а уже к полднику. Семейка припас для него хлеба, нарезал сала и луковицу, налил кваса – чем плохо? Вздумали было разбудить Тимофея, да отступились. Храпел Озорной так, что заслушаешься.
– Вот те раз! – огорчился Данилка. – Нам же в Коломенское возвращаться! Как раз он нас под батоги подведет!
– Не тронь его, – посоветовал Семейка. – Сходи-ка лучше умойся как следует. А то и ты бывалым питухом глядишь.
Данилка долго плескал в рожу холодной водой. И даже до того додумался, что коли Тимофей добром не проснется, быть ему мокрым с головы до ног. Батоги за ослушанье – это было такое лакомство, без которого Данилка вполне бы обошелся. Но до крайних мер дело не дошло.
– Данила, поди сюда! – позвал Семейка из шорной. Он там сидел на коробе, скрестив ноги, и чинил подпругу.
Свежеумытый Данилка вошел.
– Я сегодня потеху смотреть иду, – сказал Семейка. – Купец у меня знакомый есть, в гости позвал. Говорит, если кого из товарищей с собой возьмешь, то и ладно, лишь бы языком не трепал.
– А что за потеха? – удивленно спросил Данилка.
– А скоморохи. Придут к тому купцу в сад потешить самого, и женку, и детишек.
– Неужто не боятся на Москву приходить? – удивился Данилка, слыхивавший, что более десяти лет назад всех скоморохов по цареву указу из Москвы выбили вон, и со всеми их гуделками да харями, и с плясовыми медведями.
– Черта ли они испугаются! Которые пугливые, те на север подались, – отвечал Семейка. – А иные так на Москве жить и остались. Только без лишнего шума. Захочет какой человек семью потешить – они и приходят в сад или, по зимнему времени, в сарай, или в подклет, или даже иных в горнице привечают.
– И медведя в горницу ведут? – обрадовался было Данилка.
– Ведут, ведут! – обнадежил Семейка и, завязав узел, откусил нитку. – И с боярыней спать укладывают. Так что же – пойдешь?
После того как Богдан Желвак, Тимофей Озорной и Семейка Амосов взяли Данилку под свою опеку, он понял, что жить на Москве не так тоскливо, как сперва ему показалось.
Из Аргамачьих конюшен он мог наблюдать, кроме спешащего по делам народа, лишь богомольцев. Когда в праздничный день Москва гудела от колоколов, он представлял, как все эти люди, от царя до мальчишки, что бегает по торгу с лукошком пирогов, идут степенно в храмы, и выстаивают там службы по шесть часов, и выходят, и обедают дома, и читают за столом что-нибудь про святых и мучеников, и вновь идут стоять в церкви, и ничего, кроме этого знать не знают и не желают.
Оказалось же, что все совсем не так.
Хотя книжки на Печатном дворе, что на Никольской, выпускали только божественного содержания, да еще буквари для детей, во всех домах были и самодельные тетрадки, и рукописные книги, порой весьма скоромные, которыми менялись, давали на время, даже дарили. Разжиться рукописной книгой было несложно даже не выходя из Кремля – коли не хочешь заказать переписать у монахов в Чудовой обители, то в Посольском приказе договорись с писцом. А потом собери в горнице близких да вели читать человеку, кто этому делу навычен.
После государевых польских походов оказалось, что и за пределами Москвы люди неплохо живут. Из Смоленска, из Литвы, с Украины повезли в Москву мебель, картины, книги, и первым в этом деле был сам государь Алексей Михайлович. А те пленные, что не только разговаривали, но и умели складно писать по-польски, разумели, как положено католикам, латынь, прижились в домах у знати, учили детей, в том числе и вирши слагать. Правда, иным и перекреститься пришлось, не без этого…
Кроме того, Москва любила шахматы. Эту забаву сам государь одобрял. В редком доме, хозяин которого считал себя человеком почтенным, не было доски и мешка с фигурами, иные попадались дорогие – каменные, на серебряных или даже золоченых донцах.
И вот, на тебе, скоморохи!
– Пойду, конечно! – радостно отвечал Данилка. – А это надолго?
– Нет, ненадолго. Как раз успеешь отобедать да и поедете с Тимофеем в Коломенское.
– Что ж его не зовешь? – Данилка понадеялся было, что хоть таким образом удастся разбудить Озорного, да промахнулся.
– А у него опять мысли божественные, – объяснил Семейка. – Раза два или три в году с ним такое бывает. Как-то перепугал нас с Желваком – в пустынь задумал уйти, жить в малой хижинке и молчать. И непременно чтобы медведь из чащобы приходил у него из рук хлебную корочку брать. Так складно толковал – мы заслушались. Потом только Богдаш додумался! Ты, говорит, на себя погляди! Ты, говорит, припомни, сколько за обедом уминаешь! Поголодаешь ты в лесу недельки две и обратно к людям приползешь. Уж лучше не начинать, чем так-то позориться. И Господь, говорит, только тот крест на человека взвалит, который нести под силу. А ты что же – умнее Господа быть задумал?
Данилка вспомнил, как Тимофей стоял в Троице раннюю обедню, а также переговоры Озорного с братом Кукшей. Монастырю заполучить такого инока было бы неплохо – глотка здоровенная, как раз в дьяконы со временем определят, и работник не слабый.
– Стало быть, у него как раз теперь такое время? – уточнил парень, сделав при этом в памяти зарубочку, что за Озорным нужен присмотр.
– Да, свет. Одно спасенье – когда попы про Тимофея вспомнят и в дьяконы его принимаются звать, ему больше на конюшнях жить охота, а как они от него отстанут, рукой на него махнут, тут в нем тяга-то к святости и просыпается, да только идти на попятный неловко…
Семейка сложил работу, приладил седло вместе с подпругой на положенный ему торчок в стене, одернул рубаху и всем видом показал, что готов в дорогу.
Они вышли Спасскими воротами и пошли, и пошли, беседуя о пустяках, а когда прибыли, то и оказалось, что двор Данилке знаком. Это были хоромы купца Белянина.
Семейка постучал, привратник отозвался.
– Хозяин в гости просил, – сказал Семейка. – Скажи – стряпчий конюх Семен Амосов с Аргамачьих конюшен пришел, и с товарищем.
– Входи скорее! – велел привратник.
Данилка с Семейкой оказались во дворе, и сразу же за ними закрылась калитка.
– Вон туда иди, за угол и направо, – объяснил привратник.
– Богато живут, – одобрил купеческое хозяйство Данилка. – Славный у тебя знакомец.
И всем видом дал понять, что не прочь услышать, как конюх таким знакомцем обзавелся.
Семейка понял.
– Было дело – далече от Москвы я хозяина встретил. Мне возвращаться нужно было, он взмолился – со своими грамотками и его письмецо быстро отвезти. Не то, мол, погибнет. Мне-то что, я и государеву службу исполнил и ему помог. Привез письмецо, отдал кому велено, ни гроша не получил, ну и поехал прочь. А потом он вернулся, меня отыскал, в ноги кланялся, прощенья за свою родню просил. Я к нему в лавки и заходить уж боюсь – он сидельцам велел меня как отца родного принимать.
Они вышли на задний двор, и Семейка прервал рассказ.
Там уж все было готово к представлению. Место выбрали удачно – зрители расположились в тени от терема, площадка для скоморохов была на свету, там, где уже начинался сад. Высокое крыльцо заняли бабы и девки, впереди сидела хозяйка с детишками. Хозяин велел вынести себе кресло. Он уже восседал, расставив крепкие ноги, упираясь в колени кулаками. Дворня стояла за его спиной. Семейка с Данилкой подошли и стали вместе со всеми, чуть сбоку.
Видно было, как за кустами смородины готовились тешить хозяев скоморохи.
– И девки-плясицы будут, – пообещал Семейка. – И гудошники!
– А медведи?
Уж кого Данилке не терпелось увидеть, так это плясового медведя.
– Тихо ты… – прошептал Семейка. – Гляди, гляди!
Из-за кустов появились трое – два в рубахах и портах, с которых свисали цветные лоскутья, в шапках, утыканных перьями, ветками и непонятно чем еще, с личинами из расписанной бересты, имеющими выдающийся нос и пакляную бороду, третий же – в рубахе без лоскутьев, при своей роже и своей бороде, но, начиная от пояса, был на нем холщовый балахон, понизу топорщащийся, а на самом поясе болтались какие-то с кулак величиной рожицы. Он встал в сторонке, всем видом показывая, что и до него дело дойдет.
Один из тех, что с берестяной харей, высокий, плечистый, шагнул вперед и низко поклонился купцу Белянину.
– Дай Боже здоровья на много лет хозяину с хозяюшкой, и деткам, и всему дому, а нам, веселым – вас, умных, потешить, в вашу честь – да пирог с капустой съесть!
– Будет вам пирог, будет, – отозвался купец. – Коли славно потешите!
– А что, хозяин, все ли у тебя в дому парни женаты? Нет ли холостого? – подходя поближе, полюбопытствовал скоморох. – Вон, вон стоит – не просватали ль еще?
И указал надетой на руку, невзирая на летнее время, преогромной рукавицей прямиком на Данилку.
– Ишь, высмотрел!.. – прошипел Семейка.
Данилка же окаменел – отродясь его скоморохи женить не пытались, и потому, будучи ухвачен за руку, позволил вывести себя на общее посмешище.
Купец кинул сердитый взгляд на пожилого мужика, стоявшего рядом, надо думать – приказчика, но тот, судорожно разводя руками, дал понять – мол, сам не ведаю, отколе этот детина взялся!
– Есть у меня для тебя, молодец, невеста, свет-Хавроньюшка любезна! Моя родная дочка, из себя кругла, как бочка! Богатенькая – ух! Бери – не пожалеешь! – уже не обычным, каким приветствовал хозяев, а каким-то дурным и избыточно веселым голосом завопил скоморох. – Добра у нее – полтора двора крестьянских промеж Лебедяни, на Старой Рязани, не доезжая Казани, где пьяных вязали!
– Меж неба и земли, поверху леса и воды! – подхватил таким же пронзительным звоном второй скоморох. – И живут там три бабы, что разумом слабы, четыре человека в бегах, да трое – в бедах! Ий-й-й!..
С таким нечеловеческим криком он выскочил вперед и довольно ловко прошелся колесом, потом шлепнулся на зад, ноги растопырил, уперся руками перед собой и снова взвизгнул.
Купеческая дворня захохотала – до того это все вышло неожиданно.
Две девки-плясицы в летниках и рубахах с рукавами неслыханной длины и ширины, вышли из-за кустов, улыбаясь. Были они в высоких берестяных кокошниках и так нарумянены свекольным соком, что и смотреть было жутковато.
– А хоромного строения – два столба в землю вбито, третьим прикрыто! – продолжал сват, решительно вцепляясь Данилке в руку, чтобы жених не удрал. – Труба еловая, печка сосновая, заслонка не благословенная – гли-ня-на-я!!!
Уж так он это слово выпел – листва на яблоньках шелохнулась, а бабы с девками немедленно заткнули уши.
– Четверо ворот – и все в огород! – звонким юным голосом подсобил переводящему дух товарищу так и оставшийся сидеть на земле скоморох. – А в амбарах пять окороков капустных да десять пудов каменного масла! Да две кошки дойных, да два ворона гончих!..
Тут плясицы зачем-то подошли еще ближе и одна поднесла ко рту ширинку. Величиной та ширинка была мало чем поменьше простыни.
– Да на тех же дворах конюшня, в ней четыре журавля стоялых, один конь гнед, а шерсти на нем нет! – словно вспомнив, заголосил сват. – Передом сечет, а задом волочет! Рогатого скота – петух да курица, а медной посуды – крест да пуговица!
Про коня он выпел, явственно обращаясь к Данилке.
– Перина ежового пуха, разбивают каждое утро в три обуха! – пронзительно подсказал снизу сидящий скоморох. – Два ухвата да четыре поганых ушата! Шуба из кошачьего меху – объели крысы для смеху! Воротник – енот, тот, что лает у ворот! Еще шуба соболья, а другая – сомовья, крыто сосновою корой, кора снимана в Филиппов пост, подымя хвост! Серьги серебряные, позолоченные, медью околоченные!
Дальше он продолжать не мог – да и незачем было, все равно никто бы уж ничего не слышал и не понял.
Купец с купчихой в своих креслицах уж прямо сидеть не могли – чуть ли не рыдали. Девки и бабы, окружавшие купчиху, еще стеснялись громко хохотать – прикрывали рты ширинками. Но вот молодцы, вся мужская челядь, ржали как жеребцы стоялые, хлопая себя по ляжкам.
– А повенчаем мы вас Великим постом, да под Воскресенским мостом, где меня бабушка крестила, на всю зиму в прорубь опустила! – перекрывая хохот, завопил стоящий скоморох. – Лед-то раздался, а я такой чудной и остался!
И бойко захлопал себя по бокам, по груди, даже, задирая ноги, по самым подошвам! И пошел, пошел, частя ногами, пришлепывая ладонями!
– А придут на свадьбу курица да кошка, пономарь Ермошка, лесная лисица да старого попа кобылица! – подсобил сидящий скоморох, да вдруг приподнял над землей зад да и запрыгал лягушкой на одних руках.
Зрители от изумления и смеяться забыли.
– Хозяин, хлебушка! – завизжал, оказавшись у самых купеческих колен, скоморох-лягушка.
– Да будет тебе, будет!.. – Купец утирал кулаком невольные слезы.
Плясавший скоморох резко остановился и погрозил товарищу кулаком.
– Не проси, Филатка! Знаю я, как тут хлебы пекут! – дерзко заявил скоморох. – Сверху подгорели, снизу подопрели, по краям тесто, а в середке пресно! Пирог с начинкой, с телячьей овчинкой, с собачьей требухой – ишь, какой! А жареного у вас – бычьи рога да комарина нога! И варят у вас суп из дванадцати круп, складут две ноги лосины да две лошадины, да две пропадины. Хлебнешь – и ногами лягнешь! Стой, куда?!?
Это относилось к Данилке, который, видя, что о нем вроде бы позабыли, попытался улизнуть. Но парень был схвачен за руку и выброшен вперед, навстречу размалеванным девкам.
Они подтолкнули друг дружку локотками – да и взвизгнули, словно бы отправлялись в полет на саночках с высокой горки.
Тут же скоморох-лягушка, непонятно откуда добыв дудку, сел наземь и переливчато засвистел.
– Я не в Киев пошел, я не в Астрахань пошел, я не пенье ломать, не коренье корчевать, я невесту выбирать! – запела голосистая девка, не давая Данилке дороги, и тут же к ней присоединилась подружка: – Без белил девка бела, без румянцу румяна, то невеста моя!
И пошли они по кругу, поводя плечами, взмахивая рукавами, и такой ширины был этот круг, что веселые девки проплыли прямо впритирочку к возбужденным мужикам и парням, иного мазнув по носу, иному – показав язык…
– Молчите, дуры! – велел им главный скоморох. – Я жениха уговариваю! У меня, свет, в Охотном ряду лавки стоят – по правой стороне это не мои, а по левой вовсе чужие. Был и я купцом, торговал кирпичом и остался ни при чем. Теперь живу день на воде, день на дровах, и камень в головах. А ты, батюшка мой, чем торгуешь?
– А красным товаром, – принимая игру, отвечал Белянин. – Не хочешь ли чего купить?
– У меня и своего товара богато! – подбоченился скоморох. – Три опашня сукна мимозеленого, драно по три напасти локоть, да крашенинные сапоги, да ежовая шапка, да четыреста зерен зеленого жемчугу, да ожерелье пристяжное, в три молота стегано, да восемь перстней железных, каменья в них лалы, из Неглинной брали, телогрея мимокамчатая, кружево берестяное…
И вдруг встал, прислушиваясь.
Опытным ухом он первый уловил тревогу.
– Дёру! – только и приказал.
И тут же его сотоварищи принялись срывать с себя личины, скоморошьи пестрые наряды, девки сдернули берестяные кокошники, под которыми оказался обычный девичий убор – повязки со свисающими концами. Скоморох-кукольник освободился от своего балахона вместе с прицепленными к поясу кукольными головками и ловко все это смотал.