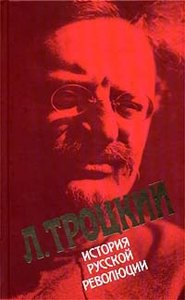скачать книгу бесплатно
Спекуляция всех видов и игра на бирже достигли пароксизма. Громадные состояния возникали из кровавой пены. Недостаток в столице хлеба и топлива не мешал придворному ювелиру Фаберже хвалиться тем, что никогда еще он не делал таких прекрасных дел. Фрейлина Вырубова рассказывает, что ни в один сезон не заказывалось столько дорогих нарядов, как зимой 1915/16 года, и не покупалось столько бриллиантов. Ночные учреждения были переполнены героями тыла, легальными дезертирами и просто почтенными людьми, слишком старыми для фронта, но достаточно молодыми для радостей жизни. Великие князья были не последними из участников пира во время чумы. Никто не боялся израсходовать слишком много. Сверху падал непрерывный золотой дождь. «Общество» подставляло руки и карманы, аристократические дамы высоко поднимали подолы, все шлепали по кровавой грязи – банкиры, интенданты, промышленники, царские и великокняжеские балерины, православные иерархи, фрейлины, либеральные депутаты, фронтовые и тыловые генералы, радикальные адвокаты, сиятельные ханжи обоего пола, многочисленные племянники и особенно племянницы. Все спешили хватать и жрать, в страхе, что благодатный дождь прекратится, и все с негодованием отвергали позорную идею преждевременного мира.
Общие барыши, внешние поражения, внутренние опасности сблизили между собою партии имущих классов. Разъединенная накануне войны Дума получила в 1915 году свое патриотически-оппозиционное большинство, принявшее название «прогрессивного блока». Официальной целью его было объявлено, разумеется, «удовлетворение нужд, вызванных войною». Слева не вошли в блок социал-демократы и трудовики, справа – заведомо черносотенные группировки. Все остальные фракции Думы – кадеты, прогрессисты, три группы октябристов, центр и часть националистов – входили в блок или примыкали к нему, как и национальные группы: поляки, литовцы, мусульмане, евреи и пр. Чтобы не испугать царя формулой ответственного министерства, блок требовал «объединенного правительства из лиц, пользующихся доверием страны». Министр внутренних дел князь Щербатов тогда же охарактеризовал прогрессивный блок как временное «объединение, вызванное опасениями социальной революции». Чтобы понять это, не нужно было, впрочем, большой проницательности. Милюков, возглавлявший кадет, а тем самым и оппозиционный блок, говорил на конференции своей партии: «Мы ходим по вулкану… Напряжение достигло последнего предела… Достаточно неосторожно брошенной спички, чтобы вспыхнул страшный пожар… Какова бы ни была власть, – худа или хороша, – но сейчас твердая власть необходима более, чем когда-либо».
Надежда на то, что царь под тяжестью поражений пойдет на уступки, была так велика, что в либеральной печати появился в августе готовый список предполагаемого «кабинета доверия», с председателем Думы Родзянко в качестве премьера (по другой версии, на эту роль намечался председатель Земского союза князь Львов), с министром внутренних дел – Гучковым, иностранных дел – Милюковым и т. д. Большинство этих лиц, предназначавших себя для союза с царем против революции, оказались через полтора года членами «революционного» правительства. Такие выходки история позволяла себе не раз. На этот раз шутка оказалась, по крайней мере, короткой.
Большинство министров кабинета Горемыкина было не менее кадет запугано ходом дел и потому склонялось к соглашению с прогрессивным блоком. «Правительство, которое не имеет за собою доверия ни носителя верховной власти, ни армии, ни городов, ни земств, ни дворян, ни купцов, ни рабочих, не может не только работать, но и существовать. Это очевидный абсурд». Такими словами князь Щербатов оценивал в августе 1915 года то правительство, в котором он сам состоял министром внутренних дел. «Если только обставить все прилично и дать лазейку, – говорил министр иностранных дел Сазонов, – то кадеты первые пойдут на соглашение. Милюков – величайший буржуй и больше всего боится социальной революции. Да и большинство кадетов дрожат за свои капиталы». С своей стороны, и Милюков считал, что прогрессивному блоку придется «кое в чем поступиться». Торговаться готовы были, следовательно, обе стороны, и дело казалось совсем на мази. Но 29 августа премьер Горемыкин, отягощенный годами и почестями бюрократ, старый циник, делавший политику меж двух гранпасьянсов и отговаривавшийся от всяких жалоб тем, что война его «не касается», выехал в ставку к царю с докладом и вернулся с сообщением, что все и вся должны оставаться на месте, кроме строптивой Думы, которая должна быть распущена 3 сентября. Чтение царского указа о роспуске Думы было выслушано без единого слова протеста: депутаты прокричали царю «ура» и разошлись.
Каким же образом царское правительство, ни на кого, по собственному признанию, не опиравшееся, продержалось после этого еще свыше полутора лет? Временные успехи русских войск оказали несомненно свое действие, подкрепленное действием благодатного золотого дождя. Успехи на фронте, правда, скоро прекратились, но прибыли в тылу продолжались. Однако главная причина упрочения монархии за двенадцать месяцев до ее низвержения коренилась в резкой дифференциации народного недовольства. Начальник московского охранного отделения доносил о поправении буржуазии под влиянием «страха пред возможностью революционных, после войны, эксцессов»: во время войны, как видим, революция все еще считалась исключенной. Промышленников тревожило, сверх того, «заигрывание некоторых руководителей военно-промышленных комитетов с пролетариатом». Общий вывод жандармского полковника Мартынова, для которого не бесследно прошло профессиональное чтение марксистской литературы, гласил, что причиной некоторого улучшения политической обстановки является «все более и более прогрессирующая дифференциация общественных классов, вскрывающая резкие противоречия в их интересах, особенно остро чувствуемые в переживаемое время».
Роспуск Думы в сентябре 1915 года был прямым вызовом буржуазии, а не рабочим. Но в то время как либералы расходились при криках «ура», правда, не очень восторженных, рабочие Петрограда и Москвы ответили стачками протеста. Это еще более охладило либералов: они пуще всего боялись вмешательства непрошеного третьего в их семейный диалог с монархией. Но что делать дальше? Под легкое ворчанье левого крыла либерализм остановил свой выбор на испытанном рецепте: стоять исключительно на легальной почве и сделать бюрократию «как бы ненужной» путем выполнения патриотических функций. Список либерального министерства пришлось во всяком случае отложить.
Положение тем временем ухудшалось автоматически. В мае 1916 года Дума была снова собрана, но никто, собственно, не знал зачем. Призывать к революции Дума во всяком случае не собиралась. А кроме этого ей нечего было сказать. «В этой сессии, – вспоминает Родзянко, – занятия шли вяло, депутаты неисправно посещали заседания… Постоянная борьба казалась бесплодной, правительство ничего не хотело слушать, неурядица росла, и страна шла к гибели». В страхе буржуазии перед революцией и в бессилии буржуазии без революции монархия почерпала в течение 1916 года подобие общественной опоры.
К осени положение еще более обострилось. Безнадежность войны стала очевидной для всех, возмущение народных масс грозило вот-вот перелиться через край. Атакуя по-прежнему дворцовую партию за «германофильство», либералы считали в то же время необходимым прощупать шансы мира, подготовляя свой завтрашний день. Только так и объясняются стокгольмские переговоры одного из вождей прогрессивного блока, депутата Протопопова, с немецким дипломатом Варбургом в Стокгольме осенью 1916 года. Думская делегация, нанесшая дружественные визиты французам и англичанам, могла без труда убедиться в Париже и Лондоне, что дорогие союзники намерены во время войны выжать из России все жизненные соки, чтобы после победы сделать отсталую страну главным полем своей экономической эксплуатации. Разбитая Россия на буксире победоносной Антанты означала бы колониальную Россию. Русским имущим классам не оставалось иного выхода, как попытаться высвободиться из слишком тесных объятий Антанты и найти самостоятельный путь к миру, использовав антагонизм двух могущественных лагерей. Свидание председателя думской делегации с немецким дипломатом, как первый шаг на этом пути, означало и угрозу по адресу союзников с целью добиться уступок, и прощупывание действительной возможности сближения с Германией. Протопопов действовал в согласии не только с царской дипломатией, – самое свидание происходило в присутствии русского посла в Швеции, – но и со всей делегацией Государственной думы. Попутно либералы преследовали этой разведкой немаловажную внутреннюю цель:
положись на нас, намекали они царю, и мы тебе устроим сепаратный мир лучше и надежнее Штюрмера. По плану Протопопова, т. е. его вдохновителей, русское правительство должно было известить союзников «за несколько месяцев вперед», что вынуждено прекратить войну, причем если бы союзники отказались от ведения мирных переговоров, Россия должна была заключить сепаратный мир с Германией. В своей исповеди, написанной уже после революции, Протопопов говорит как о чем-то само собою разумеющемся: «Все разумные люди в России, в числе их едва ли не все лидеры партии „народной свободы“ (ка-де), были убеждены, что Россия не в состоянии продолжать войну».
Царь, которому Протопопов по возвращении докладывал о поездке и переговорах, отнесся к идее сепаратного мира с полным сочувствием. Он только не видел оснований привлекать к этому делу либералов. То, что сам Протопопов мимоходом включился в состав дворцовой камарильи, порвав с прогрессивным блоком, объясняется личным характером этого фата, влюбившегося, по собственным словам, в царя и царицу и заодно – в неожиданный портфель министра внутренних дел. Но эпизод протопоповской измены либерализму нисколько не меняет общего смысла либеральной внешней политики как сочетания жадности, трусости и вероломства.
1 ноября снова собралась Дума. Напряжение в стране стало невыносимым. От Думы ждали решительных шагов. Надо было что-нибудь сделать или, по крайней мере, сказать. Прогрессивный блок снова оказался вынужден прибегнуть к парламентским обличениям. Перечисляя с трибуны главнейшие шаги правительства, Милюков каждый раз спрашивал: «Глупость это или измена?» Высокие ноты взяты были и другими депутатами. Правительство почти не нашло защитников. Оно ответило по-своему: речи думских ораторов были запрещены для печати. Они разошлись поэтому в миллионах экземпляров. Не было правительственной канцелярии не только в тылу, но и на фронте, где не переписывались бы запретные речи, нередко с дополнениями, отвечавшими темпераменту переписчика. Резонанс прений 1 ноября был таков, что обдал жутью самих обличителей.
Группа крайних правых, матерых бюрократов, вдохновлявшихся Дурново, усмирителем революции 1905 года, подала в этот момент царю программную записку. Глаз многоопытных сановников, прошедших серьезную полицейскую школу, видел кое-что неплохо и достаточно далеко, и если их рецептура была негодной, то лишь потому, что против болезней старого режима вообще не существовало лекарства. Авторы записки выступали против каких бы то ни было уступок буржуазной оппозиции не потому, что либералы захотят зайти слишком далеко, как думают вульгарные черносотенцы, на которых сановные реакционеры глядели свысока, – нет, беда в том, что либералы «столь слабы, столь разрозненны и, надо говорить прямо, столь бездарны, что торжество их было бы столь же кратковременно, сколь и непрочно». Слабость главной из оппозиционных партий, «конституционно-демократической» (кадетской) определяется уже ее именем:
она назвалась демократической, хотя по существу своему буржуазна; будучи в значительной мере партией либеральных помещиков, она вписала в программу принудительный выкуп земли. «Без этих козырей из чужой, не ихней колоды, – пишут тайные советники, пользуясь привычными им образами, – кадеты есть не более как многочисленное сообщество либеральных адвокатов, профессоров и чиновников разных ведомств – ничего более». Иное дело – революционеры. Признание значительности революционных партий записка сопровождает скрежетом зубов: «Опасность и силу этих партий составляет то, что у них есть идея, есть деньги (!), есть толпа, готовая и хорошо организованная». Революционные партии «вправе рассчитывать на сочувствие подавляющего большинства крестьянства, которое пойдет за пролетарием тотчас же, как революционные вожди укажут им чужую землю». Что дало бы при этих условиях установление ответственного министерства? «Полный и окончательный разгром партий правых, постепенное поглощение партий промежуточных: центра, либеральных консерваторов, октябристов и прогрессистов партией кадетов, которая поначалу и получила бы решающее значение. Но кадетам грозила бы та же участь… А затем? Затем выступила бы революционная толпа, коммуна, гибель династии, погромы имущественных классов и, наконец, мужик-разбойник». Нельзя отрицать, что реакционно-полицейская злоба поднимается здесь до своеобразного исторического предвиденья.
Положительная программа записки не нова, но последовательна: правительство из беспощадных сторонников самодержавия; упразднение Думы; осадное положение в обеих столицах; подготовка сил для подавления мятежа. Эта программа и была, в сущности, положена в основу правительственной политики последних предреволюционных месяцев. Но успех ее предполагал силу, которая оказалась в руках Дурново зимою 1905 года, но которой уже не существовало осенью 1916 года. Монархия пыталась поэтому задушить страну украдкой и по частям. Министерство было обновлено по принципу «своих» людей, безусловно преданных царю и царице. Но эти «свои», и прежде всего перебежчик Протопопов, были ничтожны и жалки. Дума не была упразднена, но снова распущена. Объявление осадного положения в Петрограде было прибережено для того момента, когда революция уже одержала победу. А военные силы, подготовленные для подавления мятежа, оказались сами охвачены мятежом. Все это обнаружилось уже через два-три месяца.
Либерализм тем временем делал последние усилия спасти положение. Все организации цензовой буржуазии поддержали ноябрьские речи думской оппозиции рядом новых заявлений. Самой дерзкой явилась резолюция союза городов 9 декабря: «Безответственные преступники, изуверы готовят России поражение, позор и рабство». Государственная дума призывалась «не расходиться до тех пор, пока создание ответственного правительства не будет достигнуто». Даже Государственный совет, орган бюрократии и крупной собственности, высказался за призыв к власти лиц, пользующихся доверием страны. Подобное же ходатайство возбудил и съезд объединенного дворянства: заговорили покрытые мохом камни. Но ничто не изменилось. Монархия не выпускала остатки власти из рук.
Последняя сессия последней Думы, после колебаний и проволочек, была назначена на 14 февраля 1917 года. До пришествия революции оставалось меньше двух недель. Ждали демонстраций. В кадетском органе «Речь» рядом с объявлением начальника Петроградского военного округа генерала Хабалова, запрещавшим демонстрации, напечатано было письмо Милюкова, предостерегавшее рабочих против «дурных и опасных советов», исходящих из «темного источника». Несмотря на стачки, открытие Думы обошлось сравнительно спокойно. Делая вид, что вопрос о власти ее больше не интересует, Дума занялась хоть и острым, но чисто деловым вопросом: продовольствием. Настроение было вялое, вспоминал впоследствии Родзянко, «чувствовалось бессилие Думы, утомленность в бесполезной борьбе». Милюков повторял, что прогрессивный блок «будет действовать словом и только словом». Такою Дума вступила в водоворот Февральской революции.
ПРОЛЕТАРИАТ И КРЕСТЬЯНСТВО
Русский пролетариат проделывал свои первые шаги в политических условиях деспотического государства. Запрещенные законом стачки, подпольные кружки, нелегальные прокламации, уличные демонстрации, столкновения с полицией и войсками – такова была школа, созданная сочетанием условий быстро развивающегося капитализма и медленно сдающего свои позиции абсолютизма. Сосредоточенность рабочих на гигантских предприятиях, концентрированный характер государственного гнета, наконец, импульсивность молодого и свежего пролетариата привели к тому, что политическая стачка, столь редкая на Западе, стала в России основным методом борьбы.
Годы Число участн. полит. стачек (в тысячах)
1903…………..87
(#litres_trial_promo)
1904…………..25
(#litres_trial_promo)
1905…………..1843
1906…………..661
1907…………..540
1908…………..93
1909…………..8
1910…………..4
1911…………..8
1912…………..550
1913…………..502
1914(первая половина)…1059
1915…………..156
1916…………..310
1917 (январь – февраль)…575
Цифры рабочих стачек, с начала нынешнего столетия, являются наиболее поучительными индексами политической истории России. При всем желании не загромождать текст цифрами невозможно отказаться от приведения таблицы политических стачек в России за период 1903–1917 годов. Данные, сведенные к своему простейшему выражению, относятся только к предприятиям, подчиненным фабричной инспекции; железные дороги, горнозаводская промышленность, ремесленные и вообще мелкие предприятия, не говоря уже о сельском хозяйстве, по разным причинам не входят в подсчет. Но изменения стачечной кривой по периодам выступают от этого не менее отчетливо.
Пред нами единственная в своем роде кривая политической температуры нации, несущей в своем чреве великую революцию. В отсталой стране, с малочисленным пролетариатом – в предприятиях, подчиненных фабричной инспекции, около 1 1/2 миллиона рабочих в 1905 году, около 2 миллионов – в 1917 году! – стачечное движение получает такой размах, какого оно не знало раньше нигде в мире. При слабости мелкобуржуазной демократии, при раздробленности и политической слепоте крестьянского движения революционная стачка рабочих становится тараном, который пробуждающаяся нация направляет против стены абсолютизма. 1 843 000 участников политических стачек одного 1905 года – рабочие, участвовавшие в нескольких стачках, засчитаны здесь, разумеется, повторно, – одно это число позволило бы нам указать пальцем в таблице год революции, если бы мы ничего больше не знали о политическом календаре России.
За 1904 год, первый год русско-японской войны, фабричная инспекция показала всего лишь 25 тысяч стачечников. В 1905 году политических и экономических стачечников вместе было 2863 тысячи, в 115 раз больше, чем в предшествующем году. Этот поразительный скачок сам по себе наводит на ту мысль, что пролетариат, вынужденный ходом событий импровизировать такую небывалую революционную активность, должен был, какой угодно ценою, выдвинуть из своих недр организацию, отвечающую размаху борьбы и грандиозности задач: это и были советы, рожденные первой революцией и ставшие органами всеобщей стачки и борьбы за власть.
Разбитый в декабрьском восстании 1905 года пролетариат делает героические усилия отстоять часть завоеванных позиций в течение двух следующих годов, которые, как показывают цифры стачек, еще непосредственно примыкают к революции, являясь, однако, уже годами отлива. Четыре дальнейших года (1908 – 1911) выступают в зеркале стачечной статистики как годы победоносной контрреволюции. Совпадающий с ней промышленный кризис еще больше истощает и без того обескровленный пролетариат. Глубина упадка симметрична высоте подъема. Конвульсии нации находят свой отпечаток в этих простых цифрах.
Промышленное оживление, начавшееся в 1910 году, ставит рабочих на ноги и дает новый толчок их энергии. Цифры 1912–1914 годов почти повторяют данные 1905–1907 годов, но в обратном порядке: не от подъема к упадку, а от упадка к подъему. На новых, более высоких исторических основах – теперь больше рабочих, и у них больше опыта – открывается новое революционное наступление. Первое полугодие 1914 года явно приближается по числу политических стачечников к кульминационному году первой революции. Но разражается война и круто обрывает этот процесс. Первые ее месяцы запечатлены политической неподвижностью рабочего класса. Но уже весною 1915 года оцепенение начинает проходить. Открывается новый цикл политических стачек, который в феврале 1917 года разрешается восстанием рабочих и солдат.
Резкие приливы и отливы массовой борьбы делали русский пролетариат на протяжении нескольких лет как бы неузнаваемым. Заводы, которые два-три года тому назад единодушно бастовали по поводу какого-либо отдельного акта полицейского произвола, сегодня совершенно теряли революционный облик и оставляли без отпора самые чудовищные преступления властей. Большие поражения обескураживают надолго. Революционные элементы теряют власть над массой. В ее сознании поднимаются наверх неперегоревшие предрассудки и суеверия. Серые выходцы деревни разбавляют тем временем рабочие ряды. Скептики иронически покачивают головами. Так было в 1907 – 1911 годах. Но молекулярные процессы в массах залечивают психические раны поражений. Новый поворот событий или подспудный экономический толчок открывает новый политический цикл. Революционные элементы снова находят свою аудиторию. Борьба возрождается на более высокой ступени.
Для понимания двух главных течений в русском рабочем классе важно иметь в виду, что меньшевизм окончательно оформился в годы реакции и отлива, опираясь главным образом на тонкий слой рабочих, порвавших с революцией; тогда как большевизм, жестоко разгромленный в период реакции, стал быстро подниматься в годы перед войной на гребне нового революционного прибоя. «Наиболее энергичным, бодрым, способным к неутомимой борьбе, к сопротивлению и постоянной организации является тот элемент, те организации и те лица, которые концентрируются вокруг Ленина» – такими словами оценивал департамент полиции работу большевиков за годы, предшествовавшие войне.
В июле 1914 года, когда дипломаты вбивали последние гвозди в крест, предназначенный для распятия Европы, Петроград кипел революционным котлом. Возлагать венок на гробницу Александра III президенту Французской республики Пуанкаре пришлось под последние отголоски уличной борьбы и первые звуки патриотических манифестаций.
Привело ли бы наступательное массовое движение 1912 – 1914 годов непосредственно к низвержению царизма, если бы не врезалась война? Ответить на этот вопрос вряд ли возможно с полной уверенностью. Процесс неотвратимо вел к революции. Но через какие этапы пришлось бы при этом пройти? Не подстерегало ли его еще одно поражение? Какой срок понадобился бы рабочим, чтобы поднять крестьян и завоевать армию? Во всех этих направлениях возможны только догадки. Война, во всяком случае, первоначально дала процессу задний ход, чтобы тем более мощно ускорить его на следующей стадии и обеспечить ему сокрушительную победу.
При первом звуке барабана революционное движение замерло. Наиболее активные слои рабочих оказались мобилизованы. Революционные элементы выбрасывались с заводов на фронт. За стачки налагались суровые кары. Рабочая печать была сметена. Профессиональные союзы задушены. В мастерские вливались сотни тысяч женщин, подростков, крестьян. Политически война, в сочетании с крушением Интернационала, чрезвычайно дезориентировала массы и дала возможность поднявшей голову заводской администрации выступать патриотически от имени заводов, увлекая за собой значительную часть рабочих и заставляя выжидательно замкнуться наиболее смелых и решительных. Революционная мысль чуть теплилась в небольших и притихших кружках. Назвать себя «большевиком» в это время никто на заводах не отваживался, чтобы не подвергнуться аресту, а то и побоям со стороны отсталых рабочих.
Большевистская фракция в Думе, слабая по личному составу, оказалась в момент возникновения войны не на высоте. Вместе с депутатами-меньшевиками она внесла декларацию, в которой обязывалась «защищать культурные блага народа от всяких посягательств, откуда бы они ни исходили». Дума аплодисментами подчеркнула эту сдачу позиции. Из русских организаций и групп партии ни одна не заняла открыто пораженческой позиции, которую за границей провозгласил Ленин. Однако процент патриотов среди большевиков оказался незначительным. В противовес народникам и меньшевикам, большевики уже с 1914 года стали разворачивать в массах печатную и устную агитацию против войны. Думские депутаты вскоре оправились от растерянности и возобновили революционную работу, о которой власти были очень близко осведомлены благодаря разветвленной системе провокации. Достаточно сказать, что из семи членов петербургского комитета партии накануне войны три состояли на службе охранки. Так царизм играл в жмурки с революцией. В ноябре депутаты-большевики были арестованы. Начался общий разгром партии во всей стране. В феврале 1915 года дело фракции слушалось в судебной палате. Депутаты держали себя с осторожностью. Каменев, теоретический вдохновитель фракции, отмежевался от пораженческой позиции Ленина, как и Петровский, нынешний председатель Центрального Исполнительного комитета на Украине. Департамент полиции с удовлетворением отмечал, что суровый приговор над депутатами не вызвал никакого протестующего движения со стороны рабочих.
Казалось, что война подменила рабочий класс. Так оно в значительной мере и было: в Петрограде состав рабочих обновился чуть не на 40 %. Революционная преемственность резко нарушилась. То, что было до войны, в том числе и думская фракция большевиков, сразу отошло назад и почти потонуло в забвенье. Но под ненадежным покровом спокойствия, патриотизма, отчасти даже монархизма в массах накоплялись настроения нового взрыва.
В августе 1915 года царские министры сообщали друг другу, что рабочие «повсюду ищут измену, предательство, саботаж в пользу немцев и увлечены исканием виновников наших неудач на фронте». Действительно, в этот период пробуждающаяся массовая критика, отчасти – искренно, отчасти – ради покровительственной окраски, исходила нередко из «обороны отечества» Но эта идея была только точкой отправления. Недовольство рабочих пролагает себе все более глубокие ходы, заставляя умолкнуть мастеров, черносотенных рабочих, прислужников администрации и позволяя поднять голову рабочим-большевикам.
От критики массы переходят к действию. Возмущение находит себе выход прежде всего в продовольственных волнениях, которые кое-где принимают форму локальных мятежей. Женщины, старики, подростки чувствуют себя на рынке или на площади независимее и смелее, чем военнообязанные рабочие на заводах. В Москве движение выливается в мае в немецкий погром. Хотя участниками его являются главным образом городские отбросы, орудующие под протекторатом полиции, однако самая возможность погрома в промышленной Москве свидетельствует о том, что рабочие еще не пробудились настолько, чтобы навязать свои лозунги и свою дисциплину выбитому из равновесия мелкому городскому люду. Распространяясь по всей стране, продовольственные волнения разрушают гипноз войны и пролагают дорогу стачкам.
Прилив сырой рабочей силы на заводы и жадная погоня за военными барышами повели за собой повсеместно ухудшение условий труда и возродили наиболее грубые приемы эксплуатации. Рост дороговизны автоматически снижал заработную плату. Экономические стачки явились неизбежным рефлексом массы, тем более бурным, чем дольше он задерживался. Стачки сопровождались митингами, вынесением политических резолюций, стычками с полицией, нередко стрельбой и жертвами.
Борьба охватывает прежде всего центральный текстильный район. 5 июня полиция дает залп по ткачам в Костроме: 4 убитых, 9 раненых. 10 августа войска расстреливают иваново-вознесенских рабочих: 16 убитых, 30 раненых. В движении текстильщиков замешаны солдаты местного батальона. Стачки протеста откликаются в разных частях страны на расстрел в Иваново-Вознесенске. Параллельно разливается экономическая борьба. Текстильщики идут нередко в первых рядах. По сравнению с первой половиной 1914 года движение, по силе напора и ясности лозунгов, представляет большой шаг назад. Немудрено: в борьбу втягиваются в значительной мере сырые массы, при полном расстройстве руководящего слоя рабочих. Тем не менее уже в первых стачках войны слышится приближение больших боев. Министр юстиции Хвостов говорил 16 августа: «Если сейчас не происходит вооруженных выступлений рабочих, то исключительно потому, что у них нет организации». Еще точнее выразился Горемыкин: «Вопрос у рабочих вожаков в недостатке организации, разбитой арестом пяти членов Думы». Министр внутренних дел добавил: «Членов Думы (большевиков) амнистировать нельзя – они организующий центр рабочего движения в наиболее опасных его проявлениях». Эти люди во всяком случае не ошибались насчет того, где подлинный враг.
В то время как министерство, даже в момент величайшего замешательства и готовности к либеральным уступкам, считало необходимым по-прежнему бить рабочую революцию по голове, т. е. по большевикам, крупная буржуазия стремилась наладить сотрудничество с меньшевиками. Испуганные размахом стачек либеральные промышленники сделали попытку наложить патриотическую дисциплину на рабочих, включив их выборных представителей в состав военно-промышленных комитетов. Министр внутренних дел жаловался на то, что против затеи Гучкова бороться очень трудно: «Все это дело ведется под патриотическим флагом и во имя интересов обороны». Нужно, однако, отметить, что и сама полиция избегала арестовывать социал-патриотов, видя в них косвенных союзников по борьбе против стачек и революционных «эксцессов». На излишнем доверии к силе патриотического социализма основывалось убеждение охраны в том, что, пока длится война, восстания не будет.
При выборах в военно-промышленный комитет оборонцы, возглавлявшиеся энергичным рабочим-металлистом Гвоздевым, – мы встретим его позже министром труда в коалиционном правительстве революции, – оказались в меньшинстве. Они воспользовались, однако, поддержкой не только либеральной буржуазии, но и бюрократии, чтобы опрокинуть бойкотистов, руководимых большевиками, и навязать петербургскому пролетариату представительство в органах промышленного патриотизма. Позиция меньшевиков была ясно выражена в речи, с какою один из их представителей обратился впоследствии к промышленникам в комитете: «Вы должны потребовать, чтобы ныне существующая бюрократическая власть сошла со сцены, уступив свое место вам, как наследникам настоящего строя». Молодая политическая дружба росла не по дням, а по часам. После переворота она принесет свои зрелые плоды.
Война произвела в подполье ужасающие опустошения. Централизованной партийной организации, после ареста думской фракции, у большевиков не было. Местные комитеты существовали эпизодически и не всегда имели связь с районами. Действовали разрозненные группы, кружки, одиночки. Однако начавшееся оживление стачечной борьбы придавало им на заводах дух и силы. Постепенно они находили друг друга, сознавая районные связи. Работа в подполье возродилась. В департаменте полиции писали позже: «Ленинцы, имеющие за собой в России преобладающее большинство подпольных социал-демократических организаций, выпустили с начала войны в наиболее крупных своих центрах (как-то: Петроград, Москва, Харьков, Киев, Тула, Кострома, Владимирская губ., Самара) значительное количество революционных воззваний с требованием прекращения войны, низвержения существующего правительства и устройства республики, причем эта работа имела своим осязательным результатом устройство рабочими забастовок и беспорядков».
Традиционная годовщина шествия рабочих к Зимнему дворцу, прошедшая почти неотмеченной год тому назад, вызывает широкую стачку 9 января 1916 года. Забастовочное движение возрастает в этом году вдвое. Столкновения с полицией сопровождают каждую большую и упорную стачку. По отношению к войскам рабочие ведут себя с демонстративным дружелюбием, и охранка не раз отмечает этот тревожный факт.
Военная промышленность разбухала, пожирая вокруг себя все ресурсы и подкапываясь под свои собственные основы. Мирные отрасли производства начали замирать. Из регулирования хозяйства, несмотря на все планы, ничего не вышло. Бюрократия, уже не способная взять это дело в свои руки, при сопротивлении мощных военно-промышленных комитетов, не соглашалась в то же время предоставить регулирующую роль буржуазии. Хаос возрастал. Умелые рабочие заменялись неумелыми. Угольные копи, заводы и фабрики Польши скоро оказались потеряны: в течение первого года войны отпало около У 5 части промышленных сил страны. До 50 % всей продукции шло на нужды армии и войны, в том числе около 75 % производимых в стране тканей. Перегруженный транспорт оказывался не в силах доставлять заводам необходимые количества топлива и сырья. Война не только поглощала весь текущий национальный доход, но и серьезно приступила к расточению основного капитала страны.
Промышленники все меньше шли на уступки рабочим, а правительство по-прежнему отвечало на каждую стачку суровыми репрессиями. Все это толкало мысль рабочих от частного к общему, от экономики к политике:
«Надо забастовать всем сразу». Так возрождается идея всеобщей стачки. Процесс радикализации масс как нельзя убедительнее отражен стачечной статистикой. В 1915 году в политических стачках участвует в 2 1/2 раза меньше рабочих, чем в экономических конфликтах, в 1916 году – в 2 раза меньше; в первые два месяца 1917 года политические стачки захватывают уже в 6 раз больше рабочих, чем экономические. Роль Петрограда определяется одной цифрой: за годы войны на его долю приходится 72 % политических стачечников!
В огне борьбы сгорает немало старых верований. Охранка «с болью» доносит, что если бы реагировать, согласно требованиям закона, на «все случаи наглого и открытого оскорбления величества, то число процессов по 103 статье достигло бы небывалой цифры». Однако сознание масс отстает все же от их собственного движения. Страшное давление войны и разрухи до такой степени ускоряет процесс борьбы, что широкие массы рабочих не успевают до самого переворота освободиться от многих взглядов и предрассудков, принесенных из деревни или из мелкобуржуазных городских семей. Этот факт наложит свою печать на первые месяцы Февральской революции.
К концу 1916 года цены растут скачками. К инфляции и расстройству транспорта присоединяется прямой недостаток товаров. Потребление населения сократилось к этому времени более чем наполовину. Кривая рабочего движения круто поднимается кверху. С октября борьба входит в решительную стадию, соединяя все виды недовольства воедино: Петроград берет разбег для февральского прыжка. По заводам прокатывается полоса митингов. Темы: продовольствие, дороговизна, война, правительство. Распространяются большевистские листки. Открываются политические стачки. По выходе с заводов происходят импровизированные демонстрации. Наблюдаются случаи братанья отдельных заводов с солдатами. Вспыхивает бурная стачка протеста против суда над революционными матросами Балтийского флота. Французский посол обращает внимание премьера Штюрмера на ставший ему известным факт стрельбы солдат по полиции. Штюрмер успокаивает посла: «Репрессия будет беспощадная». В ноябре значительную группу военнообязанных рабочих снимают с петроградских заводов для отправки на фронт. Год заканчивается в грозе и буре.
Сравнивая положение с 1905 годом, директор департамента полиции Васильев приходит к крайне неутешительному выводу: «Оппозиционность настроений достигла таких исключительных размеров, до которых она далеко не доходила в широких массах в упомянутый смутный период». Васильев не надеется на гарнизоны. Даже полицейские стражники кажутся ему не вполне надежными. Охранка доносит об оживлении лозунга всеобщей стачки и об опасности возрождения террора. Прибывающие с позиций солдаты и офицеры говорят про нынешнее положение: «Да чего смотреть-то – взять да приколоть такого-то мерзавца. Будь мы здесь, мы не стали бы долго думать», и т. п.
Шляпников, член Центрального Комитета большевиков, сам бывший рабочий-металлист, рассказывает, как нервно были настроены рабочие в те дни: «Достаточно было иногда свиста, некоторого шума, чтобы рабочие приняли его за сигнал к остановке предприятия». Эта подробность одинаково замечательна и как политический симптом, и как психологический штрих: революция уже сидит в нервах, прежде чем выходит на улицу.
Провинция проходит через те же этапы, только медленнее. Рост массовидности движения и его боевого духа передвигает центр тяжести от текстильщиков к металлистам, от экономических стачек – к политическим, от провинции – к Петрограду. Первые два месяца 1917 года дают 575 000 политических стачечников, из них львиная доля приходится на столицу. Несмотря на новый разгром, произведенный полицией накануне 9 января, в столице бастовало в день кровавой годовщины 150 000 рабочих. Настроение напряженное, металлисты впереди, рабочие все больше чувствуют, что отступления нет. На каждом заводе выделяется активное ядро, чаще всего вокруг большевиков. Забастовки и митинги идут непрерывно в течение первых двух недель февраля, 8-го на Путиловском заводе полицейские подверглись «граду железных обломков и шлака», 14-го, в день открытия Думы, бастовало в Петербурге около 90 тысяч. Несколько предприятий остановилось и в Москве. 16-го власти решили ввести в Петрограде карточки на хлеб. Это новшество ударило по нервам, 19-го возле продовольственных лавок скопилось много народу, особенно женщин, все требовали хлеба. Через день в некоторых частях города произошел разгром булочных. Это были уже зарницы восстания, разразившегося через несколько дней.
Революционную смелость русский пролетариат почерпал не только в себе самом. Уже его положение как меньшинства нации говорит, что он не мог бы ни придать своей борьбе такой размах, ни тем более встать во главе государства, если бы не имел мощной опоры в толщах народа. Такую опору обеспечил ему аграрный вопрос.
Запоздалое полуосвобождение крестьян в 1861 году застало сельское хозяйство почти на том же уровне, на каком оно находилось два столетия назад. Сохранение старого, обворованного при реформе фонда общинных земель, при архаических приемах обработки, автоматически обостряло кризис деревенского перенаселения, который являлся в то же время кризисом трехполья. Крестьянство тем более чувствовало себя в западне, что процесс развертывался не в XVII, а в XIX веке, т. е. в условиях далеко зашедшего вперед денежного хозяйства, которое предъявляло к деревянной сохе требования, доступные разве лишь трактору. И здесь мы видим сближение отдельных ступеней исторического процесса и, как результат, чрезвычайную остроту противоречий.
Ученые агрономы и экономисты проповедовали, что земли, при условии рациональной обработки, было бы вполне достаточно, т. е. предлагали крестьянину совершить прыжок на более высокую ступень техники и культуры, не задев ни помещика, ни урядника, ни царя. Но ни один хозяйственный режим, тем более земледельческий, наиболее косный, не сходил со сцены, не исчерпав всех своих возможностей. Прежде чем увидеть себя вынужденным перейти к более интенсивной хозяйственной культуре, крестьянин должен был сделать последний опыт расширения своего трехполья. Этого можно было достигнуть, очевидно, только за счет некрестьянских земель. Задыхаясь в тесноте своего земельного простора, под жгучим кнутом фиска и рынка, мужик неминуемо должен был сделать попытку разделаться навсегда с помещиком.
Накануне первой революции общее количество годной земли в пределах Европейской России оценивалось в 280 миллионов десятин. Общинно-надельные земли составляли около 140 миллионов, удельные – свыше
5 миллионов, церковные и монастырские – около 2 1/2 миллиона десятин. Из частновладельческой земли на долю 30 тысяч крупных помещиков, каждый из которых владел свыше 500 десятин, приходилось 70 миллионов десятин, т. е. такое же количество, какое принадлежало, примерно, десяти миллионам крестьянских семей. Эта земельная статистика составляла готовую программу крестьянской войны.
Ликвидировать помещика в первой революции не удалось. Не вся крестьянская масса поднялась, движение в деревне не совпало с движением в городе, крестьянская армия колебалась и выделила в конце концов достаточные силы для разгрома рабочих. Как только гвардейский Семеновский полк справился с московским восстанием, монархия отбросила всякую мысль об урезке помещичьих земель, как и своих самодержавных прав.
Однако разбитая революция прошла далеко не бесследно для деревни. Правительство отменило старые выкупные платежи и открыло возможность более широкого переселения в Сибирь. Напуганные помещики не только пошли на значительные уступки в отношении арендной платы, но и приступили к усиленной распродаже своих латифундий. Этими плодами революции с успехом пользовались наиболее зажиточные крестьяне, которые имели возможность арендовать и покупать помещичью землю.
Самые широкие ворота для выделения из крестьянства капиталистических фермеров открыл, однако, закон 9 ноября 1906 года, главная реформа победоносной контрреволюции. Предоставляя даже небольшому меньшинству крестьян любой общины право, против воли большинства, выкраивать из общинных земель самостоятельные участки, закон 9 ноября представлял собою разрывной капиталистический снаряд, направленный против общины. Председатель совета министров Столыпин определил суть новой правительственной политики в крестьянском вопросе как «ставку на сильных». Это значило: толкнуть верхушку крестьян на захват общинных земель путем скупки «освобожденных» участков и превратить новых капиталистических фермеров в опору порядка. Поставить такую задачу было легче, чем разрешить ее. На попытке подменить крестьянский вопрос кулацким контрреволюция и должна была свернуть себе шею.
К 1 января 1916 года 2 1/2 миллиона домохозяев укрепили за собою в личную собственность 17 миллионов десятин. Два других миллиона домохозяев требовали выделения им 14 000 000 десятин. Это выглядело как колоссальный успех реформы. Но выделившиеся хозяйства были в большинстве своем совершенно нежизнеспособны и представляли только материал для естественного отбора. В то время как наиболее отсталые помещики и мелкие крестьяне усиленно продавали, одни – свои латифундии, другие – свои земельные клочки, в качестве покупателя выступала главным образом новая крестьянская буржуазия. Сельское хозяйство вошло в стадию несомненного капиталистического подъема. Вывоз земледельческих продуктов из России вырос за пять лет (1908–1912) с 1 миллиарда рублей до 1 1/2. Это значило: широкие массы крестьян пролетаризовались, верхи деревни выбрасывали на рынок все больше хлеба.
На смену принудительной общинной связи крестьянства быстро развивалась добровольная кооперация, которая в течение нескольких лет успела проникнуть сравнительно глубоко в крестьянские массы и сейчас же стала предметом либеральной и демократической идеализации. Реальную силу в кооперации имели, однако, только богатые крестьяне, которым она в последнем счете и служила. Народническая интеллигенция, сосредоточившая в крестьянской кооперации главные свои силы, перевела, наконец, свое народолюбие на солидные буржуазные рельсы. Этим, в частности, подготовлялся блок «антикапиталистической» партии эсеров с капиталистической par excellence (фр. – по преимуществу. – Ред.) партией кадетов.
Либерализм, сохраняя аппарансы оппозиции по отношению к аграрной политике реакции, взирал, однако, с великой надеждой на капиталистическое разрушение общины. «В деревне нарождается могущественная мелкая буржуазия, – писал либеральный князь Трубецкой, – по всему своему существу и складу одинаково чуждая как идеалам объединенного дворянства, так и социалистическим мечтаниям».
Но у этой великолепной медали была оборотная сторона. Из общины выделялась не только «могущественная мелкая буржуазия», но и ее антиподы. Число крестьян, продавших свои нежизнеспособные наделы, возросло к началу войны до миллиона, что означало не менее пяти миллионов душ пролетаризованного населения. Достаточно взрывчатый материал представляли также миллионы крестьян-пауперов, которым ничего не оставалось, как держаться за свои голодные наделы. В среде крестьянства воспроизводились, следовательно, те противоречия, которые так рано подорвали в России развитие буржуазного общества в целом. Новая деревенская буржуазия, которая должна была создать опору старшим и более могущественным собственникам, оказывалась столь же враждебно противопоставлена основным массам крестьянства, как старые собственники – народу в целом.
Прежде чем стать опорой порядка, крестьянская буржуазия сама нуждалась в крепком порядке, чтобы удержаться на завоеванных позициях. При этих условиях немудрено, если аграрный вопрос во всех государственных думах сохранял свою остроту. Все чувствовали, что последнее слово еще не сказано. Крестьянин-депутат Петриченко заявил однажды с думской трибуны: «Сколько прений ни ведите – другого земного шара не создадите. Придется, значит, эту землю нам отдавать». Этот крестьянин не был ни большевиком, ни эсером; наоборот, это был правый депутат, монархист.
Аграрное движение, затихшее, как и стачечная борьба рабочих, к концу 1907 года, частично возрождается с 1908 года и усиливается в течение следующих лет. Правда, борьба переносится в значительной мере внутрь общины: в этом и состоял политический расчет реакции. Нередки вооруженные столкновения крестьян при разделе общинных земель. Но и борьба против помещика не замирает. Крестьяне усиленно поджигают дворянские усадьбы, урожай, солому, захватывая по пути и отрубников, выделившихся против воли общинников.
В таком состоянии застигла крестьянство война. Правительство увело из деревни около 10 миллионов работников и около 2 миллионов лошадей. Слабые хозяйства еще более ослабели. Выросло число беспосевных. Но и середняки на втором году войны пошли под гору. Враждебное отношение крестьянства к войне обострялось с месяца на месяц. В октябре 1916 года петроградское жандармское управление доносило, что в деревне уже и не верят в успех войны: по словам страховых агентов, учителей, торговцев и пр., «все ждут не дождутся, когда же наконец окончится эта проклятая война»… Мало того, повсюду обсуждаются политические вопросы, делаются постановления, направленные против помещиков и купцов, устраиваются ячейки разных организаций… Объединяющего центра пока нет, но надо думать, что крестьяне объединятся через кооперативы, которые ежечасно растут по всей России". Кое-что здесь преувеличено, кое в чем жандарм забежал вперед, но основное указано несомненно правильно.
Имущие классы не могли не предвидеть, что деревня предъявит счет, но отгоняли мрачные мысли, надеясь как-нибудь извернуться. По этому поводу любознательный французский посол Палеолог беседовал в дни войны с бывшим министром земледелия Кривошеиным, бывшим премьером Коковцевым, крупным помещиком графом Бобринским, председателем Государственной думы Родзянко, крупным промышленником Путиловым и другими именитыми людьми. Вот что ему при этом открылось: для проведения в жизнь радикальной земельной реформы нужна была бы работа постоянной армии в 300 тысяч землемеров в течение не менее 15 лет; но за это время число домохозяйств должно было бы достигнуть 30 миллионов, и, следовательно, все предварительные вычисления оказались бы недействительными. Земельная реформа в глазах помещиков, сановников и банкиров оказывалась, таким образом, квадратурой круга. Незачем говорить, что подобная математическая скрупулезность была совершенно чужда мужику. Он считал, что прежде всего надо выкурить барина, а там видно будет.
Если деревня оставалась, тем не менее, сравнительно мирной в годы войны, то потому, что ее активные силы находились на фронте. Солдаты не забывали о земле, по крайней мере, когда не думали о смерти, и мужицкие мысли о будущем пропитывались в окопах запахом пороха. Но все же крестьянство, даже и обучившееся владеть оружием, одними своими силами никогда не совершило бы аграрно-демократической, т. е. своей собственной, революции. Ему нужно было руководство. Впервые в мировой истории крестьянин должен был найти руководителя в лице рабочего. В этом основное и, можно сказать, исчерпывающее отличие русской революции от всех предшествующих.
В Англии крепостная зависимость исчезла фактически к концу XIV столетия, т. е. за два столетия до того, как она в России возникла, и за 4 1/2 столетия до того, как была отменена. Экспроприация земельной собственности крестьян тянется в Англии, через реформацию и две революции, до XIX столетия. Капиталистическое развитие, не форсируемое извне, имело, таким образом, достаточно времени, чтобы ликвидировать самостоятельное крестьянство задолго до того, как пробудился к политической жизни пролетариат.
Во Франции борьба с королевским абсолютизмом, аристократией и князьями церкви вынудила буржуазию, в лице разных ее слоев, в несколько приемов совершить в конце XVIII столетия радикальную аграрную революцию. Самостоятельное крестьянство надолго стало после этого опорой буржуазного порядка ив 1871 году помогло буржуазии справиться с Парижской коммуной.
В Германии буржуазия оказалась неспособна на революционное разрешение аграрного вопроса и в 1848 году так же выдала крестьян помещикам, как Лютер за три с лишним столетия до того, во время крестьянской войны, выдал их князьям. С другой стороны, немецкий пролетариат был в середине XIX столетия еще слишком слаб, чтобы взять на себя руководство крестьянством. Капиталистическое развитие Германии получило благодаря этому хоть и не столь растянутый, как в Англии, но все же достаточный срок, чтобы подчинить себе сельское хозяйство, каким оно вышло из незавершенной буржуазной революции.
Крестьянская реформа 1861 года была проведена в России дворянской и чиновничьей монархией, под давлением потребностей буржуазного общества, но при полном политическом бессилии буржуазии. Характер крестьянской эмансипации был таков, что форсированное капиталистическое преобразование страны неминуемо превращало аграрную проблему в проблему революции. Русские буржуа мечтали об аграрном развитии то французского, то датского, то американского типа – какого угодно, только не русского. Они не догадались, однако, своевременно запастись французской историей или американской социальной структурой. Демократическая интеллигенция, несмотря на свое революционное прошлое, в час решения оказалась с либеральной буржуазией и с помещиками, а не с революционной деревней. Только рабочий класс и мог при таких условиях возглавить крестьянскую революцию.
Закон комбинированного развития запоздалых стран – в смысле своеобразного сочетания элементов отсталости с новейшими факторами – предстает перед нами здесь в наиболее законченном своем виде и дает вместе с тем ключ к основной загадке русской революции. Если бы аграрный вопрос, как наследие варварства старой русской истории, был разрешен буржуазией, если бы он мог быть ею разрешен, русский пролетариат ни в каком случае не мог бы прийти к власти в 1917 году. Чтобы осуществилось советское государство, понадобилось сближение и взаимопроникновение двух факторов совершенно разной исторической природы: крестьянской войны, т. е. движения, характерного для зари буржуазного развития, с пролетарским восстанием, т. е. движением, знаменующим закат буржуазного общества. В этом и состоит 1917 год.
ЦАРЬ И ЦАРИЦА
Эта книга меньше всего задается самодовлеющими психологическими изысканиями, которыми теперь нередко пытаются подменить социальный и исторический анализ. В поле нашего зрения стоят прежде всего великие движущие силы истории, которые имеют сверхличный характер. Монархия является, одной из них. Но все эти силы действуют через людей. Монархия же связана с личным началом силою своего принципа. Это само по себе оправдывает интерес к личности монарха, которого ход развития столкнул с революцией. Мы надеемся, кроме того, в дальнейшем хоть отчасти показать, где в личности кончается личное – нередко гораздо ближе, чем кажется, – и как часто «особая примета» лица есть только индивидуальная царапина более высокой закономерности.
Николаю Второму предки оставили в наследство не только великую Империю, но и революцию. Они не дали ему ни одного качества, которое делало бы его пригодным для управления Империей, даже губернией или уездом. Историческому прибою, который все ближе подкатывал каждый раз свои валы к воротам дворца, последний Романов противопоставлял глухое безучастие: казалось, между его сознанием и его эпохою стояла прозрачная, но абсолютно непроницаемая среда.
Приближавшиеся к царю лица вспоминали после переворота не раз, что в самые трагические моменты царствования, во время сдачи Порт-Артура и потопления флота у Цусимы, десять лет спустя, во время отступления русских войск из Галиции, и еще через два года, в дни, предшествовавшие отречению, когда все вокруг царя были удручены, испуганы, потрясены, один лишь Николай хранил спокойствие. Он по-прежнему справлялся о количестве верст, сделанных им в разъездах по России, вспоминал эпизоды прошлых охот, анекдоты официальных встреч, вообще интересовался мусором своего обихода, когда над ним гремели громы и извивались молнии. «Что это, – спрашивал себя один из приближенных генералов, – огромная, почти невероятная выдержка, достигнутая воспитанием, вера в божественную предопределенность событий или недостаточная сознательность?» Ответ уже наполовину заключается в вопросе. Так называемую «воспитанность» царя, его уменье владеть собою при самых чрезвычайных условиях никак нельзя объяснить одной внешней дрессировкой: суть была во внутреннем безразличии, в скудости душевных сил, в слабости волевых импульсов. Маска безразличия, которую в известных кругах зовут воспитанностью, у Николая естественно сливалась с природным лицом.
Дневник царя ценнее всяких свидетельских показаний: изо дня в день, из года в год тянутся на его страницах удручающие записи душевной пустоты. «Гулял долго и убил две вороны. Пил чай при дневном свете». Прогулка пешком, катанье в лодке. И снова вороны и снова чай. Все на границе физиологии. Упоминание о церковных обрядах делается тем же тоном, что и о выпивке.
В дни, предшествовавшие открытию Государственной думы, когда вся страна сотрясалась конвульсиями, Николай писал: «14 апреля. Гулял в тонкой рубашке и обновил катанье в байдарках. Пил чай на балконе. Стана обедала и каталась с нами. Читал». Ни слова о предмете чтения: сентиментальный английский роман или доклад департамента полиции? «15 апреля. Принял отставку Витте. Обедали Мари и Дмитрий. Отвезли их во дворец».
В день решения о роспуске Думы, когда сановные, как и либеральные, круги переживали пароксизм страха, царь писал в дневнике: «7 июля. Пятница. Очень занятое утро. Опоздали на полчаса на завтрак офицерам… Была гроза и большая духота. Гуляли вместе. Принял Горемыкина; подписал указ о роспуске Думы! Обедали у Ольги и Пети. Весь вечер читал». Восклицательный знак по поводу предстоящего роспуска Думы есть высшее выражение его эмоций.
Депутаты разогнанной Думы призвали народ отказываться от уплаты налогов и отбывания воинской повинности. Произошел ряд военных восстаний: в Свеаборге, Кронштадте, на судах, в армейских частях; возобновился в небывалых размерах революционный террор против сановников. Царь пишет: «9 июля. Воскресенье. Свершилось! Дума сегодня закрыта. За завтраком после обедни заметны были у многих вытянувшиеся лица… Погода была отличная. Во время прогулки встретили дядю Мишу, который вчера переехал из Гатчины. До обеда и весь вечер спокойно занимался. Катался в байдарке». Что катался именно в байдарке, указано; а чем занимался, не сказано. Так всегда.
И далее в те же роковые дни: «14 июля. Одевшись, поехал на велосипеде в купальню и с наслаждением выкупался в море». «15 июля. Купался два раза. Было очень жарко. Обедали вдвоем. Прошла гроза». «19 июля. Утром купался. Принимали на ферме. Дядя Владимир и Чагин завтракали». Восстания и динамитные взрывы еле задеты единственной оценкой: «милые события!», которая поражает низменным безучастием, недоразвившимся до сознательного цинизма.
«В 9 1/2 ч. утра поехали в Каспийский полк… Долго гулял. Погода была чудная. Купался в море. После чая принял Львова и Гучкова». Ни слова о том, что столь необычный прием двух либералов вызывался попыткой Столыпина включить оппозиционных политиков в свое министерство. Князь Львов, будущий глава Временного правительства, рассказывал тогда же об этом приеме у царя: «Я ожидал увидеть государя убитого горем, а вместо этого ко мне вышел какой-то веселый разбитной малый в малиновой рубашке».
Кругозор царя был не шире кругозора мелкого полицейского чиновника, с той разницей, что последний все же лучше знал действительность и был менее перегружен суевериями. Единственная газета, которую Николай в течение ряда лет читал и из которой почерпал свои идеи, был еженедельник, издававшийся на казенные деньги князем Мещерским, низким, подкупным, презираемым даже в своем кругу журналистом реакционных клик бюрократии. Свой кругозор царь пронес неизменным через две войны и две революции: между его сознанием и событиями стояла всегда непроницаемая среда безразличия.
Николая не без основания называли фаталистом. Нужно только прибавить, что его фатализм был прямой противоположностью активной веры в свою «звезду». Наоборот, Николай сам считал себя неудачником. Его фатализм был только формой пассивной самозащиты от исторического развития и шел рука об руку с произволом, мелочным по психологическим мотивам, но чудовищным по последствиям. «Хочу, а потому так должно быть, – пишет граф Витте. – Этот лозунг проявлялся во всех действиях этого слабого правителя, который только вследствие слабости делал все то, что характеризовало его царствование, – сплошное проливание более или менее невинной крови и большею частью совсем бесцельно…»
Николая сравнивали иногда с его полусумасшедшим прапрадедом Павлом, удушенным камарильей с согласия его собственного сына, Александра «благословенного». Этих двух Романовых действительно сближали недоверие ко всем, выросшее из недоверия к себе, мнительность всемогущего ничтожества, чувство отверженности, можно бы сказать, сознание венценосного парии. Но Павел несравненно красочное, в его сумасбродстве был элемент фантазии, хотя и невменяемой. В потомке же все тускло, ни одной яркой черты.
Николай был не только неустойчив, но и вероломен. Льстецы называли его шармером, очарователем, за его мягкость с придворными. Но особую ласковость царь проявлял как раз к тем сановникам, которых решил прогнать: очарованный на приеме сверху меры министр находил у себя дома письмо об отставке. Это была своего рода месть за собственное ничтожество.