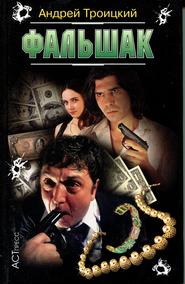скачать книгу бесплатно
Допрос Жбанова Лапатов не оформлял протоколом. Следователь слабо надеялся, что беседа получится доверительной, а лишние бумажки в таком деле помеха. Но из затеи с доверительным разговором ничего не вышло. Жбанов вел себя вызывающе нагло. Развалившись на стуле, он лениво выцеживал из себя ответы, в которых не содержалось даже песчинки полезной информации. Наконец Липатов решил свертывать представление, продолжавшееся около двух часов.
– Какой у тебя род занятий? – спросил Липатов.
– Никакой.
– То есть?
– Никакой.
– Я мечтал стать артистом, – сказал Жбан. – Но мои музыкальные способности испортили преподаватели, еще в музыкальной школе. Короче, я так и не распелся. Но, может быть, это и к лучшему.
– Чем собираешься заниматься? Торговать поддельными долларами, как и раньше?
– Слушайте, я никогда не торговал долларами. Ни фальшивыми, ни настоящими. А если я соскучусь по работе, найду какую-нибудь мужественную романтическую профессию. Устроюсь дворником или ассистентом стоматолога.
– Ну, в этом деле я тебе могу помочь. С работой. Определить тебя лет на восемь в какую-нибудь глухомань на лесосеку. Кормежка на зоне бесплатная. Будешь хорошо вкалывать, на ларек заработаешь.
– Спасибо. Постараюсь сам куда-нибудь приткнуться.
– Тебя еще задерживали с поддельными долларами на кармане. С той поры ты не поумнел.
– Я уже сто раз давал показания по тому эпизоду. Валюту купил возле обменника у незнакомого барыги. Торопился, а у окошка очередь. Дело было перед праздниками. Короче, мне всучили фальшак. Я тут пострадавшая сторона, а из меня хотели сделать обвиняемого.
– Ты передал покойному Нифонтову тысячу зеленых. С какой целью?
– Слушайте, не мучайте Макса Жбанова и сами не надрывайтесь. У вас ничего нет на меня. Я беседовал с каким-то стариком за десять минут до его гибели. Предположим, так оно и было. В чем тут состав преступления? Долларов старику я не передавал. И доказать обратное вы не сможете. Меня могут посадить только в том случае, если прокурор лично подберет судью для процесса, а заседателей привезут из ближайшего дурдома. В противном случае, дело рассыплется. А над вами будут смеяться. Можно попросить сигарету?
– Еще чего? – усмехнулся Липатов. – Может тебе кофе в постель принести?
– Я еще не лег.
– Скоро ляжешь, – пообещал следователь. – Но не на мягкую перину, а в грязную канаву. А рядом будут только крысы, твои выбитые зубы и много крови.
– Угрожаете? Я так и думал: и до этого дело дойдет. Все ограничится психологическим давлением? Или собираетесь меня пытать?
– Ты отстал от жизни. От этих методов мы отказались много лет назад.
– Ох, какой прогресс. А я почему-то был уверен, что вы до сих пор работаете по старинке. Надо же, я ошибался… Я сам в душе человек старомодный. Поэтому прежние методы вашей работы мне как-то ближе, понятнее.
– Напрасно паясничаешь. Люди, с которыми ты работаешь, не дадут тебе умереть естественной смертью. Понял? Сегодня ты не хочешь сотрудничать со следствием. Скоро поменяешь решение, но будет поздно. Ты занимаешься сбытом фальшивой валюты. Крупных сумм. Ты не хочешь назвать подельников. А я и не настаиваю. Но ты прокололся, когда у покойного старика нашли тысячу баксов, которые ты ему передал. Твоей вины здесь нет, так сложились обстоятельства. Но прежней дружбы со своими хозяевами у тебя больше не будет. Максим, ты давно занимаешься сбытом фальшивок, многое знаешь, а теперь попал в нашу разработку. Догадываешься, что с тобой случится в ближайшем будущем? Тебя грохнут не сегодня, так завтра.
– Не все же такие догадливые, как вы, – буркнул Жбанов. – Грохнут… Это еще бабушка на трое разлила.
– Я предлагаю тебе безопасность в обмен на сотрудничество. Несколько вопросов, несколько честных ответов. Я отпущу тебя на все четыре, дам возможность залечь на дно, пока не уляжется пыль.
– Я торгуюсь.
– Ты женат? Дети есть? – спросил Липатов, хотя знал все подробности личной жизни Жбанова.
– Детей нет, – Жбан усмехнулся. – Все недосуг было их наклепать. Насколько я помню, меня угораздило жениться пару или тройку раз. Какая разница, когда все в прошлом.
– Значит, некому будет принести цветы на твою могилу? – сделал неожиданный вывод следователь.
– Я цветы не люблю. Сейчас, при жизни. А после смерти они мне нужны, как собаке трусы.
Липатов достал из ящика стола разовый пропуск, размашисто подписал его, поставил число и время. Кинул бумажку на стол.
– Хрен с тобой, – сказал он. – Ты меня настолько затрахал, что я того гляди рожу какого-нибудь ублюдка. Вроде тебя. Забирай пропуск и проваливай. С глаз моих подальше.
Жбан схватил бумажку. Вскочил со стула и, пятясь спиной к двери, вышел из кабинета. Казалось, следователь скомандует «назад». Но Липатов, кажется, тут же забыл о существовании Жбанова.
* * *
Место и время для встречи подобрали не самое удачное. Бирюков долго колесил по каким-то незнакомым улицам, где вместо домов высились прямоугольники складов и фабрик. Труба котельной пускала дым в темно небо. К ночи собрался дождь, низко нависли тучи. Первые тяжелые капли застучали по лобовому стеклу, капоту и крыше автомобиля. Прохожие словно повымирали. Бирюков притормозил у мачты городского освещения, в тусклом свете фонаря увидел указатель поворота и надпись «Брюховский тупик», выведенную краской на проржавевшем листе железа. Кажется, он нашел, что искал. Чертыхнувшись, Бирюков включил фары дальнего света, свернул на узкую дорогу, разбитую тяжелыми грузовиками. С обеих сторон этот черный аппендицит, где два автомобиля разъедутся с трудом, зажали бетонные заборы, поверху которых тянулись нитки ржавой колючки. Темно и сыро, как в водосточной трубе.
Бирюков остановил машину возле покосившихся на сторону железных ворот, которые, кажется, никто не отпирал в последнее десятилетие. Он не выключил фары, не ровен час, какой-нибудь грузовик влетит в него со всей дури, раскатает «жигуль» в лепешку и даже того не заметит. Половина двенадцатого ночи. Архипову самое время появиться, но его до сих пор нет. Бирюков сидел в кресле, поглядывая на кейс, лежавший рядом, на переднем сидении. Ему не нравилось это позднее свидание у черта на куличиках, не нравилась промозглая ночь. Но отказать владельцу галереи «Камея», если тот настаивает на срочной встрече, если хочет получить свой чемодан именно здесь, в городской промышленной зоне, язык не повернулся. Бирюков слушал ночной дождь и размышлял о том, что дела его пока складываются удачно.
Гарнитур с изумрудами и бриллиантами он отнес в крупный антикварный магазин, который скупал у населения ценные ювелирные изделия. «По моему мнению, качество камней безупречное, – сказал приемщик. Битые полчаса этот лысый старик разглядывал драгоценности через увеличительное стекло, а на сертификат бельгийской фирмы даже не взглянул. – Если вы оставите у нас колье и серьги, думаю, сможете выручить за них примерно сорок-сорок пять тысяч долларов. Но сейчас неудачное время для продаж. Летний застой в делах. Если бы вы потерпели хотя бы до середины октября, ваш гарнитур не пролежал на прилавке и недели. И цену можно было поставить чуть повыше. А сейчас… Возможны задержки. Длительные задержки. Кроме того, ценности должен оценить специалист. Мы приглашаем ювелира из Гохрана, он консультирует нас, когда речь идет о дорогих вещах».
Дело кончилось тем, что Бирюков настоял на разговоре с управляющим. «Я хочу получить за эту музыку тридцать штукарей», – сказал Бирюков, когда его проводили в кабинет, где за столом сидел моложавый дядька в вызывающе ярком клетчатом пиджачке. Мужчина назвался Сергеем Сергеевичем. Он выслушал посетителя, снисходительно кивая головой. «Хотеть не вредно», – усмехнулся управляющий и вытащил из верхнего ящика толстую лупу. Через пять минут от иронического настроения не осталось и следа.
Сергей Сергеевич сделался серьезным, даже застегнул вторую пуговицу пиджака. «Тридцать тысяч – это реальные деньги, – сказал он. Видно, наметил будущего покупателя, прикинул навар, который отложится в кармане. – Думаю, вы можете получить эти деньги, скажем, дней через пять. Я немного разбираюсь в камнях, но их должен оценить специалист. Таков порядок. Мы напишем расписку, что ваш гарнитур, ориентировочная стоимость которого тридцать тысяч долларов, взят магазином на комиссию. Договорились? Документы при себе? Вот и хорошо». Бирюков не рассчитывал, что от гарнитура удастся избавиться быстрее, чем за неделю. Он подписал бумаги и с легким сердцем покинул кабинет.
…Около полуночи сквозь пелену дождя прорезался тусклый свет автомобильных фар. Машина двигалась медленно, раскачиваясь, колеса увязали в глубоких колеях. Это была светлая «пятерка» с затемненными стеклами и номером, забрызганным грязью. Автомобиль остановился в нескольких метрах от передка «девятки», мигнул фарами. Бирюков распахнул дверцу, подхватил чемоданчик, наступив в лужу, мгновенно промочив легкие туфли.
Глава шестая
Горящие фары слепили глаза, Бирюков видел, как открылась задняя дверь «пятерки», показался человеческий силуэт. Высокий плотный мужчина в плаще. Через секунду с переднего пассажирского сидения вылез Архипов. Глядя себе под ноги, чтобы не поскользнуться на скользкой грязи и не грохнуться в лужу, медленно двинулся вперед, остановился, протянул для пожатия левую руку. Мужчина в плаще последовал за ним. Когда ладони соприкоснулись, Архипов так надавил указательным пальцем на запястье Бирюкова, что тот едва не вскрикнул от боли.
– Познакомься, – хозяин галереи посмотрел за спину, но руку Бирюкова не выпустил, еще крепче сдавил. – Это мой приятель Ашот. Отдай ему чемодан.
Мужчина в плаще молча кивнул головой и взял кейс.
– Что с тобой? – Бирюков насилу высвободил руку. – Впотьмах на грабли наступил?
Прищурившись, он рассматривал физиономию хозяина картинной галереи. Физиономию изрядно помятую. Рассечение над левой бровью, губы распухшие, под глазом расплылся овал синяка, на скуле запеклась сукровица. Ладонь правой руки кое-как на скорую руку перехвачена серым от грязи бинтом, сквозь который проступают пятна крови. Одет галерейщик так, будто сутками валялся на свалке в обнимку с бомжами. Мятый пиджак в бурых подтеках то ли кетчупа, то ли грязи, несвежая рубашка, засаленный галстук.
– Немного переборщил с этим делом, – Архипов щелкнул пальцем по горлу и подмигнул собеседнику. – Сдуру сел за руль мухой. Поехал за город к одной знакомой…
– И не вписался в поворот?
– Ты догадливый, – Архипов снова подмигнул одним глазом. – Я шел на приличной скорости, вылетел с трассы. И влепился в столб. Не знаю, что со мной случилось. Обычно я пьяный вожу машину лучше, чем трезвый. Но в тот раз просто не повезло. Моторный отсек всмятку. Двигатель чуть не вылетел в салон. Машина, как говориться, не подлежит восстановлению. А я, как видишь, легко отделался. Синяки, порезы от битого стекла.
– Всего-навсего?
– Да, несколько царапин. И всех дел…
– Подушка безопасности сработала?
– Подушки тот автомобиль не укомплектован. А, хрен с этим делом, рассказывать не хочется. На людях появляться с такой рожей не рекомендуется. Все-таки я хозяин картинной галереи, а не подзаборный ханыга. Поэтому сейчас отсиживаюсь, как партизан, у него на даче, – Архипов кивнул на армянина. – Спасибо, приютил. Ты, наверное, знаешь, что такое кавказское гостеприимство. О, такая штука… Если уж попал в гости к кавказцу, к такому человеку как Ашот, очень трудно потом выбраться обратно домой.
– Там пора, – вставил реплику Карапетян. Армянин говорил низким простуженным голосом, явственно звучала нотка раздражения. Видимо, он счел лишними, совершенно неуместными слова о кавказском гостеприимстве. – Тебе пора спать. Врач велел ложиться не позже двенадцати.
– Сейчас, сейчас, – скороговоркой ответил Архипов. – Уже иду. Если встретишь кого-нибудь из наших общих знакомых, скажи, что я почти в порядке. Скоро, как только заживет все это дерьмо, появлюсь на работе.
Ночной ливень не располагал к светской беседе, но Бирюков еще не удовлетворил любопытства. Он стоял ногами в луже, потому что сухого места, куда не кинь глаз, не находилось, стирал с лица дождевые капли, и слушал Архипова, понимая: творится что-то странное, не поддающееся объяснению. Сочувственно кивал головой и спрашивал себя: с какой стати хозяин «Камеи» так безбожно и бездарно врет. При подобной аварии галерейщику обеспечен как минимум двусторонний перелом ребер, с пятого по седьмое включительно. Но ребра целы. И если хорошенько приглядеться, заметно, что свои «царапины» Архипов получил не в один день и час. Разбитые губы подсохли, заживают, а вот отметина над бровью и фонарь под глазом совсем свежие, едва ли не светятся в темноте.
– В конце сентября в «Камее» открывается большая выставка, – сказал Архипов. – Нужно утрясти тысяча и одну проблему. Боюсь, как бы это мероприятие не сорвалось.
Ашот, нетерпеливо переминался с ноги на ногу, опустив свободную руку в кармане плаща. Кажется, он был недоволен тем, что беседа затягивается и уходит в сторону. Армянин покашливал в кулак, давая понять, что самое время закругляться.
– Еще одна просьба, – сказал Архипов. – Последняя. На днях из Варшавы приезжает тот самый дипломат, ну, которого ты уже встречал на Белорусском вокзале. Не затруднит еще раз съездить за посылкой? Я заказал кое-какие безделушки для своей галереи. Но не хочу в таком виде показываться на глаза Сахно.
– Встречу, – пообещал Бирюков.
– Вот и прекрасно, – оживился Архипов, он попробовал улыбнуться, но на лице выступила гримаса боли. – Я тебе позвоню. Скажу номер поезда и время прибытия.
Он протянул левую здоровую руку для прощального пожатия. Через мгновение Бирюков ощутил в своей ладони то маленький ли камушек, то ли плотно скатанный бумажный шарик. Карапетян похлопал пленника по плечу. Рука Архипова дрогнула, шарик, вывалившись из ладони, упал в дорожную грязь. Бирюков не посмотрел вниз, боясь взглядом выдать себя.
Он остался стоять на дороге, наблюдая, как Карапетян и Архипов садятся в «пятерку», машина, выплевывая грязь из-под покрышек, дает задний ход, осторожно разворачивается. Мигают стоп-сигналы, удаляются фонари. И вот уже темная дорога пуста. Присев на корточки, Бирюков двумя пальцами выудил из лужи бумажный шарик, пропитавшейся грязной водой, запачканный грязью. Скорее всего, это записка, прочитать которую сейчас невозможно, мокрая бумага просто расползется в руках. Бирюков вытащил носовой платок, аккуратно завернул в него бумажный шарик. Залез в машину, чувствуя, что пиджак промок насквозь, а в ботинках хлюпает вода, дал задний ход. И через десять минут выехал на оживленную трассу.
* * *
…Закрыв квартиру, Бирюков разделся до трусов, натянув сухую майку и тренировочные штаны. Он налил полстакана водки, разбавив сорокоградусную томатным соком, добавил молотого черного перца. И, размешав пойло пальцем, прикончил его в три глотка. Чувствуя, как тепло расходится в крови, он заперся в ванной комнате, превращенной в фотолабораторию. Положил бумажный шарик на кусок черной гладкой пластмассы, осторожно развернул бумажку пинцетом. Пятидесятидолларовая купюра пропиталась грязной водой, но осталась целой, даже не порвалась по краям.
Бирюков скатал ватный тампон, смочил его в ацетоне, осторожно удалил с банкноты мелкие частицы грязи. Затем взял небольшой стеклянный прямоугольник, положил его поверх банкноты на кусок пластмассы, зафиксировал стекло широким скотчем. Вытащил из ящичка для инструментов лупу с пятнадцатикратным увеличением, включил лампу фотоувеличителя. Бумажка была испещрена мелкими дырочками, если приглядеться, даже без помощи лупы, дырочки легко складывались в буквы, а буквы в слова. Теперь, когда грязь с банкноты удалена, записку Архипова можно прочитать без особого труда. Буквы послания выколоты на бумаге чем-то острым, тонкой проволокой, иголкой или зубочисткой. «Я в беде. Не ходи к ментам. Иди к Максу. Скажи: ты получил телеграмму. Он поможет». Далее следовал номер московского телефона, после которого начиналась новая фраза, но ее Архипову помешали закончить: «Они треб…» Бирюков взял с полочки пачку сигарет, щелкнул зажигалкой и глубоко затянулся.
Если прочитать записку, а затем вспомнить иносказания Архипова, намеки, касающиеся кавказского гостеприимства, его синяки, ссадины, грязную бинт в пятнах засохшей крови… Выводы сделать не сложно. Галерейщик влип в историю, которая может закончится в неглубокой могиле где-нибудь за городом. Но если обстоятельства складываются настолько паршиво, почему он пишет: «Не ходи к ментам?» И кто такой Макс? Бирюков отлепил полоски скотча от стекла, высушил купюру феном и положил ее в бумажник.
Он прошел в комнату, с пола до потолка заваленную картинами, присев на стул, опустил крышку секретера. Достав с верхней полочки конверт из плотной бумаги, высыпал на столешницу сотенные долларовые купюры, которые сегодня днем получил в антикварном магазине за бельгийский гарнитур: колье с изумрудами и серьги с бриллиантами. Ровно тридцать тысяч долларов. Пересчитав деньги, разделил их на две неравные части. Все по справедливости. Двадцать тысяч – доля Бирюкова. Это он сумел зубами вырвать заказ на оформление фойе Дворца культуры, он делал эскизы, утрясал все проблемы с прежним руководителем комбината минеральных удобрений, согласовывал варианты набросков. Десять тысяч – для Павла Ершова, ассистента, который помогал расписывать стену фойе. Через несколько дней он вернется из Краснодара, где гостит у тестя, и получит свои деньги.
Рассовав деньги в два конверта, Бирюков засунул их между словарем художественных терминов и кратким географическим справочником. Здесь же, в секретере, стопкой лежали фотографии Дашкевича, растянувшегося на гостиничной койке в обнимку с проституткой по имени Марго. Пожалуй, карточки можно порвать и выбросить. Впрочем, пусть пока полежат. Кто знает, чего ждать от Дашкевича. Фотографии могут пригодиться.
Бирюков запер секретер на ключ, погасил свет и лег спать.
* * *
После обеда в камере «Матросской тишины» чувствовалось какое-то необъяснимое оживление. Николай Осадчий сидел на нижней шконке возле перегородки, за которой булькал неисправный бачок унитаза, и прислушивался к чужим разговорам, ловил каждый звук.
Здешний авторитет по кличке Профессор, щуплый преклонных лет мужчина, всегда неразговорчивый и мрачный, долго шептался в углу с неким Пиночетом, бритым наголо амбалом, на затылке которого была выколота фашистская свастика. Осадчий, хоть и отмотал на Украине два коротких лагерных срока, в «Матросской тишине» был чужаком, едва ли не фраером, который мог приблизиться к Профессору лишь, когда тот поманит пальцем. Но Профессор не баловал сокамерников своим вниманием. Пиночет же нагонял на окружающих ужас. Никто не знал, что написано в его обвинительном заключении, хранившимся в кармане спортивных штанов, но и без очков видно, что на молодце висит не одно мокрое дело. Пиночет был единственным человеком из камеры, кого уводили в следственный кабинет в наручниках и там на время допроса пристегивали к столу.
Сегодня, закончив перешептываться с Профессором, Пиночет, молча ухватил за майку и скинул с верхней шконки какого-то лоха. Забравшись на его место, отвернулся к стене и прохрапел до вечера.
После ужина на нижнюю шконку присел Саша Лобов, молодой человек, востроносенький и щуплый, с которым у Осадчего завязалось что-то вроде дружбы. Лобов обвинялся в убийстве батюшки, служившего в одном из подмосковных приходов, и хищении церковных ценностей. Ночью возле храма, откуда вор пытался вынести несколько икон и серебряную купель, неожиданно появился священник, и сдуру попытался остановить злоумышленника. Лобов бросил на землю корыто и доски, выхватил из-за пазухи нож с длинным трехгранным клинком и нанес попу несколько сквозных ранений в грудь. Наутро священника в рясе, насквозь пропитанной кровью, привезли в районную больницу, там он и скончался, не приходя в сознание.
Лобова задержали, когда тот пытался после окончания футбольного матча в Лужниках сбыть иностранцам почерневшие от времени иконы. Где находится оклады икон, украшенные драгоценными камнями, и куда делась старинная серебряная купель, следствию установить не удалось. Здесь, в камере, Саша Лобов рассказывал, что сам некогда учился в семинарии, откуда был изгнан то ли за вольнодумство, то ли за воровство. К месту и не к месту, даже справляя большую нужду, он поминал Господа Бога. Суд над Лобовым уже состоялся, но чудесным образом бывший семинарист избежал этапа и зоны строгого режима. Эксперты института имена Сербского определили, что он невменяем, то есть страдает тяжелой формой шизофрении. Со дня на день Лобова должны были перевести из «Матросской тишины» в психушку закрытого типа. Осадчий рассудил, что у молодого человека есть на воле влиятельные друзья или очень богатые родственники.
Лобов не был психом, но мучался глубоким надсадным кашлем, харкал в унитаз мокротой с кровью. За прошлую неделю он дважды терял сознание от жары. И вертухаи за ноги вытаскивали бывшего семинариста в коридор, чтобы там, лежа на бетонном полу, он мог отдышаться и придти в себя.
– Кушать хочешь?
Лобов и, не дожидаясь ответа, вложил в ладонь Осадчего ломоть хлеба, покрытый тремя кружками колбасы.
– Спасибо, я отдам, – поблагодарил Осадчий.
Неделю, как он отправил матери письмо, просил собрать ему дачку: соленого сала, сушеной рыбы и папирос без фильтра. Стыдно ему, здоровому лбу, сидеть на подсое у молокососа Лобова.
– Ну, и дела творятся… Жуткие, Господи помилуй. С воли в соседнюю камеру пришла малява.
– Что за малява? – равнодушно спросил Осадчий, перемалывая зубами жесткую колбасу.
– Сегодня ночью одного фраера кончать будут, – Лобов показал большим пальцем себе за спину. – Ну, в той камере, через стену…
– То есть как это, кончать? – Осадчий поперхнулся куском.
– Натурально кончать, во имя отца и сына и Святого духа, – сказал Лобов. – Тот фраер много болтал на предварительном следствии. И вообще… Кому-то на воле он очень не нравится. А тюремная почта, слава Богу, работает лучше московского телеграфа.
– Болтал на следствии? – переспросил Осадчий. Он снова ощутил себя полным ничтожеством. Впервые попав в большую московскую тюрьму, он, как ни старался, не понял здешних порядков. – И за это кончать?
– А что ему, задницу расцеловать? Прости Господи.
– За болтовню не кончают.
– Это ж не я так решил, – ответил Лобов. – Господи, спаси. На воле решили. Семье того мужика, кто исполнит смертный приговор, переведут большие бабки. Очень большие. А ему самому обещают шикарный подогорев, за то, что возьмет на душу такой грех. Дадут все, чего он захочет. Жратва, деньги, – это само собой. Даже циклодол, чтобы чувак торчал целыми днями. И ни о чем таком не вздыхал. Ну, за такие блага кто хочешь кровью испачкается. Любой гад, прости Господи.
Осадчий дожевывал колбасу и ждал, когда мужик, отсыпавшейся на нижнем ярусе, освободит место и можно будет спокойно лечь и вздремнуть. Минута текла за минутой, темнота за окном сгущалась. Осадчий ждал и думал о том, что сам наболтал лишнего прокурорскому следователю. Рассчитывал на поблажки, на одиночную камеру, наконец, на то, что заседатели скостят срок. Но Липатов как сквозь землю пропал, Осадчего не выдергивали на допросы вторую неделю. Видимо, новые показания от него уже не требуются. Осадчего выжали, как тряпку, и заткнули сюда, в эту душегубку, общую камеру с ее волчьими законами.
Последние дни, проведенные среди уголовников, в основном тупых бытовиков, показались вечностью. Гнетущая августовская жара сменилась дождями, которые не принесли облегчения. В камеру, рассчитанную на двенадцать рыл напихали двадцать восемь человек, которые были вынуждены спать посменно на двухъярусных нарах. В воздухе висели нездоровые миазмы, пахло нечистотами, немытыми мужскими телами и хлоркой. Осадчий с нежностью вспоминал девятый тюремный блок, свою одиночку, где дышалось легко, а в горло лезла даже несъедобная баланда. И думал о том, что нужно набраться сил, пережить пару трудных дней и ночей, а там легче станет. Шли разговоры, что днями будет большой этап. Едва ли не треть населения камеры, человек десять, уже осужденных, разбросают по пересыльным тюрьмам. И дышать станет легче.
Около в одиннадцати нижняя шконка освободилась. Осадчий улегся на провонявший потом матрас, подложив под тяжелую голову локоть, и подумал, что какой-то человек в камере через стенку не доживет до утра. Завтра весь день только об этом и будет разговоров: пришили суку. Осадчий зевнул и тут же перешагнул границу между бодрствованием и глубоким сном.
Он проснулся в полете, когда неведомая сила столкнула его вниз со шконки, бросила на пол. Еще не сообразив, что происходит, ударился затылком об пол, пытался закричать, но в зубы ему влепился тяжелый кулак. Крик застрял в горле. Осадчий что-то промычал, открыл глаза. Он лежал поперек камеры, видел перед собой темный потрескавшийся потолок и лица сокамерников, склонившиеся над своей жертвой. Кто-то уселся на его ноги, кто-то навалился на предплечья, крепко прижав руки к полу. Кто-то сдавил виски коленями, словно стянул голову стальным обручем. Кто-то налег на подбородок, чтобы рот Осадчего оставался открытым.
Лобов, широко раздвинув ноги, сидел на его груди, крепко сжимая бока своими жилистыми бедрами. Руками он забрался в раскрытый рот Осадчего, шевелил там пальцами, нащупывая язык. Во рту собиралась кровь, она попадала в бронхи, мешала дышать.
– Ну, не дергайся, ради Бога, – шептал Лобов. – Тебе же лучше, братан. Спокойно. Это же не больно. Ну, вот так… Потерпи, во имя отца, мать твою, и сына, и Святого духа. Лежи, тварь.
На секунду Лобов вытащил руку изо рта Осадчего, поднял ее. Кто-то вложил в пальцы семинариста «мойку», лезвие опасной бритвы, с одной стороны обмотанное изоляционной лентой. Осадчий почувствовал, металлический вкус во рту, лезвие распороло язык, вошло в небо. Снова полоснуло по языку.
– Тихо, пожалуйста, – шептал Лобов. Он покрылся крупной испариной, пот щипал в глаза, капал с кончика носа. Когда Осадчий кашлял, выплевывая изо рта кровь, красные капли попадали на подбородок и шею Лобова. – Ради Господа… Сука, не дергайся, тебе говорят… Лежи мать твою, во имя отца… Господи, что за наказание…
Собрав все силы, Осадчий изогнулся дугой, пытаясь сбросить с себя семинариста. Не тут-то было… Он чуть повернул голову, скосил глаза в сторону. Горела лампочка в железной сетке. К двери приник какой-то жох, он вслушивался в шаги контролера. Осадчий с тоской подумал: когда вертухай подойдет к глазку, повернет «вертушку» и заглянет в камеру, все уже кончится. Давно кончится… Труп засунут под матрас, где он пролежит до побудки. Утром контролеры извлекут окровавленное уже холодное тело, бросят на пол. Затем перетащат в судебный морг. Начнется следствие. Пиночета и Профессора потаскают по следственным кабинетам. Но дело вскоре заглохнет, потому что ни казни, ни убийц в переполненной людьми камере, разумеется, никто не видел. Потому что все дрыхли…
Осадчий чувствовал, что силы уходят от него, рот заполнен горячей кровью. Он кашлял и задыхался. Фигура сидящего на груди Лобова двоилось, уплывала куда-то вверх, к темному потолку, и снова летела вниз. Бритва резала рот.
– Кончай скорей, – откуда-то сверху отозвался Пиночет. Он сидел задом на правой руке Осадчего, не давая тому шевелиться. Руками нажимал на подбородок, чтобы рот жертвы не закрывался. Рожа Пиночета покраснела от натуги, на шее вздулись синие жилы. – Здоровый, тварь. Кончай, я говорю, скорее…
– Сейчас, сейчас, во имя отца, – шептал Лобов. – Никак не ухвачу. Сука, бля, скользкий… Господи, мать твою за ляжку. Ой, бля.