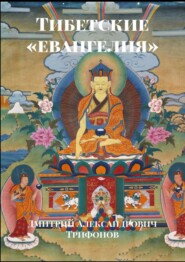скачать книгу бесплатно
Вскоре аспирант Б. И. Кузнецов сам начал преподавать тибетский язык на восточном факультете, где до конца жизни будет возглавлять единственное в стране отделение тибетской филологии. В 1961 г. вышла его монография «Тибетская летопись „Светлое зерцало царских родословных“», по которой он в 1962 г. защитил кандидатскую диссертацию и положил в основу своей книги, опубликованной на английском языке в Лейдене.
С этих пор и до конца жизни Тибет стал главным объектом научных изысканий Б. И. Кузнецова – около тридцати работ ученый посвятил истории и религии этой страны. Его научные публикации посвящены проблемам тибетской филологии, истории буддизма, источниковедению, этнографии и истории Тибета.
Одним из первых Б. И. Кузнецов начал разрабатывать сложнейшие вопросы происхождения и истории религии древних тибетцев – бон. Кроме него данной проблематикой в мире на систематической, научной основе занимался очень узкий круг исследователей: итальянский профессор Дж. Туччи, а также британский тибетолог Д. Снэллгроув.
Весьма плодотворными оказались его исследования связей Тибета и древнего Ирана, чему посвящен ряд статей, а также труды «Древний Иран и Тибет» и «Тибетцы о древнем Иране». В этих работах вводятся в научный оборот малоизвестные памятники тибетской литературы, имеющие большое значение для истории и культуры пародов Центральной Азии и Ближнего Востока.
В фундаментальной монографии «Древний Иран и Тибет» Б. И. Кузнецов не только ввел в оборот малодоступные памятники тибетской историографии, но и проделал тщательный и смелый для того времени анализ, идущий вразрез с общепринятой в то время в иранистике концепцией о незначительности влияния иранских религиозных концепций на генезис идей тибетского бона.
Коллеги Б. И. Кузнецова по востоковедению отмечают поразительную глубину и широту источниковедческой базы ученого – для аргументированного обоснования своих научных выкладок им был привлечен целый комплекс источников по бону, многие из которых были переведены и исследованы им впервые. Отмечается, что Б. И. Кузнецов первый доказал персидские истоки религии бон.
При жизни Б. И. Кузнецов опубликовал около тридцати научных статей по филологии, истории, этнографии и религиоведению. Некоторые из них были опубликованы в соавторстве с Л. Н. Гумилевым. Большинство работ вышло в свет после смерти ученого.
Кроме этого, Б. И. Кузнецов занимался переводческой деятельностью. В частности, в последние годы своей жизни он работал над переводом «Ламрим Ченмо» – назидательного труда тибетского религиозного деятеля XIV в. Цзонхавы.
Большинство отечественных тибетологов, ныне работающих в Санкт-Петербурге, Москве, Улан-Удэ, Элисте, Кызыле, являются учениками Б. И. Кузнецова. Бывшие его студенты работают также в научных учреждениях Германии, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Финляндии.
По воспоминаниям своих учеников и коллег, Б. И. Кузнецов был глубоким и проницательным исследователем, великолепным педагогом – пользовался непререкаемым авторитетом в студенческой среде, предметы преподавал с любовью и полной самоотдачей, был очень скромен и неприхотлив в бытовом отношении. В общем, перед нами, без преувеличения, портрет крупного русского ученого, положившего жизнь на алтарь отечественной исторической науки.
Часть научных трудов, в основном по религии бон, как указано выше, была написана Б. И. Кузнецовым в соавторстве с известным советским историком Л. Н. Гумилевым. Более чем уверен, что широкому кругу читателей – любителей истории, а возможно, отчасти и специалистам, ничего неизвестно об интересе Гумилева Л. Н. к изучению этой религии древнего Тибета. По крайней мере данные труды никогда широко не публиковались в нашей стране, в отличие от его общеизвестных работ по этногенезу.
Знакомство с Л. Н. Гумилевым оказало немалое влияние на научное творчество Б. И. Кузнецова. Впрочем, по некоторым данным, на определенном этапе их сотрудничество оказалось под угрозой в связи с возникшим между ними конфликтом на профессиональной почве.
В частности, дочь Бронислава Ивановича – Елизавета Брониславовна Кузнецова вспоминала следующее:
«Большое влияние оказало на папу и всю нашу семью знакомство со Львом Николаевичем Гумилевым. Их познакомил их общий друг, крестный сын Льва Николаевича и крестный отец моего папы – Гелиан Михайлович Прохоров, филолог-славист, который работал в Пушкинском доме (Институте русской литературы). Я тогда была подростком, школьницей, но хорошо помню подробности их общения, так как постоянно присутствовала при их встречах как у нас дома, так и у Л. Н. Гумилева. Лев Николаевич приглашал нас к себе домой, в коммунальную квартиру на Московском проспекте, и относился к моему отцу как к родственнику – с большой симпатией, вниманием, дружеским, почти отеческим участием. Папа его обожал, он был для папы примером во всем. Особенно он восхищался тем, что Лев Николаевич, пройдя суровые испытания в лагерях, смог стать большим ученым. Иногда мне казалось, что мой папа хотел в чем-то походить на него. Папа читал все его книги, всё слушал вживую, был одним из немногих первых людей, с которыми Гумилёв делился своими планами и совместными проектами. К сожалению, потом по каким-то профессиональным причинам они разошлись, поссорились, тем не менее взаимное уважение осталось, как и прекрасные воспоминания о семейных встречах. Почему у них произошел конфликт? Этот момент очень сложный. Дело в том, что папа такой человек, в котором всегда боролись две особенности: абсолютное стремление к истине, честности, правде и – уважение к старшим, дипломатическое и уважительное отношение к людям, которые ему дороги. Поэтому, когда папа видел что-то, что ему профессионально казалось сомнительным, он мог деликатно это высказать и прокомментировать только в личной беседе. Один раз моя мама высказала Льву Николаевичу свое мнение о возможных неточностях его перевода с восточных языков, а папа ответил ей, что у него есть сомнения, что эти переводы сделал Лев Николаевич. Возможно, эти слова дошли до Льва Николаевича. Это и стало причиной конфликта.»
Не исключено, что именно Л. Н. Гумилев первым предложил Б. И. Кузнецову заняться научной разработкой проблематики, связанной с религией бон. Так, авторы предисловия к книге Б. И. Кузнецова «Бон и маздаизм» А. Н. Зелинский и В. М. Монтлевич считают, что: «Именно Гумилеву было суждено заинтересовать Кузнецова сравнительной культурологией и историей. И Кузнецов обращает свое внимание на проблему генезиса тибетской культуры, взаимоотношения буддизма и религии бон, и прежде всего на проблему происхождения последней… В итоге Б. И. Кузнецов обосновал концепцию персидского происхождения бона». Впрочем, это всего лишь гипотеза. Буду очень рад, если специалисты, обладающие достоверной информацией, а, паче чаяния, и очевидцы этих событий, осветят данный вопрос более полно и объективно.
По имеющимся у автора непроверенным сведениям, возможно Л. Н. Гумилев обладал гораздо более глубокими знаниями о подлинной истории либо догадывался о многих вещах в силу своего недюжинного интеллекта и мощной научной интуиции, однако в силу ряда вполне понятных причин, связанных с идеологическим диктатом, присущим советской исторической науке, не мог в своих работах свободно излагать возникающие у него гипотезы и концепции по истории страны.
На мой взгляд, труды Л. Н. Гумилева по истории древней Руси, и особенно касающиеся ее взаимоотношений с Золотой Ордой, нужно читать, что называется между строк, видимо таким образом автором многое было закамуфлировано от глаз неусыпных советских цензоров. И это не только мое личное мнение. В подтверждение своих выводов могу, в частности, сослаться на книгу замечательного автора Г. Еникеева, тоже занимающегося историческими изысканиями в русле восстановления подлинной истории – «Великая Орда: друзья, враги и наследники».
Так, названный автор пишет следующее: «Мы уже знаем, что Л. Н. Гумилев в своих трудах, как сам он выразился, все-таки „сумел сказать то, что хотел“, хотя и не мог в период европоцентристского тоталитаризма открыто писать правду о подлинной истории татарского народа. Многое пришлось Л. Н. Гумилеву излагать намеками и иносказаниями – при том невозможно было в те времена публиковать историкам публиковать свои труды без приведения общеобязательных постулатов прозападной историографии».
И еще: «В предыдущих книгах более детально излагается анализ сведений из работ Л. Н. Гумилева… Там же можно узнать о том, что именно хотел и смог сообщить нам в своих трудах Великий Евразиец о подлинной истории татарского народа, род бдительным оком стукачей из числа научных коллег и цензоров – управленцев исторической наукой в тоталитарном государстве».
Полный список научных работ Б. И. Кузнецова приведен в приложении №1 к книге (по состоянию на 31.01.2005г.). Из данного перечня, в частности видно, что сотрудничество двух выдающихся ученых-историков по большей части осуществлялось в области научных исследований, касающихся именно религии бон. В дальнейшем наш анализ будет основываться в основном на их совместных трудах, в необходимых случаях будут даваться ссылки на соответствующие работы.
Глава 2
Краткое изложение основ религии бон, ее происхождение и история. Характеристика основных источников.
1
Прежде, чем приступить к анализу выявленных автором параллелизмов между содержанием древних бонских источников и канонических христианских евангелий, необходимо хотя бы вкратце ознакомиться с имеющимися на сегодня сведениями о происхождении религии бон, ее истории и характерных доктринальных особенностях. Основываться мы при этом будем, разумеется, на работах Б. И. Кузнецова и Л. Н. Гумилева.
Главные выводы ученых в этой части вкратце сводятся к следующему:
– религия бон существовала в Тибете до начала распространения в данном регионе буддизма (VII в. н.э.) и это очень важно для наших дальнейших исследований;
– бон является теоретически обоснованной, цельной религиозной системой, что, на мой взгляд, свидетельствует о наличии сложившейся традиции (школы) и довольно длительного периода времени, необходимого для ее формирования;
– внедрение буддизма в Тибете встретило ожесточенное сопротивление, и, несмотря на «тысячелетнюю» борьбу, а также поддержку центральной власти, так и не закончилось окончательной победой первого;
– в ходе этой борьбы обе религии сильно трансформировались, оказав друг на друга значительное влияние;
– и, главное, что представляет интерес для целей данной книги – религия бон проникла в Тибет из Ирана, т.е. извне и представляет собой одну из разновидностей традиционного маздаизма (зороастризма).
Необходимо отметить, что в исторической науке существуют альтернативные взгляды на генезис религии бон. Так, точка зрения Б. И. Кузнецова и Л. Н. Гумилева об иранском происхождении этого учения долгое время считалась несостоятельной. По этой причине главные работы Б. И. Кузнецова, подводящие итог его многолетних научных изысканий по данному предмету – «Древний Иран и Тибет. История религии бон», а также «Бон и маздаизм» были изданы, увы, после его смерти: первая – в 1998 году, вторая – в 2001.
В связи с этим, Б. И. Кузнецов неоднократно подвергался беспощадной критике за свои научные убеждения. Однако, более поздние, независимые исследования зарубежных коллег Б. И. Кузнецова подтвердили правоту ученого (это мнение А. Н. Зелинского и В. М. Монтлевича – авторов предисловия к упомянутой книге «Бон и маздаизм»). Как пишут упомянутые А. Н. Зелинский и В. М. Монтлевич: «…Позиция Кузнецова об иранском происхождении бона, о его генетическом сродстве с традиционным маздаизмом на сегодняшний день является максималистской, но никем не опровергнутой. Современные тибетологи в этом вопросе до сих пор не пришли к общепризнанной концепции».
По их мнению, Б. И. Кузнецов, кроме этого, расширил спектр проблем, связанных с боном, хотя и не успел в своих исследованиях охватить весь их комплекс. В частности, к этим вопросам можно отнести следующее:
– эсхатология бона и ее связь с кочевым героическим эпосом о Гэсэре и легендами о Шамбале (о герое эпоса Гэсэре мы в дальнейшем поговорим более подробно);
– связь бона с иранским зерванизмом как древнейшим учением о времени;
– различные формы добуддийского и послебуддийского бона в Тибете и ряд др.
Теперь перейдем непосредственно к изложению их гипотезы, впервые опубликованной в совместной работе «Бон (Древняя тибетская религия)» в 1970 году и получившей развернутое представление в упомянутых выше книгах Б. И. Кузнецова «Древний Иран и Тибет. История религии бон» и «Бон и маздаизм».
Итак, в середине VII в. н.э., по приглашению тибетского царя Сронцзангампо, в Тибет из Индии прибывают буддийские монахи для распространения своего учения. Однако, там им пришлось столкнуться, как можно было бы предположить, не с первобытным язычеством, шаманизмом или культом мертвых предков, а с тщательно продуманной, теоретически отработанной религиозной системой, носившей название бон.
Впрочем, о времени распространения этой религиозной системы в Тибете в работах Б. И. Кузнецова содержатся противоречивые сведения. Так, в более поздней монографии «Бон и маздаизм» он относит появление бона в стране вечных снегов уже ко II в. до н.э., а именно к 127 году, который соответствует первому году тибетского летоисчисления «Годы царей». Этим же периодом датируется правление первого полулегендарного тибетского царя Някхри-цэнпо, с деятельностью которого древние тибетские источники и связывают начало распространения в Тибете религии бон. Важно подчеркнуть, что этот же год считается у тибетцев началом государственности.
Таким образом, возникновение первого государства в Тибете тесным образом связано с появлением в этой стране религии бон, что вряд ли может быть случайным совпадением. Не исключено, что государственность в Тибет наравне с религией, а одно от другого, как показывает история, в древности было неотделимо, привнесены извне, возможно в ходе завоевания этой территории каким-то неизвестным исторической науке народом (это предположение более детально мы рассмотрим в своем месте).
Несмотря на активную поддержку центральной, т.е. царской власти, буддистам пришлось выдержать тысячелетнюю борьбу, в результате которой им все-таки не удалось достигнуть полной победы – до сих пор в Тибете наряду с «желтой» верой – ламаизмом существует и учение бона, с той лишь разницей, что борьба между этими религиями больше не влечет за собой множества кровопролитных столкновений, что было характерно для первых веков проникновения буддизма в Тибет (у авторов буквально – «гекатомб из человеческих тел»). Т. е., внедрение буддизма в Тибете происходило драматически, насильственным образом со стороны царской власти (насаждалось «сверху»).
В настоящее время бон исповедуется в Сиккиме, отчасти в Бутане, в Западном Тибете, в китайских провинциях Сычуань и Юньнань, южнокитайскими народностями мань, лоло, лису и др. Говорится даже о некоем ренессансе, который переживает эта религия в наше время. В частности, в конце прошлого века на территории индийского штата Химал-Прадеш, в поселении Доланжи, был возрожден древний бонский монастырь Мэнри, разгромленный после присоединения Тибета к КНР, в результате чего монахи монастыря были вынуждены бежать в близлежащие страны (Индия, Непал, Бутан). Не так давно в столице Непала – Катманду открылся еще один бонский монастырь Тритэн Норбуци. В конце 1980-х годов был основан «Институт по изучению бона». В конце XX в. появились центры по изучению бона в Европе и Америке. Общины последователей этой религии существуют в Москве, Санкт-Петербурге и Минске.
Точный смысл названия религии – «бон», равно как и принадлежность этого слова какому-либо языку, неизвестны, считается, что оно, скорее всего, нетибетского происхождения, что косвенно подтверждает версию о «пришлом» характере этой религии для тибетцев.
2
Для полноты картины, с целью понимания на каком историческом фоне развивались исследуемые нами события, вкратце, «пунктиром», коснемся истории древнего и средневекового Тибета в изложении Б. И. Кузнецова (впрочем, его взгляд вполне согласуется с общепринятой в науке точкой зрения на историю этой страны).
Итак, как мы указали выше, начало государственности, а значит и истории Страны вечных снегов, сами тибетцы относят ко времени первого полумифического царя Някхри-цэнпо, правившего во II в. до н.э.
Далее, вплоть до VII в. н.э., т.е. до периода царствования знаменитого царя Сронцзангампо, древние источники хранят полное молчание о происходящих в стране событиях, за исключением отрывочных сведений о некоем внутреннем волнении («…армии пришли в движение и возникла борьба; было созвано совещание»), интерпретируемом Б. И. Кузнецовым как процесс объединения тибетских племен, закончившийся созданием мощного союза, возглавляемого вождями сильнейших племен. Таким образом, первоначальный период истории Тибета покрыт для нас мраком, мы имеем о нем весьма скудные и противоречивые сведения.
В VII в. н. э. Тибет заявляет о себе на международной арене в качестве военного агрессора: страна разделена на четыре «крыла» или дивизии, все мужское население обязано служить в армии, кроме «старой», родовой знати, формируется новая элита из числа военнослужащих, особо отличившихся в боевых действиях. Власть царя, формально первого лица в государстве, по-видимому заметно ограничена.