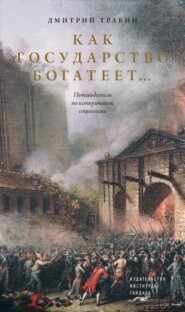скачать книгу бесплатно
С чем же все-таки связан феноменальный успех Европы? На данный вопрос в науке дается много разных ответов, и они будут в этой книге проанализированы. Но у Померанца есть свой весьма нестандартный ответ, не совпадающий в основном с позицией других авторов. С одной стороны, этот ответ явно вписывается в не слишком популярную ныне левую научную традицию, обращающую внимание на проблемы эксплуатации. С другой – он обращает внимание все же на реальные исторические события XVIII века, а не исходит из старых схоластических теорий.
Понятно, что успех Европы определялся промышленной революцией, благодаря которой резко возросла производительность труда в некоторых отраслях экономики. Важно обратить внимание на то, какие конкретно это были отрасли. Началось все в Британии с хлопчатобумажной промышленности. Новые дешевые ткани изготовляли значительно эффективнее, чем старые шерстяные или льняные. Изобретения английских мастеров позволили одеть всю страну с помощью хлопка, а также наладить массовый экспорт тканей за рубеж. Однако откуда взялся хлопок?
Специфика британской колониальной системы состояла в том, что она обладала землями, чрезвычайно удобными для его выращивания. И даже когда на этих землях после американской революции возникли южные штаты США, кооперация между заокеанскими аграриями и английскими промышленниками не прервалась. Только в рамках подобной кооперации смогла совершиться промышленная революция. В 1815 году Британия ввезла более 100 миллионов фунтов произведенного в Новом Свете хлопка, а к 1830 году данный показатель составил 263 миллиона [Там же: 463].
Если бы Британия имела иные земли – скажем, те, на которых целесообразно было бы выращивать сахарный тростник, кофе, какао или бананы, – английская промышленность могла бы остаться без сырья, хотя плантаторы, возможно, наживались бы на своих товарах не хуже, чем на хлопке. А если бы так называемый американский юг оказался вдруг колонией какой-то другой европейской страны, то, возможно, именно в ней, а не в Англии, произошла бы промышленная революция.
В общем, значение колониальной системы для резкого ускорения индустриального развития трудно переоценить. Международный рынок XVIII века не был свободным. На нем далеко не всегда можно было за деньги купить товар по рыночной цене. Скорее, можно говорить, что действовал принцип: «кто первым встал – того и тапочки». Кто захватил земли, тот их и эксплуатирует в своих интересах, блокируя стремление конкурентов из иных стран воспользоваться чужими ресурсами.
Можно обсуждать, конечно, вопрос, насколько пригодны были для выращивания хлопка колонии, принадлежавшие Франции, Испании или России. Возможно, эти страны тоже при наличии должного объема промышленного спроса смогли бы обустроить необходимые плантации. Но вообще без колоний получить сырье в условиях XVIII века, по мнению Померанца, вряд ли было возможно. Сырье для промышленности той эпохи являлось своеобразным «узким местом». Кто не добыл его, тому не помогут ни совершенные технологии, ни емкие рынки.
Правда, проблема доступа к сырью – это только часть большой проблемы Великого расхождения. Наличие удобных плантаций в колониях не объясняет большого числа важных технических изобретений, осуществленных именно в XVIII веке. И также не объясняет того, почему изобретатели были европейцами. А самое главное – не объясняет, почему именно английские предприниматели столь успешно изобретения внедряли и, соответственно, формировали широкий спрос на поставки хлопка. Для ответа на эти вопросы следует обратиться к иным исследованиям в области исторической социологии, о которых у нас пойдет разговор в дальнейшем.
Великое расхождение континентов
Джаред Даймонд показывает, где было сытно с давних времен
Популярная книга Джареда Даймонда «Ружья, микробы и сталь» (М.: АСТ, 2010) не вполне вписывается в эту книгу, анализирующую крупнейшие работы по исторической социологии, поскольку автор исследует в ней слишком давние события. Вопрос о том, где и как в истории человечества возникло производство продовольствия, казалось бы, слабо связан с такими интересующими меня проблемами, как причины экономического роста или революций Нового времени. Но во-первых, Даймонд, фактически рассказывает нам в своей книге о Великом расхождении далекого прошлого, а во-вторых, повествуя о событиях, происходивших десятки тысяч лет назад, дает столь удачный подход к исследованию, что он помогает лучше понять современность.
Будет хлеб – будут и песни
Когда мы размышляем, почему возникло некое социальное явление, то обычно ищем, кто его придумал, или по крайней мере какова была рациональная причина его возникновения. Даймонд же, рассказывая о том, почему в некоторых местах планеты возникло производство продовольствия, поступил иначе. Он вывел на первый план географию и показал, как много разных условий сходится вместе для того, чтобы люди стали выращивать зерно или разводить домашний скот. «Журналисты часто просят авторов, – написал Джаред Даймонд, – уже в прологе сформулировать содержание их объемистых трактатов в одном предложении. Для этой книги оно у меня сформулировано: „История разных народов сложилась по-разному из-за разницы в географических условиях, а не из-за биологической разницы между ними самими“» [Даймонд 2010: 29].
Если от одной фразы перейти к одному абзацу, то получается вот какая картина. Тот народ, которому удастся осуществить одомашнивание животных и растений, получит много пищи, а благодаря этому будет плодиться и размножаться. Возникнут оседлые и передовые в техническом отношении общества, у которых экономика начнет прогрессировать. А это, в свою очередь, породит письменность, стальное оружие и империи. География предопределила, что все это возникло в Евразии, и лишь позднее – или никогда – на других континентах [Там же: 111]. Более того, внутри Евразии условия тоже были настолько неоднородны, что самостоятельное производство продовольствия возникло лишь в нескольких регионах, тогда как жители других регионов либо заимствовали опыт пионеров, либо были вытеснены ими со своих привычных мест обитания [Там же: 126].
Ну а если абзац развернуть в целую книгу, то возникнут и объяснения связи истории с географией у разных обществ. Далеко не все дикие растения и животные вообще пригодны для доместикации. Не во всех климатических условиях можно разводить даже тех, которые пригодны. Не во всех направлениях могут легко распространяться те аграрные инновации, которые люди смогли обеспечить в отдельных местах. И вот когда мы смотрим, какое большое число факторов разного рода должно в конечном счете сойтись для того, чтобы у нас возникло сельское хозяйство, то понимаем, насколько это сложный процесс. Его невозможно спланировать или даже спрогнозировать. Только тысячелетия естественного развития приводят к тому, что люди в одних местах планеты добиваются успеха, а в других нет. Необходимость схождения множества факторов для продовольственного успеха Джаред Даймонд выразил одной фразой, слегка перефразировав Льва Толстого: «Все одомашниваемые животные похожи друг на друга, каждое неодомашниваемое животное неодомашниваемо по-своему» [Там же: 198].
В итоге получилось, что, например, в определенных районах юго-западной Азии (так называемый Плодородный полумесяц) сошлись разные позитивные для производства продовольствия обстоятельства, а в Новом Свете не было одомашнено ни одного животного, способного тянуть за собой плуг [Там же: 159, 169–179].
«Одомашнивание» Европы
Примерно так же, как в случае с формированием продовольственной базы человечества, мы должны размышлять, если хотим понять, почему за последние столетия Запад стал успешен в экономике и политике. Мы вряд ли что-то поймем, если постараемся исходно выделить какую-то важную черту современного Запада (политическую свободу, экономическую эффективность, христианскую веру и т. д.), а затем попытаемся показать, как эта самая черта обеспечила модернизацию. На самом деле успех Запада стал следствием сочетания множества разных обстоятельств, некоторые из них мы сейчас более-менее понимаем, а о значении других, пожалуй, до сих пор не догадываемся.
В силу ряда причин быстрое экономическое и политическое развитие началось в Северной Италии в позднее Средневековье. Там сошлись обстоятельства, которых в совокупности не было нигде. Выгодная левантийская торговля, дополнительные барыши от крестовых походов и относительная независимость городов, связанная с борьбой между Империей и Святым Римским престолом. Проще говоря, итальянцы неплохо зарабатывали благодаря удачной конъюнктуре, а «силовики», которые могли бы состричь с них шерстку, оказались нейтрализованы друг другом.
Успехов Северной Италии, впрочем, хватило, чтобы создать Ренессанс – богатые многонаселенные города с высокой культурой, – но не хватило, чтобы создать современное государство. Для государственного строительства вновь понадобился целый комплекс обстоятельств. Этот комплекс возник во Франции в начале Нового времени. Большая территория, оказавшаяся под властью одной короны уже в XV веке, позволила создать армию, финансируемую за счет налогов, взимаемых с многочисленного населения. Большая армия позволила завоевать еще больше территорий (давших дополнительные деньги королевской казне), а также подавить сопротивление усилению фискального бремени внутри страны.
Французских успехов хватило для того, чтобы сформировать Классическую эпоху – богатое государство, единый рынок, рационалистическую философию, – но не хватило для того, чтобы обеспечить технический переворот и экономический прорыв, сделавший Европу однозначным лидером мира. Для великого расхождения Запада со всеми другими цивилизациями понадобился еще один комплекс обстоятельств. И он возник в Англии Нового времени. Славная революция 1688 года обеспечила защиту собственности предпринимателя от наездов государства. Высокая цена рабочей силы стимулировала технический прогресс. Обширные американские колонии дали сырье для хлопчатобумажного производства – первой высокомеханизированной отрасли промышленности.
Даже этот краткий экскурс в историю показывает, сколько разных обстоятельств должно было сойтись в разное время в разных местах для того, чтобы мир модернизировался. Причем итальянский, французский и английский случаи были связаны между собой. Без коммерческого прорыва итальянских городов не возникла бы французская экономика, а без французского рационализма не случилось бы того технического переворота, который произошел в Англии. Поэтому серьезное исследование того, как на самом деле происходила модернизация, должно кропотливо, факт за фактом собирать десятки исторических обстоятельств, прослеживая медленный ход европейского развития. Казалось бы, взлетела Венеция в XV веке – вот он мировой лидер! Но нет, не сложился ряд обстоятельств и в XVII столетии про венецианцев никто не вспоминает, а все взоры обращены на «короля-солнце» Людовика XIV. Казалось бы, мир падет перед его мощью… Но вновь не сложилось, и в XIX веке всемирная промышленная мастерская возникает в Англии, куда устремляются доходы с разных сторон света. Именно для того, чтобы учесть весь этот исторический опыт, нужно знакомиться с десятками разных исследований, обозреваемых в этой книге.
Только репа – наша скрепа, а картофель – от Госдепа
Похожим образом обстоит дело и с «узкими местами» модернизации. Даймонд показывает, что в огромной Евразии вероятность успешного развития была выше, поскольку на этом континенте инновации могли перемещаться из одного региона в другой. Но пересечь океан они в далеком прошлом не могли. Поэтому в Америку или в Австралию не попадали те достижения в производстве продовольствия, которые имелись у древних евразийцев. Похожие обстоятельства помогали (или мешали) ходу модернизации в последние столетия. В некоторых случаях достижения легко распространялись из одного места в другое, а в некоторых – застревали из-за трудностей коммуникации между странами, цивилизациями, религиями.
Например, успехи экономики и культуры итальянского Ренессанса быстро попали во Францию, Англию и Германию вместе с итальянскими купцами, заводившими там свой бизнес. В Польшу или Скандинавию эти успехи шли дольше и труднее из-за малой привлекательности европейской периферии для бизнеса флорентийцев и генуэзцев. А в Россию инновации практически не приходили вообще.
Дело в том, что до петровских времен заимствования с Запада у нас осложнялись тем, что это были заимствования у «латынских еретиков», которые, как полагала Церковь, подрывали позиции православной веры. Петр сломил сопротивление Церкви, и заимствования в XVIII–XIX веках пошли у нас столь энергично, что Россия фактически стала своей в кругу европейских стран. Но при советской власти проблема вновь встала в полный рост. Только на этот раз мешала не православная вера, а марксистская идеология, объявлявшая «еретическим» все, что происходило в условиях капитализма. Идеологический барьер отсекал передовой зарубежный опыт, и мы опять отстали на десятилетия.
Завершая аналогии между производством продовольствия и модернизаций, можно сказать, что импорт институтов похож на освоение картофеля. На протяжении веков картошки у нас не было просто потому, что ее вообще не разводили в Старом Свете. Должно было сойтись много обстоятельств, чтобы европейцы открыли Америку. Должно было сойтись много обстоятельств, чтобы Россия «прорубила окно» в Европу. Должно было сойтись много обстоятельств, чтобы европейский опыт стал привлекателен для русских. И вот наконец картошка у нас. После преодоления всех преград оказалось, что на нашей почве она растет не хуже, чем на иностранной, и даже вытесняет такие исконные плоды отечественного земледелия, как репа.
Можно, конечно, заявить, что репа – это наша скрепа, а картофель нам насадили Госдеп и ЦРУ, но вряд ли подобная глупость кому-то понравится. Так же и с модернизацией: после прохождения ряда «узких мест» заимствование рынка и демократии прекрасно происходит на отечественной почве.
Теорема успешного развития
По мнению Иэна Морриса, нам помогают лень, жадность и страх
Нам порой кажутся очевидными те ответы на вопрос о причинах развития общества, которые давались великими умами в давно прошедших столетиях. Ну, например, разве не очевидно, что человечество развивается потому, что становится более просвещенным, как полагали в эпоху Просвещения? А для тех, кому не нравятся столь мирные трактовки, ответ на все вопросы дает марксистская теория классовой борьбы: мир развивается, поскольку недовольные борются за свои права. Англо-американский профессор истории и археологии Иэн Моррис в книге «Почему властвует Запад… по крайней мере, пока еще» (М.: Карьера-пресс, 2016) подошел к вопросу совершенно с иной стороны.
Без ложной скромности он сформулировал теорему развития и назвал ее своим именем. Теорема Морриса гласит:
Причиной перемен являются ленивые, жадные и испуганные люди, которые ищут более легкие, более прибыльные и более безопасные способы что-либо сделать. И они редко знают, что они делают. История учит нас, что, когда возникают затруднительные обстоятельства, – начинаются перемены [Моррис 2016: 34].
Подобная трактовка исторического развития плохо соотносится с представлениями о созидательной роли королей, президентов, военачальников, просветителей или вождей восставшего пролетариата, но с теорией Макса Вебера ее, думается, вполне можно соединить.
Какой народ нужен для перемен
Естественно, полушутливую «теорему Морриса» не следует воспринимать с унылой наукообразной серьезностью. Речь идет вовсе не о «созидательной роли» всяких обломовых, скруджей и тальбергов. Речь идет о том, что в стремлении обеспечить себе приемлемый образ жизни (без опасностей, перенапряжения и нищеты) люди совершают различные технические, экономические и социально-политические изобретения. Чаще даже заимствуют их у соседей, если видят, что те лучше живут или лучше воюют. Но в любом случае эти изобретения являются продуктом их рациональных действий. Они внедряют в свою жизнь разнообразные новшества не потому, что стремятся к великим целям, а потому что хотят лучше жить, однако все эти преобразования имеют разумные основания. Страх, лень и жадность, конечно, иррациональны, но загнать эти страсти в «дальний угол своего сознания» можно лишь осуществляя осмысленные мероприятия.