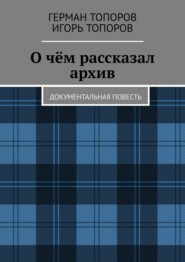скачать книгу бесплатно
О чём рассказал архив. Документальная повесть
Игорь Топоров
Герман Топоров
Г. Топоров и И. Топоров систематизировали архив А. Топорова, изучили его фонды в архивах и музеях бывшего СССР, вели переписку, в т.ч. по неоконченным замыслам писателя. По этим материалам написана книга «О чём рассказал архив». Она состояла из легенд-былей, а историю коммуны «Майское утро» и работы в ней А. Топорова можно назвать главной её легендой. Ранее повесть публиковалась в журнале «Сибирские огни», 2007, №7—8, в Белгороде и Николаеве, 2011.Предназначена широкому кругу читателей.
О чём рассказал архив
Документальная повесть
Герман Топоров
Игорь Топоров
© Герман Топоров, 2021
© Игорь Топоров, 2021
ISBN 978-5-0055-6221-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Г. А. Топоров, литератор, архитектор. Младший сын писателя А. М. Топорова и популяризатор его творчества, г. Молотов (Пермь), 50-е гг. Личный архив И. Г. Топорова.
И. Г. Топоров, литератор, внук и популяризатор творчества А. М. Топорова. Фотография А. В. Селезнёва, г. Москва, 2016 г. Личный архив И. Г. Топорова.
О ЧЁМ РАССКАЗАЛ АРХИВ. Документальная повесть
Если спросите – откуда
Эти сказки и легенды
С их лесным благоуханьем,
Влажной свежестью долины…
Я скажу вам, я отвечу…
Вы, кто любите природу,
Сумрак леса, шёпот листьев
В блеске солнечном долины,
Бурный ливень и метели,
И стремительные реки,
И в горах раскаты грома…
Вам принёс я эти саги,
Эту песнь о Гайавате…
Г. Лонгфелло[1 - Из «Предисловия переводчика»: «…Лонгфелло всю жизнь посвятил служению возвышенному и прекрасному. „Добро и красота незримо разлиты в мире“, – говорил он и всю жизнь искал их. Ему всегда были особенно дороги чистые сердцем люди, его увлекала девственная природа… Я написал её („Песнь о Гайавате“) на основании легенд. В них говорится о человеке…, который был послан расчистить реки, леса… и научить народы мирным искусствам… Он был известен под именем Гайавата, что значит – пророк, учитель…» И. А. Бунин, 1898 год]
АДРИАН ТОПОРОВ И ГЛАВНАЯ ЛЕГЕНДА ПОВЕСТИ
А. М. Топоров (1891 – 1984), 60-е гг., Николаев. Государственный архив Николаевской области.
Известный просветитель, журналист, публицист, книговед, музыкант, эсперантист и писатель А. М. Топоров (1891 – 1984 гг.) прожил долгую, трудную и необыкновенно интересную жизнь. Незадолго до кончины он передал свой обширный литературно-биографический архив, включавший изданные и неизданные произведения, переписку, статьи, многие семейные документы, младшему сыну Герману, фронтовику, инженеру-строителю по образованию, но лирику по душевному складу и настрою; свидетелю, а иногда и участнику литературно-просветительской деятельности Адриана Митрофановича.
Г. А. Топоров систематизировал архивные материалы, привёл их в порядок, кое-что восстановил. В результате его усилий и появилась документальная повесть «О чём рассказал архив». Уже эпиграф к ней из «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло в переводе И. А. Бунина настраивал на нечто не вполне обычное: предложенная автором подборка состояла из легенд-былей, а историю алтайской коммуны «Майское утро» и работы в ней А. М. Топорова с полным правом можно было назвать главной легендой повести.
Этот литературный труд был приурочен к 100-летнему юбилею писателя и в том же 1991 году передан С. П. Залыгину, главному редактору журнала «Новый мир». По каким-то причинам повесть тогда так и не увидела свет. А вскоре, как говорится, ушёл в мир иной её автор.
Через некоторое время родственники А. М. Топорова и Г. А. Топорова вернулись к имевшемуся литературному материалу, несколько дополнив его. Неожиданно оказалось, что интерес к жизни и творчеству писателя у издателей и читающей публики на бескрайних просторах бывшего Советского Союза отнюдь не угас. В результате – несколько сокращённый вариант повести «О чём рассказал архив» был опубликован в 2007 году в старейшем литературном журнале России «Сибирские огни» (г. Новосибирск). Первые же полные её издания увидели свет одновременно в Белгороде (Россия) и Николаеве (Украина) в 2011 году.
А теперь у нас появилась новая возможность взять в руки дополненный и исправленный вариант этой увлекательной книги и сделать по её прочтении самостоятельный вывод – каков же был на самом деле Адриан Митрофанович Топоров. И насколько разносторонней, порой подвижнической, была деятельность этого человека, жизнь и творчество которого в своё время вызвали многочисленные восторженные отзывы выдающихся деятелей культуры.
Игорь Топоров
ПРЕДИСЛОВИЕ
В №57 от 7 марта 1964 года популярная московская газета «Известия» напечатала отзыв о книге А. М. Топорова «Крестьяне о писателях».
Не удержусь от искушения процитировать его целиком:
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ НЕОБЫКНОВЕННОЙ КНИГИ
Это удивительная книга. Держишь её в руках, как драгоценность, как кладезь человеческих ценностей, как памятник.
Вся её история – совершенно реальные факты и приметы нашей жизни, переплелись здесь так, словно кто-то задался целью удивить и поразить вас.
Учитель Адриан Митрофанович Топоров в коммуне „Майское утро“ близ Барнаула многие годы проводил с крестьянами чтение художественной литературы и записывал всё, что говорилось затем при обсуждении прочитанного. В конце двадцатых годов он начал публикацию своих записей, а в тридцатые годы выступил с отдельной книгой „Крестьяне о писателях“.
Она получила горячую поддержку Максима Горького, В. Вересаева, Б. Горбатова, Н. Рубакина и многих-многих других писателей и учёных, она вызвала живейший интерес в США, Германии, Польше, Швейцарии, вокруг неё шли споры. Потом книга и её автор были как-то забыты. Нельзя себе представить, чтобы она была забыта навсегда – рано или поздно о ней, конечно, вспомнили бы. Однако одно событие сразу же вызвало к новой жизни эту книгу, послужило поводом для второго её рождения. Это событие – полёт в космос Германа Титова.
Лишь только биографы Космонавта-2 коснулись своего „материала“, они сразу же отметили необыкновенную начитанность Германа, его любовь к поэзии, к художественной литературе в целом. Эта любовь у него – от отца, Степана Павловича Титова, сельского учителя. А у отца – от другого учителя – Адриана Митрофановича Топорова.
Топоров уже давно жил в Николаеве, на Украине. Возраст не помешал ему сохранить энергию, замыслы, старые привязанности к Сибири, к своим ученикам, новые надежды. Одной из этих надежд, конечно же, было переиздание книги „Крестьяне о писателях“.
Хорошо, когда надежды совпадают с требованиями самой жизни, с духом нового времени. Новосибирское издательство выпустило эту книгу. „Второе, дополненное и переработанное издание“ – читаем мы на титульном листе. – „1963 год“. Я бы сказал ещё – творчески дополненное и тоже творчески, с большой любовью, с глубоким пониманием всего значения дела переработанное издание!
В основе книги, разумеется, остался тот же материал: высказывания крестьян о произведениях художественной советской прозы и поэзии двадцатых годов (из классиков включён только Пушкин). Затем следуют необычайно меткие, точные и очень краткие характеристики участников этих чтений, сделанные Топоровым.
Кроме этого, главного материала, издатели ввели в книгу ещё целый ряд новых и не менее интересных: предисловие журналиста П. Стырова, опубликованную в газете „Известия ЦИК“ 7 ноября 1928 года корреспонденцию широко известного в то время журналиста А. Аграновского, посетившего коммуну „Майское утро“, статью С. Титова о своём учителе Топорове, рассказ самого Топорова „О первом опыте крестьянской критики художественных произведений“, письма писателей к Топорову, преимущественно тех, чьи произведения обсуждались в „Майском утре“…
Вероятно, не будет преувеличением сказать, что книга эта интересна не только сама по себе – она расширяет наши представления о том, как вообще может делаться настоящая книга. Об этом нельзя не подумать, держа книгу в руках, любуясь её замыслом и исполнением.
Раскроем книгу, к примеру, на 124-й странице:
„А. НЕВЕРОВ. „Ташкент – город хлебный“. (Читано с 20 по 22 марта 1927 года).
КОММУНАР ЗУБКОВ П. С.: Придраться тут не к чему. Нужно человеку быть без сердца, чтобы не почувствовать всего, что написано в этой книге. Проще и лучше этого не напишешь.
БЛИНОВ И. Е.: Напиши ты, пожалуйста, чтобы все писатели так для деревни писали. Тогда их интереснее будет и читать. Так и скажи: мужики говорят, что, может быть, многие нынешние писатели хороши, но ни к чему они. Скажи, что непонятны они, резону в них мало. Не по вкусу они деревне. Вот Лидин и Катаев – хорошие. Ну, а уж лучше Неверова, поди, и не сыскать. Этот „Ташкент“» узлом перекрутит хоть какого упорного человека.
ТИТОВА А. И.: Сколько муки Мишка принял… Малой он был шибко. Я думаю, эта книга и старого, и малого проткнёт наскрозь. Малому трёхлетнему ребёнку расскажи её, и тот поймёт, куда что гласит. Который ребёнок только что начнёт говорить, и тот, расскажи ему, поймёт“.
И вот таких, пусть иногда чересчур категоричных, но умных, самобытных суждений о творчестве писателей не счесть в этой замечательной книге.
А теперь узнаем, кто же они, эти „Белинские в лаптях“, как назвал их в двадцать восьмом году журналист Аграновский. Характеристики дал им А. М. Топоров – предельно краткие, выразительные, какие можно дать человеку не по первому впечатлению, а только после того, как съешь с ним пуд соли, годы проведёшь вместе за работой. Вот только две из них:
„ЗУБКОВ П. С. 35 лет. Сын крестьянина-середняка. Окончил церковно-приходскую школу. В 1920 году – один из организаторов „Майского утра“ До 1929 года – почти бессменный её руководитель. Член партии. Редкий самородок. Талантлив во всех отношениях. Незаурядный организатор.
…ЖЕЛЕЗНИКОВА Т. Ф. 31 год. До вступления в коммуну много странствовала по свету – жила на заводах, в батрачках. В «Майском утре» с 1923 года. Здесь же обучена грамоте. Доярка. Правдива, до щепетильности честна. Режет правду в глаза. Бесстрашный обличитель всех коммунальных беспорядков. Остра на глаз и на язык».
Из этой необычной, любовно составленной книги можно узнать и о том, как писатели отнеслись к критике своих произведений крестьянами, к начинаниям Топорова, и о том, как нелегко было замечательному учителю вызвать крестьян на откровенность:
«Не нам судить о книгах. Мы не учёные… над нашими словами будут смеяться…»
Можно почувствовать жизнь коммуны „Майское утро“ тех лет. Можно обратиться к портрету Германа Титова. В дни работы ХХII съезда КПСС Герман Титов встретился со своим „духовным дедушкой“ А. Топоровым. Позже в честь этой встречи, которая произошла в редакции газеты „Известия“, Космонавт-2 написал на памятной фотографии:
„Дорогой Адриан Митрофанович! Встречу в „Известиях“ я запомню на всю жизнь потому, что всю свою сознательную жизнь я о Вас слышал, а вот свидеться довелось впервые. Примите низкий поклон“.
Да, эта книга – явление в советской литературе. Уже не те крестьяне в Сибири, на родине космонавта, не те у них суждения о литературе, что были в двадцатых годах, – а книга о них не только не умирает, а обновляется, родится вновь.
Сергей ЗАЛЫГИН.
Вырезка из газеты «Известия» от 07.03.1964 г. со статьей С. П. Залыгина «Второе рождение необыкновенной книги». Личный архив И. Г. Топорова.
Глава 1. ЛЕГЕНДА О «ДОБРОМ ГЕНИИ»
Легенда эта возникла в 1936 году, когда доведшие Топорова до нервного истощения очёрские «отцы просвещения» пожаловали Адриану Митрофановичу в виде компенсации путёвку на курорт в Феодосию[2 - г. Очер – районный центр Пермского края в России. Речь идет о конфликте между А. М. Топоровым и районными бюрократами. – И. Топоров.].
Феодосия! Своего рода Мекка, и мы знаем почему. Вот выписка из очерка-путеводителя В. Балахонова «Феодосия»:
«Могила Айвазовского находится во дворе старинной армянской церкви на углу улиц Айвазовского и Тимирязева. На могиле установлен мраморный памятник с надписями на русском и армянском языках: „РОЖДЁННЫЙ СМЕРТНЫМ, ОСТАВИЛ ПО СЕБЕ БЕССМЕРТНУЮ ПАМЯТЬ“. Тут же похоронена жена художника Анна Никитична Айвазовская.
В городе имеется памятник-фонтан, сооружённый в сквере между кинотеатром „Крым“ и генуэзской башней. Его построили горожане в знак благодарности художнику за водопровод, проложенный в Феодосию из его имения Субаш. В 1959 году фонтан реставрирован, и теперь мы его видим таким, каким он был при жизни Айвазовского».
Повеяло на нас непреходящей любовью и гордостью феодосийцев, повеяло настоящей легендой. Но лишь страницы дневниковых записей, да одна памятная открытка, хранящиеся в архиве А. М. Топорова, позволяют узнать кое-какие её подробности.
Нет надобности описывать чувства Адриана Митрофановича, попавшего в один из самых примечательных крымских городов. Он сразу же ощутил себя в Феодосии паломником, которому предстоит прикоснуться к святыням этих мест. Конечно, Топоров поспешил осмотреть Феодосию и, прежде всего, места, связанные с личностью И. К. Айвазовского. Нечто возвышенное, освящённое человеческой памятью, он ожидал встретить здесь.
Увы! Адриан Митрофанович был ошеломлён кощунственным отношением феодосийцев к памяти великого земляка. Тошно было смотреть на превращенные в мусорные свалки, даже уборные, безнадёжно высохшие мемориальные фонтаны, на развалины дома, где родился И. К. Айвазовский, на его захламлённую могилу за оградой армянской церквушки. Без прежней восторженности, с гнетущим тревожным чувством шёл А. М. Топоров к знаменитой Картинной галерее имени И. К. Айвазовского, зная, что там много подлинных полотен живописца.
Топоров встретил у дверей большого зала глубокого старичка со слезящимися глазами, спросил его:
– Мне сказали, что жива ещё жена Айвазовского, Анна Никитична, что живёт при галерее. Меня возмутило оскорбительное отношение местных властей к памяти Ивана Константиновича. Хочу об этом написать в московскую газету. А вы кто, дедушка?
– Я-то? Фома Дорменко. До самой смерти Ивана Константиновича был при нём, сам малевать кое-что стал. В городе много картин, написанных мною… Теперь вот охраняю галерею… Анну Никитичну нынче обижают: все облезло, печи дымят, зимой холодно. Пойдемте к ней.
Там, куда он привёл Топорова, все было действительно в запущенном состоянии. В кресле сидела старая женщина в тёмном платье, с кружевной наколкой на голове, всё ещё сохранявшая следы редкой красоты. Адриан Митрофанович представился и своим негодованием по поводу виденного в городе сразу же расположил к себе Анну Никитичну.
– Трудно мне от всего этого, – горько и просто стала жаловаться она. – Ну да всё бы ничего… А вот последнее – смертельно обидело, потрясло, хоть не живи. Сняли статую с фонтана «ДОБРОМУ ГЕНИЮ». Сказали мне, горсовет постановил. Вы знаете, почему так дорога мне эта статуя? Раньше город страдал без питьевой воды. А в моём имении Субаш, за 25 вёрст отсюда, питьевой воды было вдоволь, артезианской, чистой. И проложили оттуда на наши с Иваном Константиновичем деньги трубы до самой Феодосии. Здесь знали, что вода пришла из моего имения, и в память об этом построили красивый, самый большой в городе фонтан с изваянием, который и назвали «ДОБРОМУ ГЕНИЮ». Посмотрите.
Анна Никитична нашла в семейном альбоме фотографию и подала Топорову. На фотографии был снят озарённый солнцем фонтан, посередине которого стояла статуя прекрасной молодой женщины. В протянутой городу руке она держала чашу, из которой рассыпались вниз щедрые хрустальные струи. Несколько ребятишек, вытянувшись через борт и закинув головы, ловили их ртами.
– Таким был этот фонтан со статуей «Доброму гению»…
Время как будто сдёрнуло маску старости с просветлённого, растроганного лица Анны Никитичны, и потрясённый Адриан Митрофанович, ещё раз взглянув на фотографию, только и смог проговорить:
– Это Вы!!
– Да… Для скульптуры позировала я: меня уговорили.
– Где же эта прекрасная статуя? На фонтане её нет.
– Свергли же её. Пойдёмте, я покажу.
На полу подвала, куда привела Топорова Анна Никитична, валялась статуя с фонтана «ДОБРОМУ ГЕНИЮ».
– Это ведь она на фонтане кажется такой воздушной, почти прозрачной, виновато стала как бы оправдываться Анна Никитична. – А так нам с Фомой её даже не сдвинуть… Нелегко живется мне. Приходится продавать даже вещи Ивана Константиновича, которым место в музее. Продала… что же делать? – и кровать, на которой он умер…
Сказано было сквозь слёзы, через платок…
Провожая Топорова, Айвазовская подарила ему фотографию фонтана с изваянием «ДОБРОМУ ГЕНИЮ».
– Возьмите на память. У меня ещё есть…
С тяжёлым чувством покинул Топоров галерею, пообещав, что светлая память о «ДОБРОМ ГЕНИИ» будет восстановлена в её истинном смысле, как и память о великом художнике…
Нетрудно представить, каким яростным возмущением дышала большая статья Топорова «ТОЛСТОКОЖИЕ», написанная по следам поездки в Феодосию. Но трудно – совершенно невозможно – представить, как всё же вняли этому гневному гласу руководящие работники столичных искусствоведческих организаций и издательств. Обратимся к самой статье, опубликованной после долгих «хождений по мукам» в «Комсомольской правде» (№37 за 1937 год). Вот что писалось тогда в примечании «ОТ РЕДАКЦИИ»:
«Тов. Топоров принёс свою статью сначала в редакцию газеты «За коммунистическое просвещение». Оттуда её переправили в Наркомпрос, тот переслал в музейный сектор Комитета по делам искусств при СНК СССР. Музейный сектор передал в газету «Советское искусство», которая в пятое посещение Топоровым редакции вернула статью, заявив: „Мало ли таких дел, как в Феодосии?“.
Вся эта отвратительная история показывает, что в некоторых московских учреждениях находятся бездушные чиновники, которые в культурном отношении ничуть не выше феодосийских горсоветчиков…»
После статьи «ТОЛСТОКОЖИЕ» Топоров получил много благодарственных писем: от Анны Никитичны, её родных, рабочих Феодосии. Крымское правительство быстро устранило все бесчинства феодосийских властей. Анне Никитичне увеличили пенсию, привели в порядок её квартиру и фонтаны, связанные с именем И. К. Айвазовского…
К сожалению, немало прекрасных легенд имеют печальный конец. Уже живя в Николаеве, А. М. Топоров задумался: А каков же финал истории с изваянием «ДОБРОМУ ГЕНИЮ»? И Адриан Митрофанович пишет дирекции Картинной галереи имени И. К. Айвазовского:
«…Я вспоминаю своё пребывание в Феодосии в 1936 году, аудиенцию у Анны Никитичны. В очерке-путеводителе „Феодосия“ тов. В. Балахонов, между прочим, пишет, что «теперь мы видим его (главный фонтан) таким, каким он был при жизни художника». Жена моего внука Юлия Плюснина – уроженка Феодосии, часто ездит туда к родным. Так вот она говорит, что статуи фонтана „ДОБРОМУ ГЕНИЮ“ в Феодосии нигде не видела. Убедительно прошу ответить мне на вопросы:
– Где сейчас свергнутая статуя фонтана „ДОБРОМУ ГЕНИЮ“?
– Кто был её автором?»