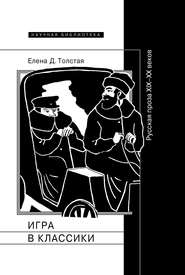скачать книгу бесплатно
– А откуда у тебя крылья? Дай-ка взглянуть!
– Они покамест заменяют другие, более прекрасные, еще нерасправленные крылья[34 - Гете. Указ. изд. Т. 7. 1978. С. 424.].
Миньоне становится все хуже и хуже, и тогда она поет песни о своей смерти. Теперь она отказывается от костюма мальчика – но не ради женской одежды: ей решили оставить ангельское облачение, в котором она выступала. В нем ее и хоронят.
Как видим, столь настойчивых сакральных аллюзий Тургенев себе уже не позволяет. Прямые мифопоэтические уподобления, к которым прибегал Гете, в тексте Тургенева невозможны – мифопоэтическая подкладка тут лишь суггестируется, собираясь из намеков и упоминаний, рассеянных вскользь в разных пассажах книги.
3. Тенденция и волшебство в романе Тургенева
«Тенденция» Тургенева. Роман «Накануне» многие осудили за лобовую тенденциозность в показе русской девушки, рвущейся к свободе, за воспевание национально-освободительной повестки дня, под которой прозрачно угадывалась борьба за отмену крепостного права – то, что казалось попыткой потрафить тогдашней молодежи с ее левизной. Во многом эти обвинения происходили от недостаточно внимательного чтения: на самом деле писатель занял в отношении своей героини достаточно взвешенную позицию. Относительно славянского дела стало общим местом, что для Тургенева оно было «псевдонимом» гарибальдийского движения, которому он горячо сочувствовал и печалился недостатку в России людей, подобных гарибальдийцам.
Однако Тургенев действительно проводил в романе самую настоящую злободневную политическую тенденцию: он желал либерализации России, возможной только при объединении всех передовых сил образованной элиты. Именно о таком единстве всего народа говорит герой романа Инсаров: «…последний мужик, последний нищий в Болгарии и я – мы желаем одного и того же. У всех у нас одна цель. Поймите, какую это дает уверенность и крепость!» (3, 66). С этой нормальной и вменяемой точки зрения безумной и сектантской выглядела деятельность главных оппонентов либерализма, Добролюбова и Чернышевского, на место общего построения либеральной России поставивших опасное натравливание народа на интеллигенцию. Целью их была «борьба со внутренними турками», то есть подстрекательство народа на борьбу с реформаторским правительством Александра II с целью свержения режима. Тургенев подобных сектантских планов не одобрял и приводил в пример духовное единство интеллигенции и народа в соседней Болгарии. Это и была «тенденция» «Накануне».
Тургенев не угодил никому из критиков. Добролюбов накинулся за него за недостаточно убедительный и увлекающий показ «человека действия» – что на тогдашнем языке означало революционера. Леонтьев почувствовал, что Тургенев образом Инсарова отрицает многое из того, что любит, и сделал вывод, что художество страдает, когда художник идет против себя. Аполлон Григорьев считал, что Тургенев общественную задачу так и не решил, зато решил задачу «общепсихологическую и поэтическую»:
Задача общепоэтическая: стремление изобразить два страстных существования, роковым, трагическим образом столкнувшиеся, скользящие над бездной и гибелью в исключительной обстановке Венеции – жажду жизни и упоение ею на краю смерти и гибели посреди чудес поэтического и отжившего мира, – задача, выполненная блистательным образом, создавшая в романе какой-то байронски-лихорадочный эпизод, великолепную, обаятельную поэму[35 - Светоч. 1861. № 1. Отд. III. С. 12.].
Теперь, когда нам смешными кажутся споры о нравственности или безнравственности героини и никого не удивишь национальным освобождением, вот только воз с либерализмом и ныне там, – роман читается иначе: эта волшебная печальная книга о любви и смерти в Венеции нам кажется неоцененным перлом Тургенева. Ведь, помимо когда-то все застившей «тенденции», роман полон пластики. Тургенев насытил повествование бесценными художественными деталями, которые В. П. Боткин сравнил с декором готических соборов: «Какие озаряющие предметы эпитеты, да, солнечные эпитеты, неожиданные, вдруг раскрывающие внутренние перспективы предметов!»[36 - Письмо к А. А. Фету от 20 марта 1860 г. // Фет А. А. Мои воспоминания. М., 1890. С. 323.]
В романе есть очарованные пейзажи, наподобие сцены под липой или ветхой часовенки – локуса, мифопоэтически подобающего сакральной встрече влюбленных; есть сказочные сцены, вроде явления старушки-нищенки, уносящей горе героини; есть вещие сны – как сон заболевающего Инсарова или сны Елены, пророчащие смерть; есть бесчисленные окна в гоголевский мир; есть образы позлащенного закатом волшебного мира, отраженного в озере, сопровождаемые эхом, в сценах поездки в Царицыно[37 - См. выше.]; есть гадание Елены и непреходящей красоты пейзажи Венеции. В. Н. Топоров в своей пионерской книге[38 - Топоров В. Н. Странный Тургенев (Четыре главы). М., 1998.] настаивал на мифопоэтической природе прозы Тургенева (идя в чем-то вслед за его эмигрантским биографом Б. Зайцевым, в чем-то за авторами начала XX века, не востребованными в советском литературоведении). А уж о том, что тургеневская проза напоена музыкой, очень много и подробно писали[39 - Этой теме посвящены исследования: Алексеев М. П. Тургенев и музыка. Киев, 1918; Асафьев Б. В. Тургенев и музыка // Избр. труды. М., 1955. Т. IV. С. 157–158. О музыке в «Накануне» см.: Доценко В. И. Музыка в творческом мире И. С. Тургенева // Науковi записки ХНПУ iм. Г. С. Сковороди. Лiтературознавство. 2011. Вип. 4 (68). Частина друга.].
Заколдованные места. В начале романа двое молодых героев, скульптор Шубин и историк Берсенев, изображены лежащими на траве и болтающими о том о сем. Молодых людей автор окружает чем-то вроде магического круга. Они лежат в жаркий день в тени старой липы, где царит волшебное оцепенение:
Под липой было прохладно и спокойно; залетавшие в круг ее тени мухи и пчелы, казалось, жужжали тише; чистая мелкая трава изумрудного цвета, без золотых отливов, не колыхалась; высокие стебельки стояли неподвижно, как очарованные; как очарованные, как мертвые, висели маленькие гроздья желтых цветов на нижних ветках липы (3, 11).
Стебельки стоят «как очарованные», цветы висят «как очарованные, как мертвые» – и это недвижное очарование резко противостоит окружающему кипению жизни:
Вдали, за рекой, до небосклона все сверкало, все горело; изредка пробегал там ветерок и дробил и усиливал сверкание; лучистый пар колебался над землей. Птиц не было слышно: они не поют в часы зноя; но кузнечики трещали повсеместно, и приятно было слушать этот горячий звук жизни, сидя в прохладе, на покое (Там же).
Возможно, это нечто вроде стартовой позиции для сюжета. Еще немного, и оба юноши выйдут из магического кольца мертвой статики и прохлады неучастия – к огненным бурям настоящей жизни. И, наверное, именно это магическое очарование, царящее в тени старой липы[40 - Под липами, Unter der Linden – название центральной улицы в Берлине, и, может быть, это сидение под липой – еще одна привязка к любимой Тургеневым Германии. Только в 1871 году, во время Франко-русской войны, Тургенев разочаруется в ней.], наводит приятелей на спор о природе, который оказывается способом ввести тему любви.
Как известно, романтические встречи тяготеют к местам, отмеченным исторически, или эстетически, или в духовном плане. Часто это церковь или руины. В нашем случае это часовня. Героиня идет к станции, чтобы встретить своего любимого, который и сам влюблен, но боится этой любви и уезжает не попрощавшись.
К ее [Елены] счастию, невдалеке от того места, где застала ее гроза, находилась ветхая заброшенная часовенка над развалившимся колодцем. Она добежала до нее и вошла под низенький навес. Дождь хлынул ручьями; небо кругом обложилось. С немым отчаянием глядела Елена на частую сетку быстро падавших капель. Последняя надежда увидеться с Инсаровым исчезала (3, 88).
Часовня – сакральный локус, часто аккомпанирующий обретению героем своей небесной возлюбленной. Ветхая часовня в комплекте с колодцем в романе целиком взята из «Поездки в Полесье». Колодец традиционно, еще в Библии, связан с мотивом встречи с возлюбленной, а в Песне песней девушка и сама символизирует колодезь.
Сказка. Туда же заходит, прячась от дождя, нищая старушка. Елена, не взявшая с собой кошелек, подает ей свой платок, очевидно дорогой. Нищенка благодарит и узнает в ней ту, что уже подавала ей милостыню. Она видит, что платок Елены промок от слез, жалеет ее и заявляет, что она ворожея: «– Хошь, унесу с твоим платочком все твое горе? Унесу, и полно» (3, 89).
Здесь Тургенев очень тонко преодолевает сопротивление фольклорного материала. Дарить платок нельзя: платок – к слезам. Старушка это знает и своей интерпретацией обезвреживает ошибку Елены.
Эта совершенно сказочная «помощная старушка» представляет собой, по Юнгу, один из «образов духа», материализованный ответ бессознательного, мобилизующего все свои ресурсы, в ответ на просьбу героя о помощи. Старушка уходит с платочком, и тут же дождик перестает (в подтексте тут еще и параллелизм «слезы – дождик»), и на дороге появляется Инсаров.
Гадание. В Венеции до сознания Елены наконец доходит, что жизнь Инсарова в опасности:
В это мгновение она увидела высоко над водой белую чайку; ее, вероятно, вспугнул рыбак, и она летала молча, неровным полетом, как бы высматривая место, где бы опуститься. «Вот если она полетит сюда, – подумала Елена, – это будет хороший знак…» Чайка закружилась на месте, сложила крылья – и, как подстреленная, с жалобным криком пала куда-то далеко за темный корабль (3, 154–155).
Здесь зловеще все, даже «темный корабль» – в этом антураже он превращается в ладью мертвецов. Гадание Елены явно предвещает гибель Инсарову. При этом совершенно нерелевантно, что поведение чайки значит просто, что она заметила рыбу и пикировала, чтобы ее поймать. Но кажется, что в этом эпизоде есть и дополнительный смысл. У чайки неровный полет. Это не та ли самая птица, в которую желала бы воплотиться Елена, тоскуя о любви? Вспомним исходное описание Елены, в котором ключевую роль играет слово «неровный» (наряду с как бы вырастающим из него словом «нервический», где начальное «не-» чуть ли не получает по аналогии отрицательный смысл): «Во всем ее существе, в выражении лица, внимательном и немного пугливом, в ясном, но изменчивом взоре, в улыбке, как будто напряженной, в голосе, тихом и неровном, было что-то нервическое, электрическое…» (3, 31).
Елена таки вырвалась на свободу, улетела за тридевять земель со своей любовью и теперь гибнет: чайка «закружилась на месте, сложила крылья – и, как подстреленная, с жалобным криком пала куда-то». «Пала» здесь неспроста, падение – это еще одно ключевое слово для Елены, которая с традиционной точки зрения «пала», соблазнив любимого до брака; Тургенев напоминает читателю об этом проблематичном глаголе, когда героиня говорит Инсарову: «Моя жизнь падала и поднималась вместе с твоей». Помимо всего, это и предвестие гибели самой Елены.
Традиционные символы. Комната Инсарова на Арбате украшена громадной клеткой, подвешенной под самый потолок; в этой клетке когда-то жил соловей. Казалось бы, эта деталь не играет никакой роли, кроме указания на аскетичность обстановки. Однако в истории искусства, у малых голландцев пустая птичья клетка (чаще всего открытая) – это привычная аллегория потерянной невинности. Вспомним, что именно в комнате Инсарова Елена отдается ему до брака.
Гоголевские «инкрустации» в «Накануне». Тургенев-прозаик рос под влиянием Гоголя, пока не почувствовал, что «гоголевский сапог жмет»[41 - Тургенев писал: «Знаю, o? le soulier de Gogol blesse» (где жмет сапог Гоголя) – письмо Боткину 17 июня 1855 г. – Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма: В 18 т. Т. 3. Письма (1855–1858). Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Наука, 1987. № 408.]. Но, так или иначе, и способы характеризации, и передача характерной речи, и шутливая номинация, и вообще объективация персонажа с позиции «сверху вниз», и даже пейзажи у раннего Тургенева настояны на Гоголе. При этом не надо забывать и целые эпизоды, когда Тургенев «переписывает» Гоголя по-своему, из которых наиболее известный – Фимушка и Фомушка в «Отцах и детях» – реинкарнация «Старосветских помещиков». В «Накануне» тоже, кажется, попали гоголевские мотивы. Например, отставленный Еленой, обозленный Шубин едет в гости к меценату семьи Стаховых и своему, весело дерзит ему, и весь эпизод кончается совершенно по-гоголевски:
А Шубин действительно поехал к князю Чикурасову, которому наговорил, с самым любезным видом, самых колких дерзостей. Меценат из казанских татар хохотал, гости мецената смеялись, а никому не было весело, и, расставшись, все злились. Так два малознакомых господина, встретившись на Невском, внезапно оскалят друг перед другом зубы, приторно съежат глаза, нос и щеки и тотчас же, миновав друг друга, принимают прежнее, равнодушное или угрюмое, большею частию геморроидальное, выражение (3, 47).
Это типичное для Гоголя гомеровское сравнение, и само слово «геморроидальный» как бы служит здесь вместо гоголевского росчерка – см. «Шинель»: «с цветом лица что называется геморроидальным…»
В романе также есть целый гоголевский эпизод, когда Инсаров решает – ради Елены – свернуть с прямой дорожки и приобрести фальшивый паспорт за взятку. Он намерен обсудить это с «отставным или отставленным прокурором, опытным и старым докой по части всяких секретных дел» (3, 112), но не застает того дома, простужается под дождем и в результате заболевает. Но ему приходится посетить прокурора и вторично:
На следующее утро Инсаров, несмотря на довольно сильную головную боль, вторично отправился к отставному прокурору. Отставной прокурор выслушал его внимательно, понюхивая табачок из табакерки, украшенной изображением полногрудой нимфы, и искоса посматривая на гостя своими лукавыми, тоже табачного цвету, глазками; выслушал и потребовал «большей определительности в изложении фактических данных»; а заметив, что Инсаров неохотно вдавался в подробности (он и приехал к нему скрепя сердце), ограничился советом вооружиться прежде всего «пенензами» и попросил побывать в другой раз, «когда у вас, – прибавил он, нюхая табак над раскрытою табакеркою, – прибудет доверчивости и убудет недоверчивости (он говорил на о). А паспорт, – продолжал он как бы про себя, – дело рук человеческих; вы, например, едете: кто вас знает, Марья ли вы Бредихина или же Каролина Фогельмейер?». Чувство гадливости шевельнулось в Инсарове, но он поблагодарил прокурора и обещался завернуть на днях (3, 112–113).
Это сгусток гоголевских общих мест – прокурор с табакеркой словно вылез из «Мертвых душ» или из «Шинели» (там рисунок на табакерке заклеен), и табачного же цвета глазки, и пародия на бюрократический язык: «большей определительности в изложении фактических данных» (у Гоголя Нос говорит: «Изъяснитесь удовлетворительней»), и выражения профессионального мошенника: «прибудет доверчивости и убудет недоверчивости», и эвфемизмы: «пенензы», и приплетенные ни к селу ни к городу, казалось бы, просто для красоты (как в списке «мертвых душ», который читает Чичиков) имена Марья Бредихина и Каролина Фогельмейер.
Бред. Но гоголевское начало – это еще и фантастика, чудеса, загадочные, мрачные и таинственные явления. В ту же ночь виртуальная Марья Бредихина материализуется как бред Инсарова, в котором участвует и прокурор, и такая же фантомная Каролина Фогельмейер:
Как раздавленный, навзничь лежал он, и вдруг ему почудилось: кто-то над ним тихо хохочет и шепчет; он с усилием раскрыл глаза, свет от нагоревшей свечки дернул по ним, как ножом… Что это? Старый прокурор перед ним, в халате из тармаламы, подпоясанный фуляром, как он видел его накануне… «Каролина Фогельмейер», – бормочет беззубый рот. Инсаров глядит, а старик ширится, пухнет, растет, уж он не человек – он дерево… Инсарову надо лезть по крутым сучьям. Он цепляется, падает грудью на острый камень, а Каролина Фогельмейер сидит на корточках, в виде торговки, и лепечет: «Пирожки, пирожки, пирожки»[42 - Петербургский немец в восприятии середины века должен быть булочником, как в «Евгении Онегине»: «И немец-булочник не раз / Уж отворял свой васисдас», то есть окошечко, через которое шла торговля.], – а там течет кровь, и сабли блестят нестерпимо… Елена!.. И все исчезло в багровом хаосе (3, 114–115).
Этот фрагмент бреда перепутывает три темы: впечатление от недавней встречи с прокурором, сигналы организма о боли в груди – начинающейся болезни, во сне выразившейся как царапанье об острые камни, и кровь и сабли из неотступной мысли о войне на родине героя, куда он должен ехать, но все никак не может попасть. Словесное наполнение этого эпизода также выказывает гоголевское влияние: поэтическая инверсия в первой, ритмизованной строке; слова-сигналы, означающие вторжение сверхъестественного: «вдруг», «почудилось»; и экзотическое название ткани «тармалама»; и инвазия авторской речи, риторический вопрос: «Что это?», и примитивная метаморфоза: «он уже не человек – он дерево…», и следующая фраза – «Инсарову надо лезть по крутым сучьям». Она вторит сну Ивана Федоровича Шпоньки, которому то говорят, что он колокол, то, что он «должен прыгать, потому что [он] теперь уже женатый человек»; и романтическое словцо для смены планов: «а там».
Из Гоголя забрела в роман и гостья Стаховых – соседка протопопица:
очень хорошая и почтенная женщина, но имевшая маленькую неприятность с полицией за то, что вздумала в самый припек жара выкупаться в пруду, близ дороги, по которой часто проезжало какое-то важное генеральское семейство (3, 85).
Здесь скоромный намек сочетается с иронической похвалой – очень похоже на то, как аттестуется в той же «Шинели» «Арина Семеновна Белобрюшкова, женщина редких добродетелей». Важный генерал – это, конечно, «значительное лицо» из «Шинели».
4. Тургеневская Венеция: между поздним романтизмом и импрессионизмом
Одним из самых прославленных тургеневских описаний было описание Венеции в «Накануне», подготавливающее по контрасту потрясающий эмоциональный эффект, когда на беспечальном фоне весенней Венеции появляется умирающий герой:
Был светлый апрельский день. <…>
Кто не видал Венеции в апреле, тому едва ли знакома вся несказанная прелесть этого волшебного города. Кротость и мягкость весны идут к Венеции, как яркое солнце лета к великолепной Генуе, как золото и пурпур осени к великому старцу – Риму. Подобно весне, красота Венеции и трогает и возбуждает желания; она томит и дразнит неопытное сердце, как обещание близкого, не загадочного, но таинственного счастия. Все в ней светло, понятно, и все обвеяно дремотною дымкой какой-то влюбленной тишины: все в ней молчит, и все приветно; все в ней женственно, начиная с самого имени: недаром ей одной дано название Прекрасной. Громады дворцов, церквей стоят легки и чудесны, как стройный сон молодого бога; есть что-то сказочное, что-то пленительно странное в зелено-сером блеске и шелковистых отливах немой волны каналов, в бесшумном беге гондол, в отсутствии грубых городских звуков, грубого стука, треска и гама. «Венеция умирает, Венеция опустела», – говорят вам ее жители; но, быть может, этой-то последней прелести, прелести увядания в самом расцвете и торжестве красоты, недоставало ей. Кто ее не видел, тот ее не знает: ни Каналетти, ни Гварди (не говоря уже о новейших живописцах) не в силах передать этой серебристой нежности воздуха, этой улетающей и близкой дали, этого дивного созвучия изящнейших очертаний и тающих красок. <…>
Ночь уже наступила, светлая, мягкая ночь. Те же дворцы потянулись им навстречу, но они казались другими. Те из них, которые освещала луна, золотисто белели, и в самой этой белизне как будто исчезали подробности украшений и очертания окон и балконов; они отчетливее выдавались на зданиях, залитых легкой мглою ровной тени. Гондолы с своими маленькими красными огонечками, казалось, еще неслышнее и быстрее бежали; таинственно блистали их стальные гребни, таинственно вздымались и опускались весла над серебряными рыбками возмущенной струи <…>
О, как тиха и ласкова была ночь, какою голубиною кротостию дышал лазурный воздух, как всякое страдание, всякое горе должно было замолкнуть и заснуть под этим ясным небом, под этими святыми, невинными лучами! (3, 148, 152–153).
Из чего же построил Тургенев свою Венецию?[43 - См. прекрасную книгу Нины Меднис «Венеция в русской литературе» (Новосибирск, 1999), где суммированы источники и составляющие этой темы.] Каков ближайший генезис этих знаменитых «purple passages»[44 - Куски прозы, обычно описательные, изобилующие эпитетами и метафорами, притягивающие к себе внимание и замедляющие развитие сюжета – часто со значением «излишней украшенности».] в финале его романа «Накануне»?
Встретившись во Франции с Виардо после шестилетней разлуки, писатель, удрученный этой встречей, впал в угнетенное состояние, которое задало пессимистический настрой его книги. После Парижа в 1857 году он прожил полгода в Риме, а на пути оттуда в конце марта – начале апреля 1858 года посетил Венецию, направляясь в Вену лечиться (Тургенев считал, что тяжело болен). Вот биографическая подоплека романного трагического контраста: смертельная болезнь на фоне торжества весны и красоты.
В истории о болгарском инсургенте Венеция появляется неожиданно для читателя. Однако идея уморить своего героя именно там принадлежала уже болгарину Каратееву, автору известного исходного претекста «Накануне» – рукописной повести, которая попала к Тургеневу. Возможно, дело тут в славянской составляющей, которая входила в образ Венеции, расположенной возле той самой Далматии – Иллирии, где в 1840-х годах вырабатывались идеи «славизма»[45 - Упоминаемая в романе Зара (ныне хорватский город Задар) была венецианским форпостом против Османской империи, с падением Венеции попала под власть австрийцев, а в середине XIX века стала центром славянского культурного и политического возрождения.]. И конечно, общим и понятным для славян, собирающих силы против собственных оккупантов-турок, было национально-освободительное движение Гарибальди.
Все же тему «смерть в Венеции» открыл сам Тургенев, начав традицию, которую продолжат Чехов («Рассказ неизвестного человека») и Томас Манн. История венецианского мифа для XX века описана гораздо лучше, чем для середины XIX-го. Так или иначе, в тургеневской Венеции отсутствует традиционный миф города, чудесно рожденного из моря (в подтексте, конечно, каламбур Venus/Venice); нет там ее и как девы-справедливости, законом укротившей злые стихии, девы – покровительницы личной и религиозной свободы, защитницы искусства, роскоши и веселья; нет и предромантического мифа Венеции как средоточия разврата и интриги. Меня заинтересовали совсем другие общие места – те, которых пока еще не было у Гете и Шиллера, у Бекфорда и Гофмана, но которые зато обильно будут представлены в литературе модернистской. Откуда они взялись?
Одним таким шаблоном модернистских описаний Венеции как «руин, прекрасных в своем умирании» мы обязаны «Паломничеству Чайльд Гарольда» Байрона, где Венеции посвящена песнь IV: там говорится как бы об Италии вообще, но именно по поводу Венеции:
XXVI
…
Even in thy desert, what is like to thee?
Thy very weeds are beautiful, thy waste
More rich than other climes’ fertility;
Thy wreck a glory, and thy ruin graced
With an immaculate charm which cannot be defaced[46 - Byron, George Gordon. The Works of Lord Byron. London; New York: Coleridge; Scribner. Vol. II. 1899. Р. 274. «Земной эдем, обитель красоты, / Где сорняки прекрасны, как цветы, / Где благодатны, как сады, пустыни, / В самом паденье – дивный край мечты, / Где безупречность форм в любой руине / Бессмертной прелестью пленяет мир доныне» (Байрон Дж. Г. Соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1974. С. 252. Пер. В. Левика).].
Далее, в строфе XXVII, Байрон запечатлел, помимо того, роскошь романтического пейзажа, детали которого также превратятся в клише у позднейших авторов: закат солнца над морем и луна: «The moon is up, and yet it is not night – Sunset divides the sky with her», лазурный воздух: «the azure air» и голубые горы: «blue Friuli’s mountains», а в следующей строфе – глубокие оттенки пурпура: «The deep-dyed Brenta» (букв.: «глубоко окрашенная Брента»); «The odorous purple of a new-born rose» (букв.: «пахучий пурпур новорожденной розы»)[47 - Byron. Op. cit. Что касается пейзажной живописи у Байрона: писатель, пионер неоготики Уильям Бекфорд (1760–1844), ученик замечательного английского пейзажиста Казенса (Alexander Cozens, 1717–1786), в своем прославленном травелоге «Мечтания, путевые мысли и происшествия» (1783) пишет о лилово-зеленых волнах и перечисляет оттенки заката за тридцать с лишним лет до Байрона (чье описание относится к 1816–1817 годам) – тогда это еще не было общим местом; считается, что закат в Венеции вошел в моду отчасти благодаря именно Бекфорду.].
Венеция как таковая у Байрона уже почти исчезла, она пуста – а потому во многом так фантастична: это волшебный город сердца («a fairy city of the heart» (строфа XVIII), который поэт населил литературными персонажами.
В отличие от энциклопедического пафоса «Чайльд-Гарольда» познавательный и туристический момент тургеневской Венеции сведен к минимуму: она вся создана из импрессионистических, совершенно субъективных пейзажей – светлого дневного и лунного ночного. Очевидным камертоном для этой субъективности Тургеневу отчасти послужила пятая глава «Консуэло» (1843) Жорж Санд – например, следующее описание Венеции:
…ночью, когда все смолкает и кроткая луна струит свой беловатый свет на каменные плиты, все эти дома разных эпох, прилепившиеся друг к другу без симметрии и без претензии, с таинственными тенями в углублениях, являют собой картину бесконечно живописного беспорядка <…>. Все хорошеет под лунными лучами[48 - Жорж Санд. Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. Л., 1972. С. 34.].
В тексте Тургенева применительно к Венеции также упоминается кротость: «кротость и мягкость весны идут к Венеции» (3, 148); «какою голубиною кротостию дышал лазурный воздух» (3, 153). Акцентируется и тема таинственности: «как обещание близкого, не загадочного, но таинственного счастия» (3, 148); «таинственно блистали их (гондол. – Е. Т.) стальные гребни, таинственно вздымались и опускались весла» (3, 152).
Тургенев заметил и лунный свет, «беловатый» у Жорж Санд: ему соответствует в «Накануне» «золотисто белели». Кажется, он вспомнил и ее замечание о двойной метаморфозе Венеции в лунном свете, который то неузнаваемо меняет ее, то приукрашивает. В «Накануне» то же явление выглядит так:
Ночь уже наступила, светлая, мягкая ночь. Те же дворцы потянулись им навстречу, но они казались другими. Те из них, которые освещала луна, золотисто белели и в самой этой белизне как будто исчезали подробности украшений и очертания окон и балконов; они отчетливее выдавались на зданиях, залитых легкой мглою ровной тени (3, 152).
В одной из венецианских новелл Жорж Санд, «Орко» (1837), мы находим гимн одухотворенности, легкости, танцующей природе Венеции:
…вы, воздушные колоннады, трепещущие в туманной дымке; вы, легкие шпили, вздымающиеся среди корабельных мачт; <…> о, мириады ангелов и святых, словно танцующие на куполах, взмахивая своими мраморными и бронзовыми крыльями, когда морской ветерок касается нашего влажного чела…[49 - Жорж Санд. Указ. изд. Т. 6. Л., 1973. С. 642–643.]
Легкость Венеции превозносит и Тургенев: «Громады дворцов, церквей стоят легки и чудесны, как стройный сон молодого бога» (3, 148).
Жорж Санд пишет: «о, вы, дворцы, служившие некогда обиталищем фей и поныне овеянные их волшебным дыханием»[50 - Там же.]. Тему волшебства включает и Тургенев: «вся несказанная прелесть этого волшебного города» (3, 148); тут надо вспомнить байроновский «fairy city» (см. выше) – fairy значит одновременно принадлежащей феям и волшебный. В тургеневской Венеции тоже «есть что-то сказочное» (3, 148), только легкомысленных французских фей тут заменяет «молодой бог» – широкая аллюзия на одновременно античные и раннехристианские истоки венецианской культуры.
Еще одним претекстом Тургенева кажется мне знаменитая трехтомная книга Джона Рескина «Камни Венеции» (1851–1853). Рескин открыл непреходящую эстетическую ценность Венеции для Нового времени. Уже в первой главе он писал о Венеции как о мираже, отражении, контуре, исчезающем в небе:
…призрак на морских песках, такая слабая – такая тихая, – такая лишенная всего, кроме своей прелести, что мы вправе сомневаться, глядя на ее слабое отражение в мираже лагуны, где тут Город, и где его Тень <…> история, которая, несмотря на труды бесчисленных летописцев, остается неопределенным и спорным контуром, – очерченным ярким светом и тенью, как дальний край ее океана, где прибой и песчаный берег сливаются с небом[51 - Ruskin John. The Stones of Venice / Ed., int. by Jan Morris. Boston; Toronto, 1981. P. 33. Ср.: Меднис Н. Венеция в русской литературе. С. 75.].
Та же романтическая тема растворения, слияния с далью, то есть исчезновения как эстетической ценности, раскрывается и у Тургенева: она выражена во фразе об «этой улетающей и близкой дали», в упоминании вслед за тем в том же предложении «тающих красок» (3, 149). Сами слова разыгрывают здесь эффект слабеющего эха (улетающей… тающих…), как бы наглядно иллюстрируя идею угасания. В другом месте тургеневского романа лунный свет дематериализует здания: «в самой этой белизне как будто исчезали подробности украшений и очертания окон и балконов» (3, 152).
Перейдя затем к поиску собственно русских претекстов, я с некоторым удивлением убедилась, что живую пластику Венеции Тургенев по всей очевидности взял из гоголевского «отрывка» «Рим» (1841). (Вспомним – в Венецию он попал именно после полугода, проведенного в Риме, где его обращение к этому сочинению было вполне естественным.) При этом выжимку из гоголевской Италии и романтической венецианской темы он сконцентрировал на трех-четырех страницах.
Затем пришлось поставить это впечатление под вопрос. Сама общность итальянской темы – не навязывала ли перекличку реалий? К 1842 году, когда писался «Рим», идея Венеции, «прекрасно умирающей» (243)[52 - Гоголь Н. В. Рим // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Л., 1938. Т. III. C. 243. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.], давно стала штампом, неизбежно привязанным к названию города. Поэтому и у Тургенева сказано: «Венеция умирает, Венеция опустела» (3, 148). Эстетика развалин – это (пред)романтическое общее место[53 - Ср. «Отрывки из дорожных заметок по Италии» (1835) В. П. Боткина: «Спешите, спешите насмотреться на красавицу; скоро отцветет она: смертная болезнь точит ее сердце. Красота ее грустна, но в ее томных, заплаканных очах сверкает еще страсть, пламенные порывы еще волнуют болезненную грудь эту…» (В. Б-н. Отрывки из дорожных заметок по Италии // Московский наблюдатель. 1839. Ч. I. Январь. Кн. 1. Отд. II. С. 224).], ср. выше байроновскую цитату. Но Тургенев обновляет штамп, делая следующий шаг – к эстетизации самого увядания, к предпочтению умирания: фраза «быть может, этой-то последней прелести, прелести увядания в самом расцвете и торжестве красоты, недоставало ей» (3, 148) звучит уже по-новому, чуть ли не по-декадентски.
Тургенев сравнивает Венецию с Генуей и Римом. Типологии городов – вообще отличительная черта физиологического очерка, многие черты которого есть в «Риме». Перечисления, сравнения, оценки итальянских городов – один из самых распространенных штампов итальянской темы. Ср., например, у В. П. Боткина: «В неге ее (Венеции. – Е. Т.) объятий вы забудете и великий Рим, и упоительный Неаполь»[54 - Там же.]. Вспомним, что и в гоголевском «отрывке» духовное знакомство героя-князя с Италией начинается именно с Генуи. Венеция же у Гоголя только дважды, очень кратко упоминается в сравнениях и вообще в сюжете не задействована.
Оба текста цитируют пушкинское «Адриатические волны, / О Брента! нет, увижу вас!»[55 - Пушкин А. С. Евгений Онегин // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 17 т. Т. 6. М., 1937. С. 25.]. Ср.: Тургенев: «Адриатика катила перед ними свои мутно-синие волны» (3, 146); Гоголь: «Стои?т Венеция, отразив в Адриатические волны свои потухнувшие дворцы» (241).
Описывая Венецию, Тургенев применяет фразу «в самом расцвете и торжестве красоты» к городу. У Гоголя подобным образом говорится о женщине: «чтобы ярче выказать торжествующую красоту» (218). «Рим» строится на том, что женщина описывается теми же словами, что город. (Для русского языка женственность Рима, вообще города не стыкуется с грамматическим родом, но в латыни и итальянском, как и во многих других языках, слово «город» – женского рода.) У Тургенева Венеция, в полном соответствии и с русским языком, и с традиционным венецианским мифом, женственна: «всё в ней женственно, начиная с самого имени: недаром ей одной дано название Прекрасной» (3, 148; имеется в виду стойкое наименование «La bella Venetia»).
А вот еще один знаменитый романтический топос – Венеция порабощенная, гневно и страстно описанная у Байрона. Этот топос присутствует и у Гоголя: итальянцы «с негодованием глядели на ненавистный белый мундир австрийского солдата» (221). У Тургенева метонимия мундира развернута в эпизод, сам мундир из собирательного превратился в единичный и реальный: «– Aufgepasst![56 - Берегись! (нем.)] – крикнул сзади их надменный голос. Раздался глухой топот лошадиных копыт, и австрийский офицер, в короткой серой тюнике и зеленом картузе, проскакал мимо их. Инсаров помрачнел» (3, 147).
Общими местами и у двух этих авторов, и, несомненно, вообще для венецианской темы являются некоторые реалии: темы мрамора, дворцов, гондолы с гондольером в характерной позе: «поникший» у Гоголя («когда поникший гондольер влечет его под пустынными стенами», 241), «падавший на <…> весло» у Тургенева: «скользила острогрудая гондола, мерно покачиваясь при каждом толчке падавшего на длинное весло гондольера» (3, 146). Тургенев отмечает известную венецианскую реалию – это город, где внутри тесно застроенных кварталов не могло быть наземного уличного движения, сообщение было только водное, поэтому там царила тишина: он использует те же слова, что и Гоголь; но только Гоголь говорит их о Генуе: «Его поразила эта теснота между домами, высокими, огромными, отсутствие экипажного стуку» (230). Тургенева тишина в Венеции восхищает и удивляет: «есть что-то сказочное, что-то пленительно странное <…> в бесшумном беге гондол, в отсутствии грубых городских звуков, грубого стука, треска и гама» (3, 148). У Гоголя тишиной наделен застойный Рим: он отмечает «какое-то невидимое присутствие на всем ясной, торжественной тишины, обнимавшей человека» (234). У Тургенева в «Накануне» говорится о тишине Венеции: «Всё обвеяно дремотною дымкой какой-то влюбленной тишины» (3, 148), и в этой тишине, как и у Гоголя, есть что-то от женской ласки. Там, где у Гоголя немые поля («Прекрасны были эти немые пустынные римские поля, усеянные останками древних храмов, с невыразимым спокойством расстилавшиеся вокруг», 238), – у Тургенева столь же немая волна каналов: «в зелено-сером блеске и шелковистых отливах немой волны каналов» (3, 148).
Очевидно, что у обоих текстов общие эстетические установки. В обоих изобильно представлены типичные для романтической риторики эпитеты: слова «чудный», «странный», «дивный» и др., восходящие к Гофману и Жуковскому. Ценностная шкала также во многом однородна; у Гоголя маркируется строгость, строгое величье: «дворец, дышавший строгим, сумрачным величием» (234); «присутствие архитектуры и строгое ее величие как художества» (235); «над блещущей толпой домов и крыш, величественно и строго подымалась темная ширина колизейской громады» (258); строгое спокойствие: «Следы строгого спокойствия и тихого труда» (238). И Тургенев ценит строгость в эстетике. Этот эпитет у него описывает картину: «строгая и святая картина старика Чимы де Конельяно[57 - Чима де Конельяно (1459–1517 или 1518) – венецианский живописец. Скорее всего, имеется виду его «Пьета», которая, наряду с «Неверием Фомы», находится в галерее Академии.]» (3, 149).
Оба автора превозносят гармонию (согласие, созвучие, строй) облюбованного города. У Гоголя «вся проникается чудным согласием обнимающая ее (Аннунциату. – Е. Т.) окрестность» (217); говорится о странном складе тела немцев, лишенном «стройного согласия красоты» (222), в римском пейзаже воспета непередаваемость «чудного согласия и сочетанья всех планов этой картины» (259). Причем присутствие по соседству романтических эпитетов «странный» и «чудный», обычно привносящих оккультные обертоны, подчеркивает сверхценность, божественность самого феномена гармонии.
Совершенно тот же смысл мы видим у Тургенева: вместо «чудный» он может использовать «дивный», а вместо «согласия» – «созвучие»: «ни Каналетти, ни Гварди[58 - Каналетто (Джованни Антонио Каналь, 1697–1768), Франческо Гварди (1712, Венеция – 1793) – венецианские пейзажисты (т. наз. ведутисты, от итал. ведута – пейзаж).] (не говоря уже о новейших живописцах) не в силах передать <…> этого дивного созвучия изящнейших очертаний и тающих красок» (3, 148–149). Оба автора передают тот же смысл «гармонии» и эпитетом «стройный». Гоголь говорит о «стройном согласии красоты» (222), Тургеневу же Венеция напоминает «стройный сон» (3, 148).
В обоих текстах педалируется романтическая невыразимость (введенная в русскую литературу Жуковским), которая, как известно, входит в «канон романтизма»: «поля, усеянные останками древних храмов, с невыразимым спокойством расстилавшиеся вокруг» (238); «небо над ними было уже не серебряное, но невыразимого цвета весенней сирени» (239); «Долго, полный невыразимого восхищенья, стоял он пред таким видом» (239); «Ни словом, ни кистью нельзя было передать чудного согласия и сочетанья всех планов этой картины» (259). Вариант того же смысла превосходной степени – «непостижимый»: «Эта играющая пестрота домов, церквей и дворцов на тонком небесном воздухе, блиставшем непостижимою голубизною, была единственна» (230); «Последний мелкий архитектурный орнамент, узорное убранство карниза – все вызначалось в непостижимой чистоте» (259). Но и тургеневский повествователь в том же ключе не в силах передать своих впечатлений: «ни Каналетти, ни Гварди (не говоря уже о новейших живописцах) не в силах передать этой серебристой нежности воздуха» (3, 148); «Кто не видал Венеции в апреле, тому едва ли знакома вся несказанная прелесть этого волшебного города» (Там же).
В обоих текстах в том же смысле сверхценности фигурирует слово «неувядаемый»: у Гоголя «блещет неувядаемой кистью плафон» (236), у Тургенева – «она (Венеция. – Е. Т.) еще озолотит его неувядаемым сиянием» (148).
У обоих писателей в показе городского ландшафта акцентирована метафора полета. У Гоголя готовы улететь горы: «согласными плывучими линиями выгибаясь и склоняясь, озаренные чудною ясностью воздуха, они готовы были улететь в небо» (239), – у Тургенева улетает даль: «не в силах передать <…> этой улетающей и близкой дали» (148). Мы видели выше, что тема легкости, воздушности, полета, исчезновения Венеции задана уже в европейских (поздне)романтических претекстах.
В обоих произведениях ключевая роль принадлежит свету и световым эффектам – сиянию, сверканию. У Гоголя присутствует «светлая мгла»: «чуть приметные домы и виллы Фраскати, где тонко и легко тронутые солнцем, где уходящие в светлую мглу пылившихся вдали чуть приметных рощ» (239); «светлая груда домов, церквей, куполов, остроконечий сильно освещена была блеском понизившегося солнца» (258). У Тургенева – «светлый апрельский день» (3,146); «всё в ней (Венеции. – Е. Т.) светло, понятно» (3, 148), «светлая, мягкая ночь» (3, 152).
Типично, что даже мгла у Гоголя неполная – «светлая» (239), и у Тургенева она «легкая»: подробности украшений «отчетливее выдавались на зданиях, залитых легкой мглою ровной тени» (3, 152).
«Блеск» – вообще ведущая тема «Рима», в том числе в «парижском» эпизоде, где блеск почти всегда искусственный или метафорический. Андрей Белый подчеркивал важность этого мотива именно для «Рима»: «Весь „Р<им>“ – превосходная степень пустых категорий: света, пылания, роскоши и неизобразимых торжеств»[59 - Белый Андрей. Мастерство Гоголя. М., 1934. С. 208.]. Действительно, в отрывке само слово «блеск» встречается 20 раз, «сияние» – 10 раз, «сверкание» – дважды. При этом в соответствии с основным приемом – одними и теми же характеристиками города и женщины – люминарные эпитеты в половине случаев относятся к Аннунциате и другим римлянкам.
В том же сверхценном смысле блеск, сияние и сверкание фигурируют и в тургеневской Венеции: блеск («в зелено-сером блеске и шелковистых отливах немой волны каналов», 3, 148), сияние («она еще озолотит его неувядаемым сиянием», 3, 149), сверкание («сверкал золотой шар Доганы», 3, 149).
В романтизме приоритет скорее у света и тени, чем у краски. Свет и тень дематериализуют предметы, что ценно в романтизме с его стремлением к одухотворению. А если краска есть, то это цветообозначения часто сакральные: золото, серебро, лазурь, голубизна. У Гоголя поле пламенеет сплошным золотом; у Тургенева «золотисто белели» (3, 152) в лунном свете дворцы, уже упоминался «золотой шар Доганы» (3, 149). Гоголь в Риме увидел серебряное небо, тогда как Тургенев говорит о «серебристой нежности воздуха» (3, 148). У Гоголя: «на темнолазурном небе» (235), у Тургенева – «в лазури ее неба стояло одно темное облачко» (3, 149). У Гоголя есть «голубой воздух»: «В чудную постепенность цветов облекал их тонкий голубой воздух; и сквозь это воздушно-голубое их покрывало сияли чуть приметные домы и виллы Фраскати» (239); у Тургенева – «лазурный воздух»: «какою голубиною кротостию дышал лазурный воздух» (3, 153) – это дословно байроновский «azure air». Так что и во многих, если не всех этих случаях реминисценция двоится: несомненно, Гоголь, но вместе с тем и литературное общее место.
Тургенев вводит и характерное слово «фосфорический» (инфернально-зловещий зелено-голубой оттенок света), кажется, уже безусловно подтверждающее присутствие на заднем плане гоголевского текста; если у Гоголя мы читаем: «возносились и голубели прозрачные горы, легкие, как воздух, объятые каким-то фосфорическим светом» (259); «еще голубее и фосфорнее стали горы» (Там же) – то у Тургенева описано, как «под лучами луны на голубоватом свинце зажигались пятна фосфорического света» (3, 153). Впрочем, и этот оттенок уже присутствует в «Паломничестве Чайльд-Гарольда»: им молнии окрашивают море во время ночной грозы: «How the lit lake shines, a phosphoric sea»[60 - Byron. Op. cit. Р. 348 (букв.: «Как сияет зажженное озеро, фосфорическое море»).]. Так что и эта реминисценция может быть и гоголевской, и более широкой.
Но все же, кажется, у сравниваемых текстов есть одна бесспорная общая черточка. У Гоголя римскому народу присуща «светлая непритворная веселость, которой теперь нет у других народов» (243); у Тургенева это же чувство овладевает самими героями в музее Академии изящных искусств: «какая-то светлая веселость неожиданно нашла на них» (3, 149). Это уже похоже на прямую реминисценцию.
Порою кажется, что Тургенев повторяет и некоторые знаменательные, нечастые, но запоминающиеся слова «Рима» – и тут и там присутствуют «громады»: у Гоголя – «среди темных молчаливых, заслоненных снизу, громад» (234), «величественно и строго поднималась темная ширина Колизейской громады» (258); и даже «громадно воздымается он (Рим. – Е. Т.) среди тысячелетних плющей, алоэ и открытых равнин» (234); у Тургенева – «громады дворцов, церквей» (3, 148).
Вообще говоря, такое обилие дословных параллелей, даже при том, что большая часть их принадлежит романтическому канону, может ли быть простым совпадением? Точного ответа, разумеется, у нас нет.
Молодой Тургенев слишком сильно зависел от гоголевского художественного метода; в начале 1850-х годов он выработал наконец собственную поэтику. Стремление к объективности повествования требовало изгнания романтической риторики, маскировки очевидных мифопоэтических ходов, натурфилософии, мистики и т. д. Андрей Белый писал: «Гоголь, мало влияя на Тургенева, – таки влиял в прямом смысле: тургеневская разработка пейзажа – не что иное, как перекраска до фотографии общих линий его, прочерченных в „Мертвых душах“ (плюшкинский сад, ландшафт имения Тентетникова и т. д.)»[61 - Белый Андрей. Указ. соч. С. 284.].
Однако зрелый Тургенев в поиске эффективных выразительных средств попытался выйти за пределы этого объективизма и гладкописи. Вспомним снова Андрея Белого: «…в целом „натурализм“ продешевил себя в статике ненужного фотографизма и в нереальной олеографии, – продукте кабинетного писания с натуры»[62 - Там же.]. Что же касается Тургенева, то здесь мы не имеем в виду его обычные псевдогоголевские портреты, а иногда и целые эпизоды (например, совершенно «гоголевский» эпизод с коррумпированным отставным прокурором в том же романе «Накануне» или псевдогоголевские игры с невероятными именами) – они давно изучены. Теперь из Гоголя берутся вещи более важные – те, о которых писал Андрей Белый: «из контура Улиньки выпорхнула тургеневская героиня»[63 - Там же.]. Несомненно, Белый прав: как мы показываем ниже, от Улиньки текстуально зависит Елена, героиня «Накануне». В «Накануне» Тургенев возвращает патетику, тщательно изгнанную им до того из «Записок охотника». Тот же Белый описывал этот процесс применительно к символистам: «Парадоксально: протест против эпигонов „натуральной школы“, всем обязанной Гоголю, шел во многом и не всегда сознательно под знаменем того же Гоголя»[64 - Там же. С. 283–284.]. На сей раз Тургенев заново обратился к поздней «пламенеющей» риторике Гоголя-романтика, порой даже смешивая ее с откровенным «марлинизмом»: ср., например, помпезное тургеневское сравнение – «как стройный сон молодого бога» (3, 148).
В описании Венеции Тургенев использует общие места – европейский канон топоса «романтическая Италия», как он сложился в 1820-1830-х годах. Такое ощущение, что гоголевский «Рим» служит ему чуть ли не тезаурусом общеобязательных романтических мотивов и даже слов, которым сам Тургенев часто дает другую местную привязку или мотивировку.
Тургенев вел русскую прозу от натурализма к новому этапу, неоромантизму, вел блестяще – и вместе с тем осторожно. Вводя в «Накануне» темы феминизма и инсургентства, для современной Европы актуальнейшие, но для русского читателя шокирующе новые, он уравновесил их опорой на тексты, уже вошедшие в основной канон русской литературы.
* * *
Белый не увидел фонетической организации тургеневского повествования. Однако приведенные венецианские фрагменты насквозь пронизаны звуковым эхо. Подобно поэтическому тексту, они представляют собою переплетение звуковых лейтмотивов, основанных на близких повторах, действующих внутри фразы:
Светлый – апрельский – день; апреле – прелесть; весны – Венеции; лета-великолепной — Генуе; понятно-приветно; дремотной – дымкою; дворцов – церквей; стройный – сон – молодого – бога; сказочное – пленительно – странное, улетающей – тающих, легкой [l’o] – мглою – ровной тени и т. д.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: